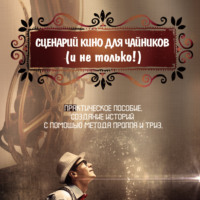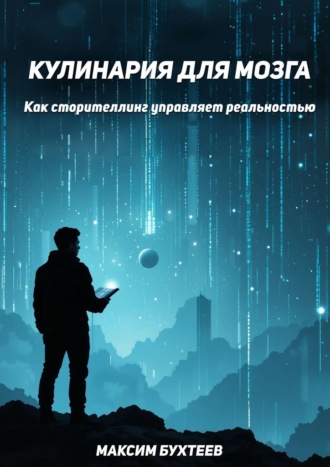
Полная версия
Кулинария для мозга. Как сторителлинг управляет реальностью

Кулинария для мозга
Как сторителлинг управляет реальностью
Максим Николаевич Бухтеев
© Максим Николаевич Бухтеев, 2025
ISBN 978-5-0067-7985-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Введение: Готовим пищу для ума
Профессионалы же, настоящие мастера, ищут принципы. Принципы, которые следуют из общих, естественных представлений о природе драматургии и отражают частную специфику конкретной задачи.
Говард Д., Мабли Э. Как работают над сценарием в Южной Калифорнии, 2017.
Все мы пишем историю своей жизни. Мы рассказываем её другим и самим себе. И это процесс с обратной связью. Любые истории, даже самые фантастические, воздействуют на реальность. Мы вносим в неё правки, корректируем сюжетные линии и выбираем финал. И этот процесс может зайти так далеко, что откровенная сказка станет былью. В ней мы будем играть ту роль, которую сами для себя придумали. Это и есть сторителлинг. То есть, искусство рассказывания историй. Об этом искусстве моя книга.
Зачем я взялся за эту работу?
Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я опубликовал книги «Как писать сценарии для кино по методу Проппа» и «Сценарий кино для чайников (и не только!)». Анализируя многочисленные читательские отклики, я подумал, что стоит не углублять, а расширять тему историй.
Я писал эти книги про кино, ведь это моя работа. И тут было несколько проблем. И при беглом взгляде они решения не имели.
Во-первых, кино – это большой и сложный бизнес. Как я неоднократно упоминал в своих работах, успех фильма зависит от множества факторов. Хотя, иной раз всё проще некуда – чем больше вложишь ресурсов, тем грандиозней успех. И это относится не только к кино, но и, например, к музыке или роликам на Youtubе.
Я бы мог много рассказать, например, о вкладе рекламы. Зачастую она перевешивает всё остальное вместе взятое! Рекламный бюджет может превышать производственный в десятки раз. Я лично работал над несколькими такими проектами. Поэтому считаю, что иногда, кроме рекламы, в фильме вообще ничего нет.
За два десятка лет, проведённых в разных департаментах маркетинга, я участвовал в сотнях рекламных кампаний и сделал более тысячи рекламных роликов. Но сейчас я не хочу углубляться в дебри. По ним бродят лишь специалисты, да и им там порой скучно.
В общем, в кино и на телевидении все факторы успеха работают только сообща. Оценить вклад именно сюжета довольно сложно. Даже в профессиональной среде споры на этот счёт идут весьма жаркие – без системного подхода тут никак.
Скажем, в департаментах телевизионного маркетинга, где я провёл не один десяток лет, ходит грустная шутка: «Если рейтинги хорошие, то это заслуга контента, а если плохие, то виноват маркетинг». Но, если говорить серьёзно, то телевизионные рейтинги конкретной передачи зависят от времени её выхода в эфир, передач конкурентов, предыдущей передачи, длительности рекламной паузы и многого другого.
Если обстоятельно и вдумчиво рассматривать всю картину целиком, то от истории мы уйдём ещё дальше. Мне же, как сценаристу, интересна именно она.
Во-вторых, истории – это не только сценарии кино. Очевидная мысль, но тема историй слишком уж обширная. Легко запутаться. А в любых рассуждениях нужно с чего-то начинать. В своих книгах я отталкивался от работ Владимира Яковлевича Проппа. Он изучал волшебные сказки и открыл функции – события, двигающие любую историю. Этот учёный ничего не писал про кино, а являлся фольклористом. То есть, он изучал устное народное творчество. Сказки, как и сценарии – всего лишь частный случай формы человеческого общения. Его сегодня называют сторителлингом. Он образован от английского слова storytelling, что дословно означает «рассказывание историй». А сторителлинг говорит о способе обработки, упаковки и подачи информации. Так кулинария рассказывает о способах подготовки пищи к её эффективному и приятному употреблению. Это, как вы понимаете, более широкий подход к историям. Он может пригодиться не только сценаристам, а вообще всем, кто часто взаимодействует с людьми.
Кроме этого, если глубоко копать тему фольклора, сказок и мифов, становится очевидна их тесная связь с реальным миром. Наши предки не просто так выдумывали свои истории. Они помогали им выживать в суровом мире. То есть, сказки приносят практическую пользу – учат базовым навыкам.
Мне очень нравится история о немецком археологе Генрихе Шлимане.
Он, кстати, довольно долго жил в России, являлся российским купцом и почётным гражданином Санкт-Петербурга.
Шлиман с детства зачитывался «сказками» о Троянской войне. Когда он вырос, то решил доказать, что всё это правда – и доказал! Ориентируясь на тексты, он нашёл Трою. Да, при этом он вёл себя как типичный авантюрист тех времён – много сочинял, занимался провокационной саморекламой и ошибался, но главный факт остаётся фактом – Троя была там, где и писал Гомер. По меньшей мере, так стали считать. Позже серьёзные учёные лишь подтвердили общие выводы Шлимана. Так вымысел стал реальностью.
Например, в эпической поэме Гомера «Иллиада» много места уделено описанию дипломатических усилий, которые прилагали обе стороны конфликта. Война была долгой и тяжёлой. Всем нужны были союзники. В тексте приводятся подробные списки участников с обеих сторон и описываются их действия. А археологи обнаружили следы дипломатических переговоров в древнеегипетских архивах. В обнаруженных документах, те, кого условно можно назвать троянцами, просили военной помощи у своих союзников. Судя по всему, такую помощь им оказали.
В научных работах я встречал идею, которую всецело поддерживаю – народные сказки, это своеобразная инструкция к жизни. И речь в них не только о простых истинах вроде: «Не дерзи просто так незнакомцу». В разной форме в сказках содержатся ответы на очень глубокие вопросы, мучающие людей – «кто мы?», «что такое добро и зло?», «в чём смысл жизни?». Сказочные ответы могут быть спорными и неоднозначными, но, по крайней мере, они заставят слушателей задуматься. А это уже кое-что.
Например, учёные, изучающие древние общества, пристально рассматривают их сказки. По ним можно многое узнать не только про мораль, но и про политику с экономикой.
Но, конечно, всё вышенаписанное относится к любым хорошим историям. Это и есть сторителлинг. Про сторителлинг написано довольно много интересных работ. Его рассматривали с разных точек зрения – искусства, педагогики, маркетинга и многих других. Но я хочу посмотреть на историю с тех позиций, которые я уже подробно изучил. Это классическая драматургия, в основе которой лежит подход Проппа. Я считаю этот подход наиболее эффективным.
Теперь надо сказать пару слов про Проппа. Почему опять он и его функции? Потому, что это не ещё один новомодный метод сценарного дела, а научная основа. Владимир Яковлевич Пропп сделал то же, что и, например, Исаак Ньютон. Они оба сформировали господствующую на тот момент научную точку зрения на предмет изучения. Методов и формул может быть много, но все они опираются на фундаментальные принципы. Только так методы и формулы будут работать. Можно ли творить без этого? Да, конечно. За тысячи лет до открытий Ньютона и Проппа люди строили механизмы и рассказывали истории. Но можно ли двигаться дальше и конструировать что-то более сложное без применения научного подхода? Нет!
Взять, например, древнегреческого учёного Архимеда. Его открытия, как и открытия Проппа, значительно опередили своё время. Но современники не смогли в полной мере воспользоваться его достижениями. Например, лишь в XX веке был обнаружен пергаментный кодекс «палимпсест Архимеда». Слово «палимпсест» обозначает рукопись, которую использовали повторно. И её история является весьма интересной и поучительной.
Примерно в 950-м году неизвестный византийский писец сделал копию работы Архимеда. Спустя два века, когда Константинополь был разграблен крестоносцами, рукопись была перевезена и Иерусалим. Там записи были смыты. Затем листы пергамента разрезали на полосы, склеили в книгу и записали поперёк старых математических формул религиозные тексты. Спустя ещё несколько веков Иерусалимская православная церковь переместила палимпсест в свою библиотеку в Константинополе. Там с книгой снова произошёл ряд неприятных приключений. Из неё вырвали одну страницу, а потом она была украдена.
Затем какой-то мошенник снова пересобрал книгу и вклеил в неё фальшивые иллюстрации, чтобы продать подороже. Учёные с трудом расшифровали исходный текст, ведь книга была повреждена пожаром и частично заплесневела из-за небрежного хранения.
Математики, изучившие текст, уверяют, что в нём Архимед сделал шаг к пониманию природы бесконечности и вплотную подошёл к открытию интегрального исчисления. Однако на два тысячелетия эта работа была забыта. Некоторые учёные уверены, что не будь этого, прогресс шёл бы значительно быстрее.
Так и с Владимиром Проппом. На мой взгляд, его функции – это весьма серьёзный шаг вперёд. Именно функции позволяют понять, как на самом деле работает любая история. И поэтому нет смысла топтаться на месте, пытаясь «изобретать велосипед». Ничего лучше функций пока не придумано. Надо использовать их и в работе и двигать искусство рассказывания историй дальше.
Почему сторителлинг?
Еще труднее этот мозг прокормить. У Homo sapiens 2—3% общего веса приходится на мозг, но в состоянии покоя мозг потребляет до 25% всей расходуемой телом энергии. Для сравнения: у других приматов мозг в состоянии покоя довольствуется всего лишь 8% общих резервов. Древние люди дорого платили за увеличенный мозг.
Юваль Харари. Sapiens. Краткая история человечества, 2022.
Будь сторителлинг лишь способом профессиональной работы с сюжетом – я бы не взялся за эту книгу. Всё, что касается основ сценарного мастерства, я уже описал. Зачем повторяться? Сторителлинг же гораздо шире. Это принципы мышления человека, а сценаристы просто используют их, чтобы их вымышленные истории воспринимались как настоящие. Нетрудно догадаться – раз сценаристы такие хитрые, то почему бы и специалистам из других областей не поступать также? Почему бы и обычным людям не использовать сторителлинг, чтобы лучше доносить свои мысли до окружающих?
Но, на самом деле, все и так используют сторителлинг. Просто не столь эффективно, как можно было бы.
Допустим, что кто-то покупает яблоки на рынке. Если этот кто-то не может сложить два и два, то будет ли работать математика? Конечно! Состоится ли сделка? Да! Просто незадачливый покупатель потратит больше денег, чем нужно. А дважды два всё равно будет четыре – независимо от того знает ли кто-то об этом или нет.
Почему же история работает лучше, чем другой способ передачи информации? Потому что именно так работает человеческий мозг. Он тратит огромные усилия на обработку входящей информации, которая поступает к нему от органов чувств. Значительная часть данных при этом вообще не воспринимается сознанием. Сочиняя истории, автор делает за мозг потребителя часть работы. А кому не понравится, когда за него работают?
История – это обработанная информация. Например, пищеварительная система тоже любит не сырую, а приготовленную пищу. Даже элементарная тепловая обработка разлагает сложные вещества на более простые. Белки мяса, рыбы, яиц денатурируются (свертываются и становятся нерастворимыми в воде). При этом, например, белки бобовых усваиваются в 2 раза эффективней (от 30 до 60%).
Из сырой пищи организм просто не может извлечь все нужные ему питательные вещества. Так и с информацией. Люди очень давно это подметили. Помните широко известную поговорку: «В одно ухо влетело, в другое вылетело»? Она как раз об этом. А история – это информация в доступной для потребителя форме, удобная для запоминания. Все любят вкусную еду и все любят хорошие истории.
Вы наверняка слышали о людях, которые умеют запоминать огромные объёмы информации – например, последовательность картинок. Один из секретов таких людей – метод историй. Он основан на том, что из абстрактных понятий выстраивается связный сюжет. Его запомнить гораздо проще, чем набор каких-то слов.
Например, если надо зафиксировать в памяти серию «аист, яблоко, мост, математик, свист», то можно быстро придумать простую историю вроде «аист нёс в клюве яблоко, сел на мост и уронил яблоко вниз на математика, который от удивления засвистел». Вот так работает даже самый примитивный сюжет.
Но, как и с едой, тут не всё так просто. «На вкус и цвет товарищей нет», – помните ещё одну меткую поговорку? На профессиональном языке маркетологов (тех специалистов, что изучают эти самые вкусы), это называется работой с целевой аудиторией. У всех вкусы разные, но всё же можно разделить людей на какие-то группы по интересам. Хотя бы пополам, как бывает на обеде в самолёте – одни любят рыбу, а другие курицу. Отталкиваясь от этого, уже можно работать дальше и придумывать, например, новые блюда или более эффективную рекламу.
В сторителлинге вопрос «рыба или курица?» – это деление по жанрам: «боевик или комедия?», «мелодрама или детектив?» и т. д. И, как показывает опыт, вкусы целевой аудитории довольно устойчивы. Уговорить человека потреблять то, что ему в принципе не нравится, хоть и можно, но довольно трудно. Народная мудрость гласит «о вкусах не спорят». И опыт это подтверждает.
У маркетологов, конечно, есть масса уловок, для того, чтобы манипулировать потребителями. Многие из их приёмов настолько эффективны, что потребитель может полностью поменять своё мнение по важному для него вопросу. При этом он совсем не заметит внешнего влияния и будет искренне уверен, что сам сделал все нужные выводы.
Но это дорого, сложно и рискованно. Обычно производитель как-то подстраивается под вкусы потребителя или, по крайней мере, учитывает их. Скажем, не надо уговаривать вегетарианца съесть стейк, а любителя комедий посмотреть боевик. Гораздо эффективней доказывать, что рыба это не мясо, а боевик вполне может быть смешным.
В прочем, это уже совсем другая тема. Я упомянул вкусы лишь для того, чтобы подчеркнуть – с этой стороны (если вы не маркетолог!) изучать вопрос бесполезно. Надо смотреть с другой позиции и пытаться понять принципы, по которым работает ЛЮБАЯ история. И если опять сравнивать сторителлинг с кулинарией, то в кулинарии одним из таких принципов является, например, термообработка. Она работает всегда, независимо от того, какое блюдо вы готовите.
Современная наука получает всё больше подтверждений того, что сторителлинг гораздо больше, чем просто слова.
Например, известный учёный Пол Зак выявил связь историй с гормоном окситоцином. Хорошая история приковывает к себе внимание, в организме выделяется окситоцин и у человека повышается эмпатия. Проще говоря, он становится более чувствительным. В таком состоянии повышается эффективность социального взаимодействия.
Мы брали у участников эксперимента анализ крови до фильма и после и обнаружили, что сюжеты, закрученные вокруг интересного героя, действительно стимулируют синтез окситоцина. Более того: от количества выработанного окситоцина зависит готовность человека помогать другим – например, жертвовать деньги на благотворительность.
Пол Зак. Статья «Почему наш мозг так любит закрученные сюжеты», 2014.
Другие учёные, например, Молли Крокетт, метко подмечают, что окситоцин работает в обе стороны – и не всегда на пользу. Он может вызывать злорадство и предвзятость, что не повышает, а снижает уровень сотрудничества.
Ну, истории, действительно, бывают разными – тут не поспоришь. Но то, что они работают, воздействуя на физиологию человека – это научный факт.
Всё напрасно?
Но почему аборигены съели Кука?
За что – неясно, молчит наука.
Владимир Высоцкий. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, 1976.
Где не работает сторителлинг?
Это довольно неприятная тема, поэтому я хочу как можно раньше с ней разделаться. Дело в том, что истории, это не какой-то универсальный волшебный метод воздействия на людей. Такого метода нет. Множество всяких модных пособий пытаются продать читателю магическую таблетку. Мне не хочется писать нечто подобное, а потому я сразу обозначу рамки, внутри которых и пойдёт наш разговор.
Итак, основной тезис, от которого я буду отталкиваться: Никакая история сама по себе не работает! Любое устное или письменное сообщение, это лишь инструмент, который служит для передачи информации от автора к получателю. Нетрудно догадаться, что успех процесса напрямую зависит от участников. То есть, например, рассказывая историю, надо учитывать, кто говорит и кто слушает.
Самый очевидный пример – статус автора. От него напрямую зависит эффективность любого сообщения. При этом качество, да и сама суть сообщения могут уйти на второй план. Вы все наверняка знаете массу расхожих штампов, которые существуют в самых разных культурах. Их детали разные, но шаблон всегда один и тот же – сокрушительная разница в общественном положении двух собеседников – разговор начальника и подчинённого, старшего и младшего и т. п. Помните шутки про подчинённых, которые вынуждены смеяться над несмешными шутками начальника? Я имею ввиду как раз такую ситуацию.
Любой, кто по каким-то причинам находится в зависимом положении, будет слушать и говорить иначе, чем в диалоге с равным по статусу. А тот, кто, скажем, отдаёт приказы, в большинстве случаев может не заботиться об их форме.
То же относится и к словам известных, да и просто харизматичных людей. Их слова всегда весят больше, чем того заслуживают по своей сути.
В прочем, я ещё коснусь этой темы позднее. Тут не всё так просто, ведь сообщение должно быть не только воспринято, но и правильно обработано, эмоционально оценено и запомнено. Успех хорошей истории измеряется её долговечностью и влиянием на реальность. Тут как вы понимаете, статуса, известности и харизмы автора явно недостаточно. Скажем, те подчинённые, кто вовсю славят начальника и жадно ловят каждое его слово, могут саботировать все его распоряжения, да и вообще ни во что не ставить своего босса. Я лично несколько раз работал в коллективах, где подобное явление приобретало совершенно разрушительный характер. В глаза никто, конечно, ничего не скажет, но как только шеф за порог – его «любимчики» начинают рассказывать про него такие гадости, что стыдно слушать. Это к вопросу о конкуренции разных историй и их эмоциональной синхронизации. Я потом ещё вернусь к этому вопросу.
Также необходимо отдельно учитывать и получателя сообщения – его целевую аудиторию. Профессионалы об этом прекрасно знают – ведь это азы их работы.
Например, в состав Нового Завета Библии входят четыре Евангелия: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Вроде бы, они все говорят об одном и том же, но разным языком. Почему так? Потому что они предназначены для разных людей. Например, Евангелие от Иоанна говорит с образованными людьми своего времени, поэтому там много философии. Самое древнее Евангелие от Матфея обращено к евреям – оно изобилует ветхозаветными цитатами. А вот Евангелие от Луки общается с народом всей Римской империи, поэтому в нём больше всего притч. Скажем, только тут есть такие известные притчи как «о милосердном самарянине» или «о блудном сыне». Самая короткая книга – Евангелие от Марка. Её целевая аудитория, это римляне, бывшие ранее язычниками.
С определения автора и получателя начинается создание любого сообщения. А зачастую, в случае ошибки, на этом всё и заканчивается. Ведь бывает так, что информация просто не передаётся или искажается до неузнаваемости.
Вы знаете такую игру «испорченный телефон»? Люди должны по очереди пересказать друг другу какую-то незнакомую историю. Каждый раз информация немного искажается. Последний человек в цепочке обычно рассказывает совсем не то, что сказали первому. Тогда складывается ситуация как в известном анекдоте:
Приходит муж с работы, а жена ему сообщает новость:
– Ты только представь, наш сосед Иванов выиграл в лотерею ВОЛГУ!!!!
Муж говорит:
– Не верю!!!
– Ну, пойди и сам спроси!
Муж уходит. Вернувшись, он говорит:
– Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три
рубля, не выиграл, а проиграл.
Да, «испорченный телефон» – забавная игра. Однако, по сути, это ещё и самый настоящий научный эксперимент. Он показывает, как может меняться сообщение в ходе своей передачи.
Но всё может быть ещё хуже, если, скажем, автор и слушатель говорят на разных языках. В этом случае сама история теряет всякий смысл. Например, подобные происшествия часто случались с разными путешественниками и первооткрывателями, которые просто не понимали, что им рассказывают местные жители. Одна из самых известных ошибок такого рода – слово «кенгуру», которое обозначает не животное, а фразу «я тебя не понимаю». Её произнесли жители Австралии в беседе с натуралистом Джозефом Бэнксом, входившим в состав экспедиции знаменитого капитана Джеймса Кука. Правда современные исследователи считают и эту версию байкой. Дескать, «кенгуру» на одном из языков аборигенов Австралии всё же животное, хоть и только определенного вида.
Недоразумение на недоразумении! Можно подумать, что это забавная мелочь, однако цепочка «недоразумений» позже и в другом месте привела к реальной трагедии – гибели Джеймса Кука. Он, кстати, вопреки словам песни Владимира Высоцкого погиб от рук туземцев вовсе не в Австралии, а на Гаити. И это уже не байка, а исторический факт.
У неправильно понятых сообщений бывают и ещё более серьёзные последствия, которые влияют на историю человечества. Например, одно из белых пятен в истории России – Корниловский мятеж, произошедший в 1917 году. Историки считают вооружённое восстание генерала Корнилова против Временного правительства ключевым в цепи событий, которые привели к власти большевиков. Однако учёные до сих пор спорят, что это было? Ведь каждый участник процесса видел всё по-своему. Лавр Георгиевич Корнилов уверял, что просто шёл на помощь правительству Керенского, чтобы защитить того от радикалов. Посредник в переговорах князь Владимир Львов уверял, что цель генерала лишь усиление власти Керенского. А Александр Керенский обвинил Корнилова в вооружённом мятеже. Со стороны же многим казалось, что это именно Керенский хочет стать диктатором.
Интересно отметить, что в ходе «мятежа» произошли и прямые переговоры по телефону между Керенским и Корниловым. Велась стенограмма, но понять что-то из неё сложно, так как дискуссия происходила в общей форме. Из всего разговора точно можно лишь понять, что Корнилов предлагает Керенскому приехать к нему в штаб для обсуждения неких действий. Никакой конкретики!
Уязвимое место сторителлинга, как и любого другого разговора в том, что у него есть двойное дно. Всё дело в контексте, то есть, в обстоятельствах, на фоне которых рассказывается история. Они могут настолько серьёзно влиять на сообщение, что оно будет восприниматься прямо противоположно тому, что в нём формально содержится. Скажем, возможно, Корнилов и правда приглашал Керенского на переговоры, но Керенский был уверен, что его хотят заманить в ловушку и арестовать.
Я лично не был в столь драматичной ситуации, но неоднократно испытывал что-то похожее. По самым разным причинам люди часто говорят совсем не то, что имеют ввиду. Они не могут, не умеют или просто не хотят говорить правду. В общем случае, это нормально, но иногда критично. В частности, такой подход сильно мешает при постановке рабочей задачи. Как узнать, что на самом деле нужно коллеге или начальнику, если он не говорит об этом? Проблема! Ведь, не получая желаемого, человек злится. Причём, конечно, не на себя, а на того, кто не смог правильно угадать его желания.
Ещё в самом начале карьеры мне пришлось срочно осваивать эту «телепатию». Дело было в 90-х годах, а я получал почасовую оплату. Если я не мог угадать желание заказчика, то мог на следующий же день просто потерять работу. Очень мотивирует, знаете ли… А угадать было непросто, ведь довольно часто указания формулировались в виде каких-то отрывочных нецензурных выражений, кряхтений или даже гримас. Ну, как собака, которая всё понимает, но сказать не может. И это был ещё неплохой вариант, ведь иногда мне поступали указания, по сути, прямо противоположные тому, что надо было сделать. Например, написано «быстро», а имеют ввиду – «дёшево». Говорят «оригинально», а на деле – «как у соседа». Заказали драму, а нужна комедия. Столкнувшись с таким явлением впервые, я был в шоке, но потом быстро привык. К сожалению, в нашей отрасли это повседневная реальность.