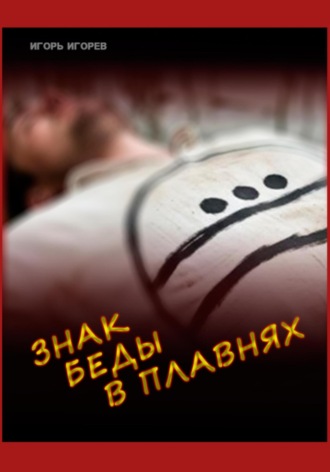
Полная версия
Знак беды в плавнях

Игорь Усиков
Знак беды в плавнях
Мир не делится на правду и ложь.
Он делится на тех, кто хочет знать —
и тех, кто умеет молчать.
Пролог.
Полуденный зной лгал. Он обещал покой, вечность, дремотную неподвижность, но Андрей Сагайдачный чувствовал подвох в самой густоте этого марева, дрожавшего над выжженной солнцем степью. Воздух, плотный и тяжелый, пах полынью и пылью. У реки, в камышовых зарослях, надсадно гудели шмели, и этот звук, вместо того чтобы убаюкивать, царапал нервы, как затупившийся нож.
Его верный конь Гром беспокойно переступил с ноги на ногу, фыркнул, стряхивая с гривы назойливого слепня. Андрей успокаивающе потрепал его по влажной шее. Конь понимал его без слов. Он тоже чувствовал – что-то неправильное затаилось в этой оглушающей тишине у берегов Сухого Ангелика.
– Да угомонись ты, Андрюха, – лениво протянул Тарас Задорожный, не отрывая взгляда от поплавка. – И сам дергаешься, и коня мучаешь. Клюет же!
Тарас был его полной противоположностью. Шумный, открытый, с вечной усмешкой в уголках губ. Для него этот зной был благословением, река – спасением, а рыбалка – лучшим делом на свете. Андрей завидовал этой легкости. Иногда.
– Не нравится мне эта тишина, Тарас. Слишком громко она молчит. – Вечно ты беду кличешь. Что случиться-то может? Деды наши тут жили, и мы живем. Землю пашем, рыбу ловим. Все, как всегда.
Андрей промолчал. Стекло хрустнуло под его сапогом – осколок винной бутылки, оставленный кем-то на берегу. Он пнул его в воду. «Все как всегда». Ложь. Последние месяцы станица жила слухами. О переделе земель, о новых налогах, о каких-то чиновниках из самой столицы, что приедут «порядок наводить». Казачьи вольности, которыми так гордились старики, трещали по швам, и каждый это чувствовал, но гнал от себя дурные мысли. Каждый, кроме Андрея. Его аналитический ум цеплялся за эти мелочи: за хмурый взгляд станичного атамана, за участившиеся сходы, за шепотки баб у колодцев.
Картина была спокойной, пасторальной. Вдалеке виднелись беленые хаты станицы Полтавской, утопающие в зелени садов. У реки паслись коровы, лениво отмахиваясь хвостами от мух. Здесь, в сердце Кубани, время, казалось, застыло. Большинство хозяйств – крепкие середняки – держались на земле. Пахали, сеяли, убирали. Иногородние, не имевшие своих наделов, занимались ремеслом: ковали, шили, чинили. Жизнь текла по вековому укладу. Но под этой видимой гладью зрел нарыв. Андрей это видел.
– Смотри! – Тарас вскочил, леска на его удочке натянулась струной.
Борьба была недолгой. Через минуту на траве забился серебристый сазан, сверкая на солнце чешуей. Тарас смеялся, гордый собой.
– Вот она, наша беда! Уха будет знатная!
Андрей лишь криво усмехнулся. Его взгляд был прикован не к рыбе, а к дальнему берегу. Там, в изгибе реки, что-то блеснуло. Не солнечный блик на воде. Что-то металлическое. Правильной формы. Он прищурился.
– Ты это видел? – Кого? Сазана? Так вот же он, красавец! – Нет. Там. У старой ивы.
Тарас проследил за его взглядом. – Да ничего там нет. Показалось тебе.
Но Андрей знал, что ему не показалось. Недоверие к праздной безмятежности было его сутью, его проклятием. Он видел то, чего другие не замечали. Тонкие несоответствия. Детали, выбивающиеся из общей картины. И этот блеск был одной из них.
Отец, старый пластун, учил его читать степь как книгу. «Не верь глазам, верь чутью, – говаривал он, – Степь всегда предупредит. Шорохом, птичьим криком, запахом чужого дыма». Этот запах чужого дыма… он напомнил Андрею о пожаре в темрюкском порту два года назад, когда сгорели склады с зерном. Все списали на неосторожность грузчиков, но Андрей видел, как за день до этого в кабаке сидели двое подозрительных, с нездешним говором. Именно поэтому он никому не верил на слово.
Они собрали улов и двинулись к станице. Гром шел ровным шагом, но уши его нервно прядали. Андрей ехал молча, прокручивая в голове обрывки разговоров, недомолвки, странные взгляды. Он чувствовал себя охотником, идущим по невидимому следу. Вот только кто был дичью, а кто – охотником, он пока не понимал.
В станице жизнь текла своим чередом. У правления стояли несколько казаков, лениво переругиваясь. Из кузни доносился мерный стук молота. Пахло свежеиспеченным хлебом и навозом. Все было обманчиво мирно. Андрей заметил, как из-за занавески в доме писаря Фаддея Кривошея метнулась тень. За ними следили? Или это снова его подозрительность?
Тарас весело помахал рукой знакомой девке у колодца, получил в ответ смущенную улыбку. Его совершенно не заботила тень в окне писаря.
– Зайдем к Лютому? – предложил он. – Говорят, он вчера с ярмарки вернулся, вина доброго привез. – Делать мне больше нечего, – отрезал Андрей. – С сотником вашим знаться – себя не уважать.
Сотник Григорий Лютый был местным воротилой. Богатый, властный, с тяжелым взглядом и хамскими замашками. Официально – опора порядка, гордость станицы. Неофициально – паук, опутавший своими сетями всех должников и нечистых на руку дельцов. Андрей нутром его не переваривал.
– Зря ты так. С ним дружить надо. – С волками дружить – без штанов остаться.
Их спор прервал нарастающий гул. Со стороны тракта поднималось облако пыли. Все разговоры стихли. Станичники, как по команде, обернулись в ту сторону. Послышался стук колес и конский топот.
В станицу въезжала дорожная коляска. Не простая бричка, а настоящая, городская, запряженная парой сытых рысаков. На козлах сидел хмурый кучер, а из окна выглядывал человек, чья внешность здесь, на Кубани, казалась инородной.
Он был одет в строгий черный сюртук, несмотря на жару. Белоснежный воротничок, начищенные до блеска штиблеты. В руках он держал саквояж из дорогой кожи. Когда коляска остановилась у правления, он вышел, брезгливо стряхивая пыль с брюк.
Это и был он. Землемер из столицы, Степан Игнатенко.
Его лицо было худым, сосредоточенным. Двигался он точно, без суеты. Он не смотрел на собравшуюся толпу, его взгляд был устремлен на здание правления, словно кроме цели не существовало ничего вокруг.
Из правления вышел атаман – грузный, с одышкой. Лицо его выражало одновременно и подобострастие перед столичным гостем, и плохо скрываемое недовольство.
– Степан Петрович? Милости просим в нашу станицу Полтавскую. – Игнатенко, – коротко поправил приезжий, и в его голосе прозвучал холодный металл. – Где я могу разместиться и приступить к работе? Мне доложили, что с земельным учетом у вас, мягко говоря, беспорядок.
Слово «беспорядок» он произнес с таким нажимом, что казаки за его спиной недовольно загудели. Он говорил об их жизни, об их земле, как о бухгалтерской книге с ошибками.
– Устранение «казачьих вольностей» – моя прямая задача, мне нужно лично проверить документы, которые могут свидетельствовать о системных нарушениях в земельных делах. Речь идёт не только о земле, а о государственной безопасности – добавил он, и эта фраза прозвучала как приговор.
Андрей встретился с ним взглядом. Глаза у землемера были светлые, почти бесцветные, и смотрели они так, будто видели не человека, а объект, который нужно измерить, оценить и занести в реестр. В этом взгляде не было ни тени сомнения, ни капли сочувствия. Только ледяная уверенность в своей правоте.
Мир Андрея, построенный на предчувствиях и догадках, обрел центр. Вот он. Камень, брошенный в их тихое болото. От него пойдут круги.
– Ну и фрукт, – прошептал Тарас, с нескрываемым любопытством разглядывая приезжего. – Долго он тут не протянет. Наши его съедят.
Но Андрей думал о другом. Такие люди не ломаются и не прогибаются. Они либо выполняют свою работу, либо…, либо их убирают с доски.
Следующие дни станица гудела, как растревоженный улей. Игнатенко, разместившись в лучшей комнате дома атамана, с утра до ночи корпел над картами и документами. Он вызывал к себе стариков, требуя показать старые межевые грамоты, которых у многих отродясь не было. Он ходил по полям со своими блестящими инструментами, вбивал колышки, что-то записывал в свою тетрадь.
Его методичность, его скрупулезность бесили казаков. Он не пил с ними горилку, не интересовался их жизнью, не признавал устных договоренностей. Он признавал только цифры и параграфы закона. И эти цифры начали складываться в очень неприятную для многих картину. Всплывали самовольные захваты общинных земель, спорные участки, которые Лютый давно считал своими, припрятанные наделы.
Недовольство сгущалось, как грозовая туча. Сначала это был ропот, потом – открытые угрозы.
– Он землю нашу под столицу забрать хочет! – кричали в кабаке. – Порядки свои городские тут вводит, ирод!
Андрей наблюдал. Он видел, как менялись лица. Видел, как сотник Лютый, столкнувшись с землемером у правления, стал белее мела, когда Игнатенко спокойно, глядя ему в глаза, сказал: «Ваш участок, господин сотник, согласно картам восемьсот сорок восьмого года, на тридцать десятин меньше, чем вы заявляете. Завтра произведем контрольный замер».
После этого разговора Лютый ускакал куда-то и не появлялся в станице два дня.
Тарас, как и многие, поддался общему настроению. – А может, и правы люди? – сказал он Андрею тем вечером, когда они чинили сбрую. – Что ему надо, этому землемеру? Жили себе и жили. – Он делает свою работу, Тарас. Может, он и неправ в своей настырности, но он честен. В отличие от некоторых. – Честность… – Тарас горько усмехнулся. Его пальцы, перебиравшие кожаный ремень, на мгновение замерли. – Знаешь, сколько за сестер моих приданого дать надо? А где его взять, если лучший кусок земли у Лютого в аренде за копейки, потому что батя мой ему должен был? Игнатенко начнет ворошить, а крайними окажемся мы, простые казаки.
Эта мимолетная тоска и сделала его глухим к предупреждениям Андрея. Тарас видел только свою беду, свою нужду, и не замечал большой игры, которая началась в станице с приездом столичного чиновника. Андрей это понял, и холодок пробежал у него по спине. Тарас был уязвим. А уязвимыми людьми легко управлять.
Через четыре дня после приезда землемера напряжение достигло предела. Игнатенко закончил предварительное обследование и объявил, что завтра на общем сходе огласит первые результаты.
Станица замерла в ожидании.
Андрей не находил себе места. Тревога, до этого бывшая лишь фоном, теперь стала невыносимой. Он снова и снова возвращался мыслями к тому металлическому блеску у реки. Что это было? Случайность? Или… знак?
Вечером он пошел к реке один. Гром следовал за ним, как тень. Андрей стоял на том же месте, где они с Тарасом рыбачили несколько дней назад. Солнце садилось, окрашивая воду в кровавые тона. Камыши стояли неподвижной стеной.
Внезапно Гром заржал. Тихо, тревожно. И уставился в одну точку. В те самые заросли у старой ивы.
Андрей медленно пошел туда. Сердце стучало где-то в горле. Он раздвинул тяжелые, влажные стебли камыша.
Запах. Первое, что он почувствовал – густой, тошнотворный запах речной тины, смешанный с чем-то еще. Сладковатым, незнакомым.
А потом он увидел.
Сначала – сапог, торчащий из воды. Потом – рука, безвольно зацепившаяся за корягу. Андрей шагнул в вязкий ил, потянул.
Тело поддалось неохотно. Это был мужчина. В знакомом черном сюртуке, теперь мокром и измазанном в грязи. Бесцветные глаза смотрели в багровое небо с немым укором. Степан Игнатенко.
Андрей похолодел. Дрожащими руками он перевернул тело. И застыл.
На груди землемера, прямо на белой рубашке, был начертан знак. Не ножом, не кровью. Чем-то черным, похожим на смолу или деготь. Странный, геометрически правильный узор. Круг, перечеркнутый двумя параллельными линиями, и три точки над ним.
Это не было похоже ни на что, виденное им ранее. Не клеймо. Не рана. Это был символ. Сообщение.
В этот момент сзади хрустнула ветка. Андрей резко обернулся, его рука метнулась к рукояти кинжала.
Из-за деревьев вышел Тарас. Лицо его было бледным, глаза лихорадочно блестели. – Андрей… я… я искал тебя.
Но его взгляд был прикован не к Андрею. Он смотрел на тело. И на знак. В его глазах не было удивления. Только ужас. И узнавание.
– Что ты здесь делаешь? – голос Андрея был глухим, чужим. – Я… – Тарас сглотнул. – Мне Лютый велел… передать тебе, чтобы ты не лез не в свое дело. Сказал… сказал, что на реке для тебя приготовили предупреждение.
Предупреждение. Андрей посмотрел на мертвое тело землемера, на жуткий знак на его груди. И перевел взгляд на Тараса, на его трясущиеся руки, на то, как он избегал смотреть ему в глаза.
И тогда Андрей понял все. Металлический блеск, который он видел. Это был не инструмент землемера. Это было что-то другое. И Тарас знал, что это. Он был здесь раньше.
В голове Андрея все рухнуло. Дружба. Доверие. Весь его мир, казавшийся незыблемым, рассыпался в прах.
– Ты знал, Тарас? – прошептал он, и в шепоте этом было больше угрозы, чем в крике. – Ты знал, что он здесь?
Тарас молчал, и это молчание было страшнее любого ответа.
Тишина кончилась. Началась буря. И Андрей Сагайдачный оказался в самом ее сердце, один на один с трупом, предателем и знаком беды, вычерченным на груди мертвеца.
Глава 1.
– Ты знал? – Голос Андрея был похож на скрежет металла по камню. Он сделал шаг вперед, и вязкий ил чавкнул под сапогом, словно издеваясь над моментом.
Тарас попятился, споткнулся о корень и чуть не упал. Его лицо в сумерках было белым, как полотно. – Нет! Клянусь, Андрей… Лютый сказал, там… там просто вещь. Для тебя. Чтобы ты понял, что лезть не стоит. Я думал, мешок с дохлой собакой, ну или… я не знаю! Но не это!
Его лепет был полон такого неподдельного ужаса, что часть ярости в груди Андрея сменилась ледяным презрением. Тарас был не соучастником. Он был инструментом. Глупым, трусливым инструментом в чужих руках.
– Чья вещь? – выдавил Андрей. – Что за предупреждение? – Не знаю! Он велел мне прийти, убедиться, что ты нашел… и передать его слова. «Пусть Сагайдачный угомонится. Земля не любит чужих следов». Всё! Больше я ничего не знаю! – Убирайся, – прошипел Андрей. – Чтобы я тебя не видел.
Тарас не заставил себя просить дважды. Он развернулся и бросился сквозь камыши, ломая стебли, унося с собой свой страх и свое предательство.
Андрей остался один. С трупом. С черным знаком, который, казалось, впитывал в себя остатки света. Горький привкус железа на языке. Он накрыл тело Игнатенко его же сюртуком и, не оглядываясь, пошел к своему коню. Предчувствие неслучайности превратилось в уверенность. Это было не убийство. Это было послание. И адресовано оно было не только станице.
Четыре дня спустя станичный атаман, Еремей Палыч, вытирал потный лоб и старательно смотрел мимо Андрея, куда-то в угол своей душной конторы, пахнущей сургучом и дешевым табаком. – Дело ясное, – пробубнил он, перекладывая бумаги. – Грабеж. Напали на проезжего человека, карманы вывернули, а он, видать, сопротивляться стал. Вот и пырнули. Бродяги какие-нибудь. Их тут по плавням шастает…
Андрей положил ладони на стол, наклонился к атаману. – А знак? Знак на груди, Еремей Палыч, это тоже бродяги от скуки нарисовали? – Мало ли дураков на свете! – Атаман наконец посмотрел на него, и в его глазах-буравчиках плескались и страх, и злость. – Детишки баловались, нашли тело да измазали. Чего ты прицепился? Человека нет, дело закрыть надо поскорее, чтоб слухов не плодить. Столице доложить, и все. Несчастный случай.
Андрей выпрямился. Он понял. Ему не просто не верили. Ему приказывали молчать. Стена. Глухая, послушная чужой воле стена. – Вы боитесь, атаман. – Я?! – Еремей Палыч побагровел. – Я за порядок в станице отвечаю! А ты смуту сеешь! Иди отсюда, Сагайдачный. И забудь про свои знаки. Целее будешь.
Выстрел. Тишина. Потом крик. Это воспоминание о стычке на кордоне обожгло память Андрея. Он помнил, как командир тогда тоже говорил: «Забудь, это был шальной огонь». А потом выяснилось, что стреляли свои, прикрывая контрабандистов. Именно поэтому Андрей не верил в «несчастные случаи» и приказы «забыть». Он вышел из правления, хлопнув дверью. Солнце било в глаза. Прошло уже четыре дня с момента страшной находки, станица жила своей жизнью, делая вид, что ничего не произошло. Но в этой видимости спокойствия сквозило напряжение. Люди боялись. А значит, знали больше, чем говорили. Ему нужен был тот, кто умел читать между строк. Тот, кто видел невидимое. Ефим Коваль.
Изба старого пластуна стояла на отшибе, у самого края степи. Внутри пахло сухими травами, деревом и пороховой гарью, въевшейся в стены за десятилетия. Ефим сидел на низкой скамье, вырезая из дерева новую рукоять для шашки. Его руки, покрытые сеткой шрамов и морщин, двигались с уверенной точностью хирурга. Глаза, выцветшие, как степное небо в августе, были острыми и живыми.
Андрей молча протянул ему лист бумаги, на котором по памяти начертил знак.
Ефим отложил нож. Взял листок, поднес близко к глазам. Долго смотрел, поглаживая седую бороду. – Где ты это видел? – На груди у землемера.
Старик поднял взгляд. Его проницательность всегда обезоруживала. Казалось, он видит не рисунок, а всю картину целиком: реку, сумерки, тело. – Это не здешнее, – сказал он наконец. Его голос был скрипучим, как старая телега. – Наши разбойнички метят проще. Крест вырежут, ухо отрежут. Это… другое. Работа чистая. Знак власти. Или… предупреждения.
– Если это знак беды, как в старых казачьих поветриях… значит, беда не только над ним – она идёт на всех нас.
Он встал, подошел к старинному турецкому сундуку, окованному железом. Порывшись внутри, извлек потрепанную кожаную папку. – Когда я на кордоне служил, под Карс ходили. Турки тоже знаки любили. У них для каждой тайной службы – своя печать. Шпионов своих так метили, когда те провалятся. Чтобы другим неповадно было. Похоже. Геометрия чужая. Холодная. Помню одного турка под Карсом. Такой же знак носил на медальоне. Тогда мы думали, просто масонщина. А теперь, гляжу, – корни те же. И под Самсуном такие были. И в Одессе – почти те же знаки. Они как мхи на камнях – растут в тени империи.
Ефим вернулся к столу, положил палец на рисунок. – Кто бы это ни был, они хотели, чтобы знак увидели. Они говорят: «Мы здесь. И мы устанавливаем правила». Не ищи того, кто убил. Ищи того, кому это послание выгодно. – Лютый, – без колебаний сказал Андрей. – Сотник – жадный дурак. Но не настолько тонкий. Он кулаком машет, а не символы рисует. Он исполнитель. Ищи кукловода. Ищи то, что землемер привез с собой. Не карты. Не указы. А то, что он прятал.
Комната, которую снимал Игнатенко, была аскетичной и пугающе опрятной. Постель заправлена по-солдатски. На столе – аккуратные стопки бумаг, геодезические инструменты, разобранные и почищенные, лежали в специальном ящике, как хирургические скальпели. Воздух был нежилым, пах только чернилами и пылью. Люди атамана уже были здесь, оставив после себя следы грубого обыска – перевернутый матрас, несколько книг, брошенных на пол.
– Дилетанты, – проворчал Ефим, оглядывая комнату. – Искали деньги. Или долговые расписки. Они начали методичный обыск. Андрей проверял бумаги, Ефим – вещи. Все было на виду. Земельные карты Кубанской области, копии приказов из Петербурга, бухгалтерские книги с расчетами наделов. Ничего личного. Ни единого письма, ни одной фотографии. Человек-функция.
Андрей взял в руки толстую книгу – «Руководство по полевой геодезии». Она казалась слишком тяжелой для своего объема. Он потряс ее. Тишина. Пролистал страницы. Ничего. Но что-то было не так. Флизелиновый корешок показался ему неестественно толстым. Он поддел его ногтем.
Под слоем ткани и клея обнаружилась тонкая металлическая пластина. С трудом отогнув ее, он увидел выдолбленную в картонном переплете нишу. А в ней – маленькая тетрадь в черном кожаном переплете, не больше ладони.
Сердце у Андрея заколотилось. Он открыл ее. Страницы были плотно исписаны не словами, а столбцами цифр и какими-то странными значками, похожими на буквы чужого алфавита. Шифр.
– Вот оно, – прошептал Ефим, заглядывая ему через плечо. – Вот из-за чего его убили.
Бумага была тонкой, хрупкой. Андрей думал о том, как недолговечны и в то же время могущественны эти листки. На них можно написать признание в любви или смертный приговор. Хранить рецепт хлеба или тайну, способную ввергнуть в хаос целый край. Эта хрупкость делала тетрадь в его руках еще более опасной.
В этот момент снаружи послышался шум. Не обычный станичный гомон. Нарастал гул голосов, послышался скрип тормозов и конское ржание. Не такое, как у казачьих лошадей. Более нервное, породное. К дому атамана подкатила коляска, запряженная четверкой вороных. Пыльная, но дорогая, с гербом на дверце. Лакей в ливрее спрыгнул с козел, открыл дверцу. Весь этот кортеж, проделавший долгий путь из столицы, выглядел в станице Полтавской так же неуместно, как боевой корабль в пруду. Из кареты вышла женщина. Она была одета во все черное. Дорожное платье, строгое, без единого украшения. Шляпка с вуалью. В ее фигуре, в том, как она держала спину, была столичная стать и холодная сдержанность. Она окинула взглядом собравшуюся толпу – с любопытством, но без страха. Казалось, она оценивала обстановку.
Атаман выбежал на крыльцо, кланяясь и суетясь. – Анна Степановна? Дочка покойного? Просим… Какая жалость, какое горе… Долго же вы добирались.
Так вот кто это. Дочь Игнатенко. Телеграмма, отправленная атаманом, достигла Петербурга, и вот, спустя почти неделю пути, она здесь.
Андрей почувствовал, как напряжение в воздухе сгустилось до предела. За ней тоже наблюдали. Он заметил в толпе двоих людей Лютого. Они не глазели, как остальные. Они работали. Оценивали. Ее. Экипаж. Багаж.
– Она в еще большей опасности, чем ее отец, – тихо сказал Ефим. – Она приехала за его архивом. И они это знают. Андрей сунул зашифрованную тетрадь за пазуху. Кожаный переплет холодил кожу.
Он вышел из дома. Он должен был поговорить с ней. Предупредить. Или хотя бы понять, кто она такая на самом деле.
Он подошел, когда она уже собиралась войти в дом атамана. – Госпожа Игнатенко.
Она обернулась. Сквозь тонкую сетку вуали на него смотрели глаза. Такие же светлые и бесцветные, как у ее отца. Но если в его взгляде был лед, то в ее – закаленная сталь. – Я Андрей Сагайдачный. Это я нашел вашего отца. Примите мои соболезнования. – Благодарю, – ее голос был ровным, без тени дрожи. Возможно, даже слишком ровным. – Атаман уже ввел меня в курс дела. Несчастный случай. Грабеж. – Это ложь.
Она на мгновение замерла. Ее взгляд стал еще острее. – Что вы хотите сказать? – Вашего отца убили. Целенаправленно. И это было не ограбление. Они искали кое-что. Я думаю… я думаю, я это нашел.
Он говорил тихо, чтобы слышала только она. Толпа гудела в нескольких шагах позади, но сейчас для них существовали только они двое. Он осторожно достал черную тетрадь. Не открывая, просто показал ей. Ее реакция была почти незаметной, но Андрей ее уловил. Ее пальцы, сжимавшие маленький ридикюль, на мгновение побелели. Она шагнула ближе. – Можно?
Он передал ей тетрадь. Ее руки в тонких перчатках не дрогнули. Она открыла первую страницу. Когда отец впервые показал ей таблицы для шифрования, ей было двенадцать. Он говорил, что это лучшая гимнастика для ума. «Слова могут лгать, Аня, – говорил он, раскладывая листы. – Но шифр честен. Если у тебя есть ключ, он откроет тебе любую правду». Именно поэтому ее пальцы не дрогнули, когда она открыла страницу. Это была не просто книга. Это была часть ее жизни.
Она смотрела на столбцы цифр и символов, и на ее лице впервые отразилось что-то, кроме холодной скорби. Профессиональный интерес. Узнавание.
Она подняла на него взгляд. И сейчас в ее глазах он увидел нечто новое. Оценку. И, возможно, тень доверия.
– Это шифр Виженера, – произнесла она почти шепотом, так, что ее слова утонули в шуме станицы. – С переменным ключом на основе фразы. Отец учил меня таким. Он говорил, это для самых важных государственных бумаг.
– Отец с детства тренировал меня. Я работала с его коллегами – неофициально. Иногда помогала дешифровать пакеты, когда не доверяли своим. Мне это казалось игрой. А теперь вот…, когда отец приносил старые радиограммы, я часами возилась с ними. Тогда это было баловство. Сейчас – выживание.
Андрей застыл. У него перехватило дыхание. Он смотрел на эту строгую, хрупкую на вид женщину, и понимал, что весь его мир только что снова перевернулся.
Анна тихо произнесла:
– Я знаю коды, но не знаю, выдержу ли то, что в них скрыто.
Она была не просто скорбящей дочерью, приехавшей за телом отца. Она была ключом к шифру. А это означало, что теперь, как и ее отец, она была главной мишенью.
Глава 2.
На следующий день комната покойного землемера превратилась в штаб. Или в тюрьму. Андрей еще не решил. Запах пыли смешивался с горьким ароматом крепкого чая, который они пили молча, сидя друг против друга за узким столом. Солнечный луч, пробившийся сквозь мутное стекло, высвечивал мириады кружащихся пылинок. На столе лежала тетрадь. Их единственная надежда и, возможно, их смертный приговор.









