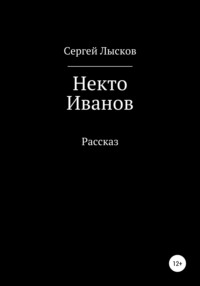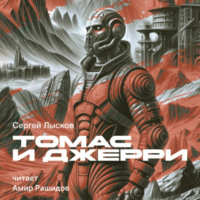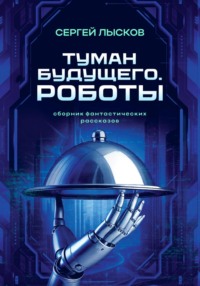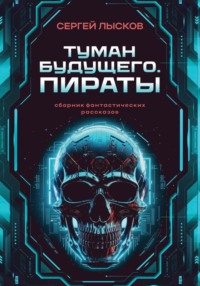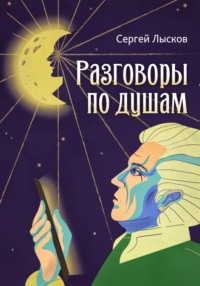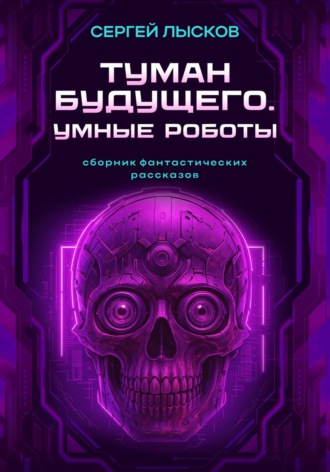
Полная версия
Туман будущего. Умные Роботы
Дома, после приятного ужина в кругу семьи, уставший и отрешенный, я без особых надежд листал ленту литературного сайта. По телевизору монотонно бубнил диктор политического ток‑шоу, супруга на кухне раскладывала вымытую посуду. Обычный семейный вечер.
– Не может быть, – прошептал я, когда на популярной интернет‑площадке мне предложили купить монографию Рядова за пятьсот рублей.
И я купил эту книгу, тот я, молодой специалист. Её доставили быстро. Бордовая однотонная обложка, триста семьдесят шесть страниц текста плюс все стандартные атрибуты печатной продукции. Читать этот педагогический труд я не стал, для начала необходимо было убедиться, что именно эту книгу написал пациент. Мало ли Рядовых С.А. в мире?»
– Еще один дословный эпизод аудиозаписи приема:
«– Вы всё еще думаете, что я психически больной? – грустно выдохнул Семён Александрович.
– А как вы думаете, почему вы здесь?
– Заговор! – очень уверенно ответил он. – Я неудобен верхушке власти, а самый верный способ оболгать и опорочить честное имя – это признать человека невменяемым.
– В одной из наших бесед вы упоминали о печатной монографии, напомните ее название?
– «Человек. Инструкция по применению», – уверенно ответил пациент.
– Вот как?! – немного растерянно произнес я. – Почему такое необычное название для книги по педагогике? Вам не кажется это странным?!
– Ни капли, – ответил пациент. – В книге я рассказал, как правильно обучить школьника, без бюрократов. И мы как вид просто обязаны обучать будущие поколения по моей схеме.
– Занятно, а как выглядит книга?
– Без пафоса. Стандартный шрифт, бордовая обложка. Хотите, я перескажу главные принципы?
И он в течение часа с придирчивой достоверностью рассказывал все, что помнил. Окончив прием, тот я был в смятении: идеи, изложенные гражданином Рядовым, были логичны, и, мало того, они мне нравились, получалось, книга не отображала структуру бреда. Оставалось лишь прочитать монографию и соотнести написанное с услышанным.
Вечером, приготовив глинтвейн, тот я решил погрузиться в творчество Рядова. Книга была написана очень грузным, витиеватым языком с обилием сравнений и сложных речевых оборотов. Многое из сказанного пациентом прослеживалось на страницах монографии, поэтому не было оснований сомневаться в авторстве. Но надежды на вменяемость Рядова разрушило повторное заключение патопсихологов, они констатировали распад личностных структур и обострение болезни. То есть, как бы ни хотелось видеть в больном сохранную личность, возможно, импонируя ему, пришлось принять неизбежную истину, что тяжелое заболевание прогрессировало.
И вот он, момент встречи с пациентом, который расставил все точки над «и»:
– Опять будем говорить о моей книге? – поудобнее располагаясь в кресле, спросил Рядов.
– Я хотел бы спросить, вы давали кому‑либо читать ваш труд?
– Мама и папа ее читают.
– Читают? – я приподнял брови.
– Да, вчера им звонил. Они добрались до двухсотой страницы, обещали ускориться. Просто я пообещал соседу дать почитать монографию, – ответил Рядов. – Возраст, что поделаешь.
– Спасибо, – я обвел слово «авиакатастрофа» в истории болезни пациента. – А вы не могли бы сейчас позвонить им? Хотел бы расспросить о вашем детстве.
– Конечно могу, если дадите телефон.
Он набрал несуществующий номер и на полном серьезе стал обсуждать мою просьбу с тишиной в трубке. Посыпался шизофренический бред. Получалась такая картина: патологический дефект в виде бреда брал начало с момента гибели родителей. То есть книгу писал относительно сохранный человек. Он даже опубликовал ее, заказал небольшой тираж. Потом случилась трагедия, которую он отказался принимать, и вся последующая реальность была искажена. А книгу, не читая, причислили к продукту бреда. Вот так все зерна были отделены от плевел. Затем последовал новый курс терапии, недолгая ремиссия, снова терапия, еще более короткая ремиссия и снова терапия, больной на глазах приобретал вид пациента с хроническим психическим заболеванием: он перестал за собой ухаживать, похудел, стал все чаще заговариваться и отводить взгляд при беседе, да и речь его стала менее связной и прагматичной. И через пару лет Семён Аркадьевич умер от сердечной недостаточности. Родных у него не было, впрочем, как и друзей. Пациента Рядова похоронили на больничном кладбище. Вот такая трагическая судьба. Но вернемся к книге, она долго перекладывалась из одного ящика в другой, напрашиваясь на утилизацию, пока я не наткнулся на сайт, где отображалась статистика продаж. И это стало настоящим открытием».
Отложив дневник, Аркадий Борисович посмотрел в камеру и незаметно покосился на чат. Тот на удивление молчал, слушая историю.
– Двадцать две книги продал автор за пять лет. А через пару лет после его смерти, когда весь самиздат был отсканирован искусственным интеллектом, о Рядове заговорил весь научный мир. Ну а ваш покорный слуга со своей купленной книгой нашел еще одно хобби. Просто ИИ сделал статистику по продажам книг самиздата общедоступной. Вот как‑то так!
Чат снова забурлил вопросами, но Аркадий Борисович, не обращая внимания, достал из стола кожаный альбом черного цвета и навел на него камеру. Это была коллекция пуговиц в пластиковых кармашках с картонными табличками, где бисерным почерком выписаны даты и время создания экземпляра. Чат распирало от милоты, разного рода смайлики сыпались один за другим. А особо понравившиеся экспонаты просили показать крупнее. И вот так эфир, который должен был стать разгромной передачей о Стэрке, стал уютной передачей о необычных хобби пожилого блогера. Пуговицы, книги и неторопливый бархатный голос ведущего – вот он, секрет успеха блогера А.Б. Цапа и его разговоров по душам.
Рабочее название выпуска: «Коллекция никому не нужных книг, или Топ‑100 лучших программ недели».
Монтаж и редактуру выполнил умный помощник робот Боб. Спасибо за просмотр, человек!
Камнелом и платок
Камера взяла крупный план. Поправляя очки, старик проверил манжеты умной одежды. Никаких отклонений, ингалятор работал как часы, без перебоев и стабильно, а значит, надо делать новый выпуск «Разговоров по душам».
– Спешу развеять мифы о моем затянувшемся молчании. У вашего покорного слуги все хорошо. Как говорится, обживался на новом месте. А выпавшие из эфира два дня потратил на планирование эксперимента. – Аркадий Борисович указал камере на стол, там лежали камнелом и платок, а также роботизированное устройство с двумя зажимами.
Подробно рассказывая о предстоящем опыте, Цап намеренно приближал объектив к инвентарю. У зрителей не должно было возникнуть сомнений в подлинности происходящего. Никакой бутафории, только реальные вещи – титановый камнелом с пластиковой рукоятью, шелковый платок в полоску и по типу весов стойка с двумя клешнями, оснащенная электронной начинкой, управляемой голосом ну и секундомер, тот был электронным и легко выводился на экран. Собственно, всё. Инвентарь для эксперимента астронавтов «Аполлона» готов.
– Самым трудным оказалось найти замену перу, – дойдя до платка, пояснил Цап. – Заказать гусиное перо с планеты стоит, как крыло от шаттла, поэтому взяли мой платок. Думали взять бабочку, – Аркадий Борисович показал на себе. – Ой, не эту, настоящую, так та не подошла по весу, а платок соответствует. По молоту если у кого есть претензии, поясняю, специально взяли тяжелый камнелом, вес тот же. Надеюсь, к зажимам претензий нет, а то читаю ваши комментарии – всё не так, – экспериментатор с прищуром посмотрел в объектив и с ухмылкой добавил: – Ну что, попробуем в условиях комнаты повторить падение? – Аркадий Борисович прикрепил к столу роботизированные клешни и настроил зажимы на одновременное раскрытие. Потом специально взял паузу нагнетая интригу, а перед сбросом вообще заговорил с подписчиками:
– Задерживать дыхание, как Стэрк, не буду, так что с Богом! – он нажал на кнопку сброса.
Не так чтобы мгновенно, но существенно быстрее, издав характерный глухой звук, камнелом рухнул на металлический пол модуля. А платок, плавно паря, неторопливо приземлился на рукоятку.
– Сами всё видели, – довольный итогами опыта, почесал щеку Цап. – Итак, начнем анализ. Предметы падают не равномерно, логичен вопрос «почему?», ответ: микроклимат модуля идентичен земной атмосфере, что напрямую влияет на скорость падения. Плюс платок имеет большую площадь, а следовательно, сила сопротивления выше. – Аркадий Борисович вывел на экран компьютерную модель падения с учетом земной гравитации. – Да, на Земле скорость падения будет выше, но вы заметили отклонение от вектора падения? Нет? – Аркадий Борисович взял электронную ручку и сделал стопкадр. – Если мы проведем прямые оси от зажимов к полу, то в конце опыта станет понятно – отклонение предметов составляет семь градусов в сторону реактора, сердца города. А знаете, в чем фокус такого наклона? В подземных модулях! Они многослойны, внешний слой – бетон, а внутренний, преимущественно в жилых отсеках, состоит из полимерных сплавов: атомы металлов встраивают в карбоновую и углеродную решетку, дабы сохранить парамагнитные свойства, усиливая гравитацию. Понимаю, что ничего не понятно, но потерпите, – Цап вывел на экран схему подземного города. – Сердце Первого города – это электромагнитный термоядерный реактор, который помимо выработки энергии генерирует электромагнитное поле, и в свою очередь парамагнитные свойства жилых модулей распространяют его на отдаленные участки колонии, конечно, это не земное притяжение, но все же гравитация, – Цап вывел на экран картинку с экспериментом Стэрка. – А теперь посмотрите скриншоты начала и конца эксперимента блохера, причем я специально сделал засечки на углах кадра, чтобы вы поняли, на сколько градусов меняется ракурс. Увидели? Да, девять градусов! – радостно вскрикнул Цап. – Этот блохер делал фейк чуть ли не под самим реактором!
Аркадий Борисович налил себе воды и с надменным видом победителя сел напротив камеры.
– Вот теперь вы понимаете, почему предметы падают с разной скоростью, сопротивление воздуха – раз, слабое электромагнитное поле – два, – подытожил Цап. – А чтобы эксперимент был идентичным, надо попасть на поверхность и уже там повторить падение, дабы поставить точку в этом споре. – Аркадий Борисович навел камеру на сына. – Ты готов?
– Убери камеру, – проворчал Артём.
– Он готов, – радостно заявил Цап, и они стали собирать вещи.
Погрузив оборудование на биофон, отец и сын неспешно пошли по узкому коридору в направлении к площади Независимости. По пути то и дело попадались люди в открытых бифах, и каждый кивком приветствовал парочку экспериментаторов, желал приятного часа, а узнавая о желании подняться на поверхность, добавлял: «Берегите себя!»
– Как они узнают, что мы идем наружу? – после обмена любезностями с очередным колонистом спросил Цап‑старший.
– Этот маршрут ведет к выходу из города.
– А почему они говорят с нами, словно хорошие приятели? – не успокаивался отец. – Ты с ними знаком?
– Нет, но так принято, – ответил Артём. – При встрече ты обязан поздороваться. Если промолчал и прошел мимо, значит, у тебя какая‑то проблема.
– И что с того?
– Подключат роботов, и пока проблема не решится, не оставят в покое.
– А, вот оно как, – улыбнулся Цап‑старший.
– Общение – очень важная часть социума, – добавил Артём. – Ты если устал, встань на биф.
– Все нормально, – ответил отец. – Ингалятор работает, силы есть.
– Но если что, не терпи, говори.
– Тут промолчишь, – посмотрев на манжеты, пошутил Цап‑старший. – Весь утыкан датчиками.
– Па, так надо, – подбодрил сын.
– А долго еще?
– Нет, почти пришли.
Перед выходом на площадь Независимости Артём надел ингалятор. Огромное крытое помещение потрясало своим великолепием. Примерно пятиметровой высоты прозрачный потолок позволял любоваться открытым космосом, а сама площадь располагалась так, что в северной ее части можно наблюдать за неспешным движением величественной планеты, колыбели человечества. Вместимость здания – до ста тысяч человек. Из привычного для глаз – магазинчики, офисы туристических фирм, закусочные с полуфабрикатами, все как в обычном мегаполисе, только с поправкой на низкую гравитацию и дрянной воздух за огромные деньги. Искусственный разум экономил на приезжих, запуская в проходные помещения низкообогащенную смесь (задохнуться не смогут, но и дышать полной грудью не позволяет статус), так что все пользовались масочными ингаляторами.
На уровне пола всю площадь опутывали электромагнитные дорожки, удобно передвигаться – зацепил электронный карабин биофона за нужный маршрут и можешь не волноваться, что заблудишься. И все бы ничего, но большую часть маршрутов перекрыла шумная толпа активистов. Расположившись в центре, они блокировали самые популярные туристические тропы, приходилось обходить по кругу протестующих, дабы не нарваться на крепких парней, что в хамской манере могли на раз‑два испортить настроение любому туристу.
– За что рвете глотки, парни? – подойдя к студентам, спросил Цап‑старший.
– Не твое дело, дед, иди куда шел, – буркнул в ответ один из мордоворотов.
– Так ты стал тут по центру, – съязвил Цап‑старший. – Не обойдешь.
– Ну, так пожалуйся Амире Вонг.
– А при чем тут она? – стоял на своем Цап. – Ты дорогу загородил, а не госпожа Вонг.
– Нечего с ним говорить, – по‑хамски оттолкнул Цапа худой активист. – Иди забейся в нору и не отсвечивай!
– Аккуратнее, уважаемый! – вступился за отца Артём.
– Смотри, лунатик голос подал.
– Еще одно оскорбление, и вызову стража порядка, – пригрозил Артём.
– И что он мне сделает? У меня земное гражданство, я тут турист, колонистик, – ответил тощий.
– Долой Вонг! Луна для людей! Луна для людей! – закричал стоявший рядом мордоворот. – Свободу Луне! Не роботам, а мне и тебе! Искусственный разум завис, кто не с нами, тот колонист! – прокричал он речевку, и тут же как под копирку толпа протестующих запрыгала на месте, выкрикивая: «Искусственный разум завис, кто не с нами, тот колонист!»
Цап‑старший хотел что‑то возразить, но сын, мотая головой, попросил не вмешиваться. Как он потом объяснил, это была золотая молодежь, дети богатых инвесторов. Надо признать, богатеи были проблемой для искусственного разума, они намеренно нарушали законы, отказываясь от работы, и скупали ресурсы для перепродажи. Даже поднятие штрафов не помогло изменить ситуацию, инвесторы с Земли буквально заваливали экономику колонии избыточными деньгами, раздувая инфляцию. А тут еще протесты на нейтральной территории, где законы колонии не работают. Так что на сегодняшний день даже искусственный разум не понимал, как с этим бороться.
– Ничего не меняется, – улыбнулся Аркадий Борисович. – Человек и на Луне такая же дрянь. Одни трудятся, а другим подавай революцию.
– На спутнике, – поправил его сын и протянул шлем от скафандра. – Идем, у нас свои дела, пусть этим занимается глава колонии.
Разглядывая шлем, Аркадий Борисович сглотнул подступивший к горлу ком и чуть слышно признался:
– Чё‑то я разволновался!
– Увеличить дозу ингалятора?
– Нет, сейчас все пройдет.
Зайдя в отсек для выхода на поверхность, они принялись надевать экипировку, и, как только шлем винтовым движением включил подачу воздуха в скафандр, сын дотронулся до уха, указывая на голосовое управление электронной начинкой.
– Понял, – включив внутреннюю связь, ответил отец. – Раз, раз, ты меня слышишь?
– Да, слышу, – кивнул Артём. – Все управление голосовое и руками: большой палец вверх – «все хорошо», кулак – «у меня проблема», понял?
– Ага, – показал большой палец Цап‑старший.
– Дыхательной смеси на два часа, – Артём включил электронную карту. – Наш участок далековато расположен, но зато плоская поверхность и почти нет кратеров, – демонстрируя снимки поверхности, объяснял Цап‑младший. – Вот тут оптимальная площадка для эксперимента, а в этом месте можно будет похоронить прах мамы.
– Согласен, – закивал головой Аркадий Борисович.
– Тогда в путь.
– С Богом! – сказал Цап‑старший.
– Бога тут нет, пап, – улыбнулся Артём, – Все атеисты.
– Не правда, – возразил отец, – Я в него верю, он всегда рядом!
Сын не стал возражать, просто поднял большой палец и открыл выход на поверхность. Сердце отца застучало сильнее, и в глаза ударил яркий свет солнца. Пару секунд, и глаза адаптировались. Кружась на месте, Аркадий Борисович, как маленький ребенок, разглядывал все вокруг. Черная непроглядная тьма над головой, серая, словно пудра, поверхность под ногами и неистовое биение сердца. Опустив подбородок, он попытался разглядеть воротник своей одежды, тот был в порядке, критической перегрузки органов не было, обычное волнение перед чем‑то неизведанным. Сын взял его за руку и потянул к стоявшему в пяти метрах гиду. Рослый мужчина заправлял воздушной смесью резервуары скафандра. Отец и сын объяснили ему, кто они, тот окинул их взглядом и приказал покружиться, а потом попрыгать на месте.
– Зачем? – спросил Цап‑старший.
– Надо проверить герметичность, скафандры старые, могут быть микротрещины, – достав моток клейкой ленты, ответил гид. – Не заметишь, как отморозишь часть тушки на таком холоде.
– Понял, – сказал Цап‑старший и подпрыгнул на месте.
– Всё в порядке, – гид поднял большой палец вверх. – Идем.
Если обратиться к статистике, то за двадцатьчетверку на поверхность выходят тысячи астронавтов, для большинства это рутинная процедура, даже, несмотря на риск, сравни походу в супермаркет на Земле. И что радует – количество туристов, желающих побродить по лунному грунту, только растет.
– Не думал, что ходить в скафандре так хлопотно, – тяжело дыша, взял за руку сына Аркадий Борисович. – Этот дутый мешок ужасно неповоротлив, ощущение, что в нем летал еще Гагарин. Нет, серьезно! Он весь на латках.
– Тут половина скафандров такая, – ответил сын, помогая отцу идти.
– А можно быстрее шевелить ногами? – прикрикнул на них экскурсовод. – Вы что, боитесь улететь в космос?
– Да, – замахал руками Цап‑старший.
– Глупости, – ответил по внутренней связи гид. – Хоть с горы прыгни, все равно упадешь в пыль, на тебе старая модель, у нее вес достаточный. Смело двигай ногами!
– Хорошо, попробую, – ускоряя шаг к луноходу, ответил Аркадий Борисович.
Забавно, но таких горе‑туристов на поверхности было человек сто, и каждый с опаской двигался к стоянке луноходов. Экскурсоводы то и дело оборачивались на подопечных, подгоняя «первопроходцев» взмахами рук. Как муравьи, туристы маленькими группками шли к стоянке машин, словно те были кусковым сахаром, а не железными конями.
«Забавное зрелище, вот бы сделать панораму», – подумал Цап‑старший, отпуская камеру на максимальную длину троса.
Парк луноходов был внушительный, под сотню машин, в основном они делились на два типа – гусеничные и колесные, каждая форма для своего вида грунта. Дорог на Луне никто не прокладывал, но сигнальные столбы в опасных местах присутствовали. За это отвечала не одна бригада роботов. Сыпучий грунт, кратеры, присыпанные мелкодисперсной пылью, и прочие ловушки, в которых техника может сломаться, выявлялись машинами и маркировались на картах. Искусственный разум следил за безопасностью туристов. Максимальная скорость луноходов – до пятидесяти километров в час, но, разумеется, никто не гонял на таких скоростях по поверхности. Неосторожный вираж – и на кочке может подкинуть так сильно, что вылетишь на орбиту. Отчасти поэтому машинами на поверхности управляли преимущественно роботы, правда, под чутким контролем человека.
– А это что за гусеница? – вмешался в эфир Цап‑старший. – Почему в ней люди без скафандров?
– Модульные машины, корабли на колесах, там одна автоматика, – ответил Артём.
– Лунобусы, – с улыбкой заметил экскурсовод.
– Забавное название, – рассмеялся Цап. – И как долго в них можно находиться?
– Пять часов, – ответил экскурсовод. – Но нельзя гулять по спутнику.
– Поэтому мы движемся по старинке, на электрическом луноходе.
– А тут все машины электрические? – спросил Аркадий Борисович.
– Нет, есть и атомные, – в один голос ответили и сын, и экскурсовод.
– Машины для бурения оснащены миниреактором, – пояснил Артём. – Те могут годы на урановом стержне работать, но это промышленная техника.
– Понял, – крутя головой, как ребенок, который впервые в жизни ехал на авто, ответил блогер.
И было чем любоваться. Вид, конечно, невероятный. Несмотря на то, что камеру немного подергивало, ехать по серебряной дорожке, когда перед тобой раскинулся голубой полукруг величественного соседа – это незабываемые эмоции. Земля казалась такой близкой – протяни руку, и зачерпнешь воды из океана или погладишь один из континентов. Такой вид завораживал. Цап‑старший поймал себя на мысли, что эмоции похожи на детские, когда они с отцом встречали его первый рассвет на рыбалке. Сначала глаза слипаются от долгого ожидания, но потом ты видишь, как на горизонте появляется солнце, и уже не можешь оторвать глаз. Так же и тут. В полной тишине, слегка подпрыгивая, ты смотришь на Землю и черную бездну за ней и не веришь, что это реальность. Разве может человечек совершить что‑то подобное, такой хрупкий и неприспособленный к жизни организм? Едет по делам в открытом космосе на машине, разве это не чудо? И ты крутишь головой, видя лицо сидящего рядом сына, ощущаешь необычайно малую гравитацию, на каждой кочке держась за поручень, и понимаешь, что все это реально, а значит, ответ: «Да, может!»
Кабину резко качнуло, и все трое стукнулись о лобовую панель.
– Держимся, друзья, ничего страшного не произошло, просто у железяки проблемы с плавным торможением, – пошутил экскурсовод. – Итак, туристы, напоминаю, у вас десять минут, за маяки не выходить, камнями не кидаться.
– Нам надо двадцать минут, – сказал сын.
– Двойная оплата, – ответил гид, и Цап‑старший поднял верх большой палец. – Приятного отдыха, парни! – добавил гид и включил таймер.
– Спасибо, – ответил Цап‑младший. – Па, возьми урну, а я понесу оборудование.
– Ага, а куда несем?
– Вон тот камень видишь? – поправив камеру, спросил Цап‑младший.
– Идеально, сынок, – ответил Аркадий Борисович. – Установим платформу на нем.
– Надо убедиться, что он плоский.
– А гвозди нам на что? – отковырнув кусок булыжника, съязвил Аркадий Борисович. – Порода пористая, думаю, выдержит.
– Тоже верно, – согласился Артём, и они неспешно пошли к камню.
Отступив от прежнего плана, они решили похоронить маму возле этого же камня, нацарапав на нем имя и дату смерти. Так будет лучше, пусть камень станет импровизированным памятником. Так что, закопав урну и утрамбовав грунт, они молча переглянулись, и младший показал на запястье, намекая на время. Надо было ускоряться, и Аркадий Борисович ловким движением вбил крепеж в середину камня, но уже с другой стороны. А затем, проверяя надежность, потянул на себя конструкцию. Сцепка на удивление оказалась жесткой. Сразу следом сын установил платформу и поместил в один из зажимов камнелом.
– У нас проблема, – разглядывая платок, сказал Артём. – Ткань ломается от холода, клешня его расколет.
– Вижу, – раздраженно заявил Аркадий Борисович. – А что если за кончик зацепить?
– Тогда визуально он будет ниже молота.
Артём вставил хрупкий платок между лапками клешни и показал рукой, насколько тот ниже уровня камнелома.
– Надо на один уровень! – стоял на своем Цап‑младший.
– Да знаю! Сейчас попробую поднять один из зажимов.
Но зажим не поднимался на нужную высоту, не хватало буквально пяти сантиметров, а идея смять платок перед тем, как он станет сосулькой, как говорится, пришла с запозданием. Решения не было, а время безжалостно тикало, расходуя воздушную смесь.
– Делаем опыт с такой разницей! – приказал Цап‑старший и взял в руки камеру. – Отойди.
– Как знаешь, – буркнул сын и сделал пару шагов в сторону.
– Уважаемые зрители, – начал блогер. – Не обращайте внимания на неровность и, как следствие, разницу в стартовых позициях между камнеломом и платком, ваш покорный слуга не учел, что ткань изменит структуру в открытом космосе. Так что мы вычтем это расстояние при анализе данных. Итак, вывожу секундомер на монитор. Ну что, готовы?
– Нет, стоп! – крикнул Артём. – Давай отломим кусок платка? – предложил он и легким движением руки отделил кончик. – Вот теперь на одной линии.
– Кстати, решение! – усмехнулся Цап‑старший. – Теперь всё на своих местах, а значит, жми кнопку!
Палец надавил на сенсор, и оба предмета начали падение. Разные по массе и форме, они с одинаковой скоростью, словно непримиримые соперники‑спринтеры, старались не отстать друг от друга. «Забег» был недолгим, всего три секунды – и финиш. Оба предмета упали на серый грунт, так и не выяснив, кто же лучший «бегун».