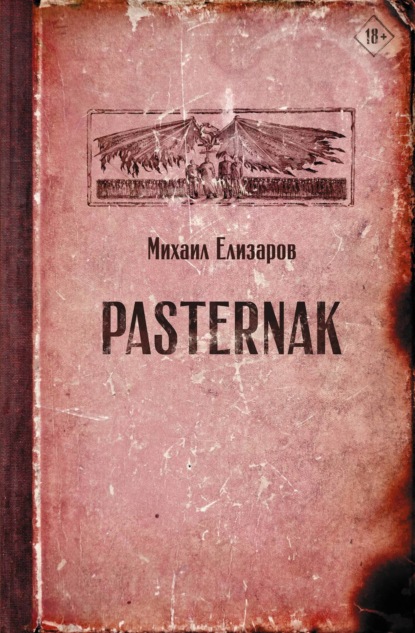Полная версия
Юдоль
Обворожительная ведьма поворачивает Андрея Тимофеевича к зеркалу и дует ему в лицо. Оно исчезает, точно Сатана слизнул. Макаровна творит нового Сапогова, молодого красавца, разве нос чуть длинноват. И волосы остались прежние – лимонно-бледные.
Макаровна несётся прочь, оглядывается и смеётся, словно приглашает броситься в погоню. Что-то распирает ширинку. Отлетают пуговицы, упругий сапоговский Змий вырывается на свободу. Чтобы догнать красавицу, счетоводу даже не нужно бежать, Змий всё сделает сам! Летит бесконечными коридорами вслед за Макаровной. Ведьма захлопнула за собой дверь, так Змий просочился сквозь замочную скважину и настиг беглянку, проник и шурует туда-сюда по замысловатым лабиринтам её сладостных внутренностей. Как хорошо им вдвоём, милая! Как могло быть хорошо нам с тобой! Головастый Змий, трепеща раздвоенным языком, выглядывает изо рта Макаровны, извергая ей на груди потоки густого желеобразного семени, а она размазывает его по животу и курчавому лобку…
С Сапоговым приключилась феерическая поллюция. Последние случались лет десять назад, когда снились конфузные эротические сюжеты с Лизанькой Лысак. Поутру Андрей Тимофеевич также отмечает физиологические улучшения в организме. Вроде уменьшились припухшие лимфоузлы и кровь из носа не хлыщет. На колене, однако, выскочило непонятного происхождения белое пятно. «Довёл себя до белого колена», – невесело усмехается счетовод. Пятно, впрочем, не беспокоит, и он тотчас о нём забывает.
Будни Сапогов решает посвятить активным поискам тройного перекрёстка. Андрей Тимофеевич давно приметил стальной обод колеса обозрения в городском парке. А что, если воспарить на Колесе имени Чёрта над городом и осмотреть ландшафт с высоты? Наверняка найдётся нетронутый Чёртов Крест!
Позавтракав разогретой вермишелью, Сапогов отправляется в парк к аттракционам.
II
Какая мрачная ваша улица. То ветер вдруг погонит по щербатым тротуарам хрусткую, точно высохший пергамент, листву, или зарядит дождь сырой, колючий, и капли в нём не облачный дистиллят, а унылая химическая вода из-под крана.
С лязгом и грохотом проносятся грузовики с деревянными, как заборы, кузовами и жёлтые «икарусы» с рваной резиновой гармошкой посреди туловища. Пахнет пылью, бензином и ещё чем-то подгнившим и сладким. Возвышается постамент, на нём болотного цвета мёртвый танк. Над проезжей частью натянут древний с размытыми буквами транспарант – память о позабытом Съезде.
В соседнем сквере Ленин из неведомого жёлто-зелёного сплава – может, упавшего метеорита – грозит небесам воздетой рукой, а в кулаке, как свиток с проклятьями, зажат картуз. У подножия увядшие цветы и еловый кладбищенский венок.
На улице ничего не меняется. Из подвальной прачечной тянет запахом вскипевшей на утюге слюны. В молочном на вывеске перегорело последнее «о» и боковая часть неоновых трубок буквы «к»; по вечерам надпись пылает словом «МОЛОХ».
Под витринным стеклом экспонаты пищевого мавзолея: жёлтые бруски сливочного масла и маргарина, крапчатый от изюма творог с воткнутым железным совком, треугольные пакеты с молоком, бутылки кефира с крышками цвета мушиного брюха.
Вот магазин с незамысловатым названием «Продукты». Морковь в ящике-клетке пахнет землёй, а картофель – склепом. Холодильный саркофаг мясного отдела хранит студёнистый отрез зельца и кровяную колбасу; кровавый рёберный размах бычьей грудины напоминает костяные крыла. Мясник выглядит как палач, продавщицы похожи на санитарок.
В парикмахерской царит вечная Илона Борисовна, которая только и знает, что причёски «бокс», «полубокс», «канадка», «модельная» и «под ноль». На женский зал всего один фен, будто инопланетный гермошлем или же скорлупа пластикового технозавра.
Какая мрачная ваша улица. Здесь проживает мальчик Костя одиннадцати лет. От сверстников его мало что отличает, разве пятнышки лишая на коротко остриженной голове. Глаза у Кости серые, нос веснушчатой пуговкой. А ещё у него почерневший безымянный палец на правой руке.
Многие думают, что палец у Кости отсохший, но это не так. Он может чуть сгибаться, и на нём, медленный, точно карликовое деревце, продолжает расти ноготь, напоминающий загнутый птичий клюв. Мамины затупленные маникюрные ножницы «клюв» не берут, а ведь справлялись и с папиными ногтями, а уж те твёрже гранита, не режутся, а крошатся на осколки.
Костя почти не стесняется мелкого уродства, свыкся. Если что, палец можно чуть поджать или вообще сунуть руку в карман, и не увидят. Вот однажды в Костину школу привели мальчика Артура Муртяна. Так у него всё туловище было сплошным родимым пятном бархатисто-коричневого цвета! Словно насмешливая природа нарядила ребёнка в замшу целиком. Лишь смуглый лоб и щёки ещё оставались обычными. Побыл он в школе недолго, первую четверть походил на занятия, а после исчез. Возможно, родимое пятно полностью затянуло его лицо или родители других детей потребовали у дирекции изолировать от учащихся эту кожную аномалию. Но Артура запомнили, имя стало нарицательным – почти анафемой. О, какое истеричное, хуже, чем на тонущем «Титанике» столпотворение образовывалось у дверей класса, когда выкликивали: «Кто последний, тот Артур!»
Костя носит синюю школьную форму. На пиджаке, где отлетела алюминиевая пуговица, пришит соразмерный протез. Нарукавный шеврон, изображающий солнце и раскрытую книгу, аккуратно надорван сверху, чтобы использовать его как дополнительный карман. Под пиджаком голубая рубашка и алый галстук с замусоленными концами. С наружной стороны лацкана приколот пионерский значок; с обратной – переливающийся пластмассовый кругляш-талисман с персонажами «Ну, погоди!» – по нему Костя обычно гадает. Задумывает произвольное число и столько же раз колеблет кругляш, если в итоге просветится Заяц – к несчастью.
Костя живёт в девятиэтажном панельном доме под самой крышей. В двухкомнатной тесной квартире их четверо: папа с мамой, Костя и младшая сестра Вера.
Папа работает на заводе, мама в поликлинике. По вечерам у папы болит поясница, у мамы – голова. Папа, согнувшись в погибель, зачерпывает из крошечной плошки пахучую вьетнамскую мазь «Звёздочка» и натирает крестец; быстро-быстро сучит вдоль спины худыми мосластыми руками, словно гигантский токующий кузнечик. Мама подвязывает шарфом к затылку горчичник и набирает в таз воды, чтобы холить ступни в извилистых голубых венах, так похожих на географические нарисованные реки – Волга, Обь, Лена, Днепр, Енисей, Дон, Иртыш, Амударья, Сырдарья. Больше рек Костя не знает, не успел выучить. Что будет с его дальнейшим образованием – неизвестно. От занятий Костю освободили из-за лишая – подхватил на ничейном котёнке, с которым миловалась в песочнице дворовая мелюзга, включая сестру Веру. А ведь даже не тискал, не прижимал к лицу, как Вера, просто подержал в руках. Вот где, спрашивается, справедливость?!
Костя только и делает, что гуляет по району. С утра идёт в кинотеатр «Юность» на детский сеанс. Старуха-билетёрша, одетая во всё шерстисто-серое, точно свалянное из плотной, как войлок, пыли, сперва не пускала Костю. Тот наобум выдумал про каникулы. Билетёрша так давно училась в школе, что позабыла, когда начинаются эти самые каникулы. Да и недели с одинаковой осенней погодой смешались у неё в голове, билетёрше действительно кажется, что наступил октябрь, а может, вообще прошли ноябрьские праздники и не за горами Новый год.
В зале никого нет, кроме Кости и укромной взрослой пары, которая пришла сюда не за искусством. Они сидят на заднем ряду, мужчина вздыхает, женщина тихо смеётся и стонет. Костя оглядывается и видит что не должно – полную, обтянутую чулком ногу женщины, закинутую на кресло нижнего ряда. Мальчишка заворожённо прислушивается, ощущая странное волнение где-то под ложечкой. Женщина вдруг поднимает голову и смотрит прямо на Костю. На верхней части её лица, как вуаль, лежит тень, но улыбающиеся губы освещены дымчатым лучом кинопроектора. Женщина обводит быстрым языком чёрную улыбку, и Костя тотчас отворачивается, чувствуя на щеках восторг и стыд. Ты тоже колготкам предпочитала чулки, радость моя…
Фильмы в кинотеатре старые, сплошь про Великую Отечественную войну или французские комедии. Изображение на экране рябое, будто иссечённое бритвой. Ветхая плёнка часто рвётся. Однажды механик не стал её чинить, и Костя просидел остаток сеанса в темноте. Из отдушины клубилась подсвеченная пыль – мельчайшие киночастицы уже не превращались в ожившую картинку.
Парк безлюден и тих, лишь шуршат редкие белки да надрываются вороны. Замерла карусель; словно кандалы, болтаются на длинных ржавых цепях десятка полтора-два летучих кресел. Там аттракцион «Ромашка» с заглохшим мотором, но, если самому как следует толкнуть круглую площадку с сиденьями, она сделает с десяток медленных оборотов.
Зато работает Чёртово Колесо, скрипит, словно зримая поставленная на дыбы шестерёнка Вечности. Костя платит пятнадцать копеек за вход, после чего на Колесе можно оставаться, пока не надоест, посетителей всё равно нет. Посреди кабинки железный руль, для дополнительного вращения вокруг своей оси. Тогда Колесо подобно вселенной, а кружащаяся кабина – планете, плывущей по орбите звёздного мироздания.
Внизу багряные кроны, похожие на холмы, наверху неподвижные облака, лохматые ватные болваны, подобные тому, что в миниатюре стоит на столике у Костиной мамы, от которого каждый вечер она отщипывает клочки, чтобы вытереть с губ помаду или же, вымочив ватку в жидкости с запахом ацетона, смыть с ногтей облезший лак… Чадят рыжие лиственные кучи. Поднимается, уплывает в небеса жертвенный горьковатый дым осени. Кружится голова, ржавый пол кабинки пахнет застарелой рвотой, прям как в пассажирском «кукурузнике», где даже пилоты, наверное, блюют от турбулентности, а что уж говорить про обычных пассажиров? Помнишь эту запредельную тоску? Когда хочется кого-то обвинить в заоблачной, гремящей на весь мир душевной пустоте, да только некого в ней винить, мы целиком слеплены из этого никчёмного вакуума; вчера его заполнял дешёвый портвейн, сегодня – гарь опавших листьев, завтра нахлынут отчаяние или вожделение. После десятка витков Костя перемещается на обыкновенные наземные качели. Затем покупает в киоске мороженое. Вафельный стаканчик приходит в негодность раньше пломбира. Растаявшее молоко, липкое будто клей ПВА, протекает, и Костя полощет пальцы в мелкой луже.
В далёкой приземистой панельке на первом этаже живут баба Света и деда Рыба. По-настоящему деда звать Вовой, а Рыба потому, что у него рак желудка. Это родители, чтобы не травмировать Костю с Верочкой, переименовали в разговорах смертельную заразу.
Косте не верится, что деда Рыба болен по-настоящему. Никто бы не протянул столько лет, столуясь у бабы Светы. Супы-помои, котлеты из мясной мертвечины, макароны с привкусом клейстера. Костя к такой пище давно приноровился. Надо есть быстро и не задумываясь, тогда вкус проскальзывает мимо.
В окна вставлены решётки, как в сберегательной кассе, хотя красть в квартире нечего. Не мебель же из коричневого ДСП или велюровые гобелены – похожие на собак медведи в мезозоевой чаще папоротников, васнецовские богатыри с одутловатыми лицами олигофренов. Над кроватью фотоснимки вымершей родни в деревянных рамках и календарь за бог знает какой год. Если открыть платяной шкаф, оттуда хлынет запах нафталина, а после выпорхнет очумевшая моль.
В гостиной без продыху бормочет телевизор. На нём кружевная салфетка и хрустальное Иродово блюдо. Нависают низкие, как грозовые тучи, потолки. Вместо паркета зашарканный линолеум. Часы-ходики – цок-цок, цок-цок, будто стучат каблучками. Деда Рыба обзывает ходики «шалавой», подтягивает гирьки и трогает маятник: «Пошла, шалава!»
В коридоре тумба с красным или, как добавляет деда Рыба, «кремлёвским» телефоном. А вот у родителей Кости, к примеру, телефона нет; надо позвонить – спускаются к таксофонной будке. Я тоже когда-то выходил к автоматам, а вместо двухкопеечной монетки использовал металлическую обманку, плоскую, как палочка для эскимо.
Баба Света подкрашивает кудрявую баранью седину фиолетовой краской, по квартире ходит в халате и рваных шлёпанцах. Деда Рыба, задорный, босой, в спортивных штанах и майке, приветствует Костю бодрым возгласом «салют!», а потом слушает на кухне радио и подпевает, слыша знакомую песню: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно со мной умчалось!..»
Пока Костя питается, баба Света без единой мысли в уме, как Будда, сидит напротив, скрестив на груди руки. Её красные локти точно культи. Пообедав, Костя снова идёт в парк, а уже оттуда домой.
И каждый новый день похож на предыдущий. Разнятся только сны; в одном, должно быть по мотивам недавней военной ленты, Косте виделась его улица и знакомый постамент с танком, но не советским Т-34, а фашистским «Тигром» с зыркающей по сторонам башней, лил дождь, мчались грузовики, а оттуда доносилось хоровое пение на немецком и губные гармошки завывали, как пожарные сирены.
После очередного киносеанса Костя снова кружится на Чёртовом Колесе. А внизу топчется надоедливый белобрысый старик – второй день донимает мальчишку своим подозрительным обществом…
Это Сапогов. Он наведался в парк ещё в понедельник. Пришёл, а Колесо-то и не работает!
В билетной будке хлопочет смотритель Колеса – пенсионер Валентин Цирков. У его старости нет каких-то особых внешних примет. Среднего роста и комплекции, черты лица мелкие, незначительные. Администрация парка доплачивает Циркову финансовый мизер к пенсии за то, что он шесть дней в неделю запускает и останавливает Колесо, продаёт билеты и убирается в кабинках. В конце рабочего дня, пока Колесо ещё крутится наподобие конвейера, Валентин метлой на скорость выгребает мусор; на каждую кабинку не больше пяти секунд. Летят на землю недоеденные пирожки, огрызки булок и яблок, бумажные фантики, присохшие обёртки от мороженого, пустые пивные или водочные бутылки. Попадается и совсем странная добыча. Как-то Валентин выкинул из кабинки околевшего кота с оскаленной пастью, в другой раз – книгу Марселя Пруста и рыжий мужской ботинок. Однажды обнаружил коробку с горстью угольно-серого порошка. Цирков не понял, что это, хотя мазнул пальцем. А это был кремационный прах, милая, уж я-то знаю…
Понедельник – санитарный день. Цирков приплёлся подмести площадку и окрестности. Но какой-то старик с биноклем на груди просит запустить для него аттракцион. Ветер шевелит лимонно-бледную седину на гордой голове незнакомца. Синие глаза уставились на смотрителя прямо, требовательно.
– Приходите завтра, – говорит смотритель. – Тогда и включу.
– Мне сегодня надо!.. – цедит Сапогов сквозь зубы. – Очень!
– К чему такая срочность?
– Я бывший воздухоплаватель! – беззастенчиво врёт Сапогов. – Аэронавт! – Барским движением протягивает рубль и ещё немного мелочи: – Душа просит полёта!
– Ну, если аэронавт… – сдаётся Цирков и дёргает рубильники на стене будки.
Колесо обозрения – не кофемолка, включил-выключил, теперь оно будет трудиться весь день.
Лязгает спросонья мотор, скрежещут оси и цепи. От ожившего механизма ползёт заскорузлый запах солидола. Колесо вздрагивает, медленно начинает вращение.
Сапогов неловко (тот ещё аэронавт) запрыгивает в кабинку и неспешно взмывает.
Андрей Тимофеевич побаивается высоты. Свободная от бинокля рука судорожно сжимает руль кабинки. Счетовода никто не гонит, не торопит, он раз за разом взмывает и опускается, дальнозорко вглядываясь окулярами – где же Чёртов Крест?
После часа непрерывного кружения старику кажется, что он обнаружил тройное пересечение на границе парка и трассы – примерно в километре от Колеса.
Когда Сапогов приземляется, Валентин обращается к нему с банальной житейской просьбой:
– Вы могли бы посторожить кассу, товарищ аэронавт? Мне бы по надобности отойти ненадолго…
Сапогов кивает и заходит в тесную будку. Вместо полноценного окна – полуовал купли-продажи. На прилавке немного денежной мелочи и билетная лента. Там же стакан, кипятильник и распакованная пачка индийского, со слоником, чая. Посреди прилавка стальная плошка для денег, привинченная по центру шурупом. Из мебели в крошечном помещении только шаткий стульчик, потому что пол неровный и трухлявый.
Сапогов присаживается. Будка едва ли больше деревенского сортира. Зимой Цирков хранит тут метлу и лопату для снега, а летом прячется от жары.
Его «ненадолго», однако, затягивается, и Сапогов начинает злиться.
– Один билет! – бойко произносит снаружи хрипловатый дискант.
Показывается неопрятная маленькая рука и бросает монету, словно милостыню. Сапогов утягивает с плошки пятнадцать копеек, не совсем аккуратно отрывает от ленты билетик и суёт его наружу. Взгляд Сапогова коротко задерживается на кисти, хватающей билетик. У неё уродливая особенность – чёрный, будто обгоревший палец с загнутым, как птичий клюв, ногтем…
Сапогов наклоняет лицо, чтоб разглядеть покупателя. Это школьник, самый обычный, в синей форме с красным галстуком, коротко остриженный, запаршивленный. И наверняка прогульщик. Уже спешит по направлению к кабинкам, запрыгивает в ближайшую.
До его появления все мысли Сапогова были о перекрёстке. Старик терпеть не может детей, от гадёнышей лишь шум да суета. Но почему, чёрт раздери, мелкий поганец не идёт из головы? Болезненное томление гнетёт Сапогова…
И он вспоминает рассказ ведьмака Прохорова! Безымянный палец Сатаны!.. Удовлетворение от того, что вспомнил, сменяется равнодушием: ну мальчишка, ну разбившийся Сатана…
Сапогов выходит из будки – надоело сторожить медяки. Никто не похитит и облезлую метлу с лопатой, если он уйдёт. Однако ж Андрей Тимофеевич, сам не понимая зачем, мается и ждёт, когда мальчишка спустится на землю. Как там трепался юркий ведьмак, приятель Макаровны? Палец Сатаны найдётся у костяного мальчика. Но ребёнок, что кружит на Колесе, самый обычный, из кожи и мяса. Скелет в нём, конечно, тоже имеется. А вот какой отсохший палец у него, указательный, средний или безымянный, счетовод не обратил внимания.
– Большое спасибо! – раздаётся за спиной Сапогова.
Цирков на ходу застёгивает ширинку непослушными пальцами.
Андрей Тимофеевич, не оборачиваясь, высокомерно отвечает:
– «Спасибо» означает «Спаси Бог», а аэронавты в Бога не верят и на ангелов из ружья охотятся. Ясно?!
– Ясно… – не перестаёт удивляться событиям дня Цирков.
Мальчишка выбегает из кабины:
– А можно ещё один билетик?
– Он же покупал? – доброжелательно уточняет Валентин у Сапогова. И, не дожидаясь ответа, произносит: – Можешь кататься. Всё равно нет никого, а Колесо уже работает. Проходи, дружок…
Прогульщик прячет монету и спешит на посадку. Валентин провожает взлетающую кабинку с блаженной улыбкой. Циркову кажется, что ребёнок ему благодарен; будет с теплом вспоминать о нём через годы, может, расскажет своим детям, дескать, жил когда-то на свете добрый смотритель Чёртова Колеса, он разрешал кататься, пока не надоест…
Так мечтается наивному смотрителю. Грусть туманит невыразительное лицо. Нехорошо, если он останется в памяти мальчика безымянным.
Цирков, запрокинув голову, спрашивает первым:
– Как звать тебя, пионер?
– Константин! – отвечают сверху; в голосе пломбирно-отроческая хрипотца.
– Костик, значит… А меня Валентин Александрович. Мне шестьдесят восемь лет, раньше я работал учителем труда в школе, люблю рыбалку, персики и понедельники…
Слабая, полная страха за будущее забвение душа Циркова для Андрея Тимофеевича как на ладони.
«Ты умрёшь, и никто никогда о тебе не вспомнит! – хочется заорать Сапогову. – Кому какая разница, что ты любишь!»
Однако ж смолчал и, исполненный тихого презрения, удалился на поиски Чёртова Креста.
Немотивированная раздражительность в который раз играет со счетоводом злую шутку – слепи́т ум и заодно слух. А вот стоило бы прислушаться к диалогу смотрителя и случайного мальчишки по имени Костя.
Чёртов Крест Сапогов разыскал, да только колдовским местечком прежде него поживилась премерзкая старушенция в плащике и платочке; стоит и делает вид, что кормит воробышков. Андрей Тимофеевич понимает, что под видом хлебных крошек она сыплет из пакетика какую-то порчу или приворот.
«И не прибрала же Костлявая старую нечисть! Испохабила мне Чёртов Крест! – беснуется Сапогов. – Такой перекрёсток насмарку!»
И второй раз за день мозг точно пронзает электрическим разрядом. «Костлявая… Константин, Костик»… Костя! Это же и есть костяное имя! Костяной мальчик с чёрным пальцем!
Сапогов изрыгает вслух космического масштаба хулу, так что старуха вздрагивает и с боязливой оторопью смотрит на незнакомого деда. Тот яростно топочет ногами, словно вколачивает в пыль святыню. Затем разворачивается и, насколько хватает пенсионерской прыти, несётся обратно к Колесу. Злость прибавляет дыхания и выносливости.
Уже через четверть часа галопа по тропинкам Сапогов на месте! Мальчишки, разумеется, и след простыл. Лишь смотритель суетится с метлой возле будки. На вопросы, куда подевался недавний Костя с чёрным пальцем, пожимает плечами и радушно предлагает аэронавту ещё раз прокатиться.
От досады за свою вопиющую невнимательность Сапогов готов навести порчу сам на себя. Чертыхаясь, Андрей Тимофеевич плетётся прочь из парка.
Непонятно, с чего он решил, что удача была у него в кармане. Вот что бы он сделал с Костей, окажись тот на месте?! Оторвал бы палец? Но разве возможно такое осуществить при свидетеле? Теперь другая проблема. Как отыскать проклятого мальчишку? Неужели придётся сутками стоять в дозоре возле Колеса и поджидать, вдруг снова появится?..
От всепожирающего бешенства Сапогову требуется взвыть, но навстречу некстати катится компания, может, студенты или начинающие рабочие. Поскольку вой уже вырвался наружу, Сапогов быстро затыкает рот кулаком, от чего раздаётся какое-то свистящее фырканье, будто Андрей Тимофеевич собирался чихнуть, да деликатно прикрылся. Сапогов оборачивается и желает вослед молодому поколению всего наихудшего – несчастий на трудовом и личном фронтах.
– Николай Николаевич!.. – доносится ликующий скопческий голос.
Сапогов не обратил на оклик внимания; какое ему дело до какого-то Николая…
– Товарищ капитан дальнего плавания! Это мы!..
Андрей Тимофеевич глядит вперёд на дорогу. Там знакомая фигура в клетчатом демисезоне.
– Мор! Раздор! Глад! Чумка!.. Да не тяните так, фу!..
Это, конечно же, Псарь Глеб.
– Доброго дня!.. – приветственно машет он Сапогову; в левой руке у собачника связка брезентовых поводков.
Псарь Глеб не приближается, держится на дистанции:
– Мои архаровцы ужасно вам рады, но как бы не замарали лапами. Недавно был дождь, они носились по грязи…
Хорошо, что их разделяет десяток метров и Псарь Глеб не замечает вызлобленный взгляд Андрея Тимофеевича. Впрочем, может, и видит, просто думает, что капитаны дальнего плавания так и смотрят.
– Вы звали нас, капитан! – торжественно произносит Псарь Глеб. – И мы тут!
– Неужели?! – хмуро удивляется Сапогов. Меньше всего он расположен сейчас к общению. – Это когда же?!
– Да вот минуту назад… – подтверждает Псарь Глеб. – Хорошо, что мы бродили неподалёку и услышали ваш свист! – Псарь Глеб поощрительно гладит пустоту.
– Разве я свистел? – раздражается Сапогов.
– Ещё как! И замечательно! – с жаром подтверждает Псарь Глеб. – Нашим бесшумным свистом! Наверное, это вы тренировались, но у вас безупречно всё получилось. В любом случае я и мои зверюги всегда готовы услужить вам!
– Интересно, чем? – хмуро спрашивает Сапогов.
Псарь Глеб и его уважительная речь действует на Андрея Тимофеевича успокаивающе.
– Хм-м… – Псарь Глеб задумывается. – Мор и Чумка недавно затравили медведя, одни клочки остались.
– Прям медведя?! – с насмешливым недоверием уточняет Сапогов.
– Невидимого! – кивает Псарь Глеб. – И чрезвычайно крупного! Тише, тише, ребята!.. – он поглаживает пустоту. – А с Раздором ни одна гончая не сравнится в скорости, а Глад – превосходнейшая ищейка. Разыщет что угодно и кого угодно!
– Прям разыщет? – щурится Сапогов.
– Проверяйте, капитан!
– А мог бы он найти… – Сапогов делает вид, что смотрит на невидимого пса, – одного вредного мальчишку?
– Ну разумеется! Для этого понадобится какая-нибудь вещица мальчугана. Имеется таковая?
– К сожалению, нет, – вздыхает и злится Сапогов. – Но я видел его последний раз возле Чёртова Колеса, он там предостаточно наследил!
– Тогда осмотрим место! – Псарь Глеб первым устремляется к аттракциону.
Цирков уже ничему не удивляется. Заметив Сапогова в сопровождении Псаря Глеба, только и говорит:
– Опять вы, товарищ аэронавт!
– Мальчишка топтался здесь, когда покупал билет, – Сапогов тычет на участок земли возле окошка кассы.
– Ищи! – приказывает Псарь Глеб невидимому Гладу. – Ищи!..
Собачник переминается на месте, потом его рывком кидает к Колесу, затем обратно на дорожку.