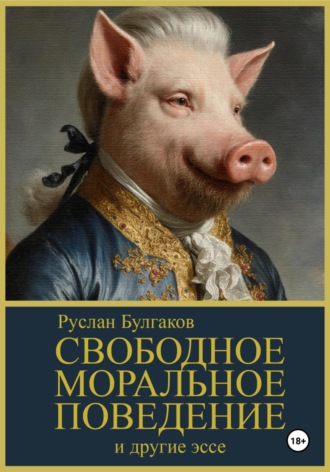
Полная версия
Свободное Моральное Поведение и Другие Эссе
Мы уже можем отличить острое ощущение несвободы от банального безразличия к другим людям как один мотив к действию от другого мотива к действию, не имеющего ничего общего с первым, и являющимся скорее даже условием для действия, чем его мотивом. Люди с психопатическим расстройством личности под действием импульсивности и гнева, действительно скорее станут при помощи антисоциальных тактик восстанавливать отнятые у них свободы, проявлять агрессию к тому, кто устанавливает правила, и всячески сопротивляться лечению. Это не значит, однако, что все обладатели высоких показателей PR психопаты. Психопатия – это, надо сказать, расстройство по большей части наследуемое, по крайней мере для мужчин это так – психопатические особенности личности передаются от отца к сыну, но не к дочери [31]. В нейробиологическом исследовании экспрессия некоторых конкретных генов между тюремными заключенными с психопатией и здоровыми индивидами объясняла 30-92% дисперсии психопатических симптомов. Эти же самые гены ответственны за аутизм и социальные взаимодействия, что позволяет исследователям полагать, что они так же имеют отношение к эмоциональной черствости и недостатку эмпатии [68]. Авторитарность характера также передается детям от строгого властолюбивого родителя, но, во-первых, делается это уже посредством воспитания, и, во-вторых, психопатическое расстройство в принципе не является для этого обязательным критерием. Целые пласты культуры могут иметь под собой авторитарные предрассудки.
Реактанс в некоторых исследованиях противополагается выученной беспомощности. Когда индивид встречается с несколькими неудачами, то, войдя в реактное состояние, он их все еще пытается преодолеть. Однако, чем больше случается неудач, тем хуже становится эффективность, тем более явно наблюдается выученная беспомощность [47.С.17]. И, коль скоро движение навстречу свободе восстает против беспомощности, реактанс можно считать заклятым врагом депрессии. Высокореактные индивиды обладают некоторыми характеристиками, которые в обществе принято осуждать, однако в исследованиях было установлено, что эти индивиды часто оказываются лидерами и людьми, ориентированными на активное действие [47.С.19]. Доказано также, что оптимальная автономия и чувство идентичности достигаются наличием оптимального уровня реактности [47.С.34]. Между PR и здоровой автономией была установлена позитивная связь, а между PR и типом привязанности нет. Граница оптимальности здесь не столь принципиальна, как необходимость вообще наличия реактности для полноценной автономии и развития личности.
По пятифакторной модели личности (Big Five) стиль личности реактных индивидов отличается:
(1) Пониженным интересом в произведении хорошего впечатления на других;
(2) Более небрежным отношением к выполнению обязательств;
(3) Меньшей толерантностью к чужим взглядам (beliefs);
(4) Сопротивлением правилам и регламентам;
(5) Большей обеспокоенностью проблемами и тревогой о будущем;
(6) Большей склонностью проявлять сильные чувства и эмоции [42].
Была установлена негативная корреляция повышенной реактности с Сотрудничеством (Agreeableness) и Сознательностью (Conscientiousness) [71]. Это значит, что чем выше наблюдается реактность по упомянутой нами ранее шкале Хонга [65], тем ниже в пятифакторной модели как показатели склонности соглашаться, так и показатели добросовестности, и наоборот, чем ниже реактность, тем выше оказываются эти два фактора. Причем авторы уточняют, что разница интенсивности этой связи в разных исследованиях может быть обусловлена семантической разницей в финском и шведском переводах одного и того же английского опросника, и даже одного и тоже же слова «submit» (подчиняться, покоряться), значение которого смягчено в финском переводе, но хорошо соответствует английскому оригиналу в шведском, из-за чего в использующих это слово вопросах у результатов по этим двум опросникам наблюдается расхождение.
Известно также, что ограничения в мысли вызывают более сильный реактанс, чем ограничения в поведении, контроль над мыслью воспринимается куда серьезнее. Испытуемые чаще отвергали предложения работы от компаний, которые в своих объявлениях говорили о том, что хотят изменить их мысли, ценности и убеждения в противоположность компаниям, собирающимся изменить их поведение. Была установлена связь между этой закономерностью и убеждением испытуемых в том, что инстанция, контролирующая их мысли, вероятнее всего попытается контролировать и поведение. В рамках одного исследования это было доказано в четырех разных экспериментах [54].
Когда во время задания на письменный поток сознания людей с повышенной реактностью просят подавлять свои навязчивые мысли, то по сравнению с экспрессивной группой повышенной реактности, они ощущают меньший контроль над своими мыслями, они их сильнее беспокоят. Можно было бы полагать, что реактность здесь ни при чем, однако в группах с низкой реактностью результат ровно противоположный – больший контроль над навязчивыми мыслями ощущают те, кого попросили их подавлять [50]. Этот результат подтверждается и текущими исследованиями в данной области – увеличение когнитивной нагрузки способствует уменьшению стимулов к активизации сопротивления, что дает лучший результат подавления мыслей [70].
Вообще подавление навязчивых мыслей – это очень малоэффективная тактика ментального контроля, так как приходится все время отслеживать свои мысли на предмет той самой нежелательной, что позволяет ей, парадоксальным образом, и далее оставаться в зоне досягаемости для сознания. В случае же с высокореактными индивидами ситуация ухудшается – когда врач мотивирует такого алкоголика не думать об алкоголе, в дело вступает то самое сопротивление внешнему контролю и внушению, что лишь усугубляет положение, оставляя человеку все меньше контроля над мыслями об алкоголе. Сами по себе навязчивые мысли являются симптомом обсессивно-компульсивных расстройств [57]. Доказано, что у людей, во-первых, убежденных в том, что их навязчивые мысли способны заставить их поступить соответствующим образом, и во-вторых, воспринимающих свои навязчивые мысли как неконтролируемые, эти самые мысли обладают большей частотой и постоянством [58].
§ 2.4 Негативная свобода как объектЗачем мы обо всем этом говорим? Затем, чтобы феномен, свидетельствующий о прямом ощущение человеком свой свободы или несвободы, строго отличать от других психологических феноменов, таких как гнев, обида, нарциссическое желание внимания со стороны окружающих, намеренное антисоциальное не конформное поведение, обсессивно-компульсивное расстройство, связанное с навязчивостью нежелательных мыслей, психопатическое расстройство, провоцирующее антисоциальное поведение и т.д.
Свобода – это, во-первых, восприятие ограничения вариантов поведения; во-вторых, негативное возбуждение, вызванное этим ограничением; в-третьих, сопротивление этому ограничению в виде попытки восстановить доступ к ограниченному поведению. Мы привыкли свободой называть результат успешного восстановления таких ограниченных вариантов поведения, однако измерению, по всей видимости, подвластно лишь само сопротивление ограничению, что мы, с прагматической точки зрения, считаем достаточным для объяснения этого феномена, ведь мы, таким образом, наблюдаем практическое следствие не только такого же практического, но и «теоретического» взаимодействия с вариантами поведения (вербальный запрет, условное ограничение).
Реактанс как концепт нам интересен потому, что позволяет сразу по нескольким факторам измерять ощущение несвободы, сказывающееся при этом в конкретных действиях. О свободе мы тогда можем говорить более предметно, отслеживая ее происхождение по ситуациям, предполагающим PR. Мы видим, что, ограничение выбора, установление искусственных правил, создание ситуаций недоступности и т.д. вызывают в людях обратную реакцию, что для разных людей по разным причинам может быть свойственно в большей или меньшей степени. Конкретно для определения меры противодействия ограничению, нам не требуется вскрывать черный ящик субъективного переживания. Описание ситуации сопротивления с позиции индивида, находящегося в реактном состоянии, представляется лишь наиболее удобным и понятным, но вовсе не необходимым. Мы видим, что свобода для нашего тела, и для его когнитивного аппарата есть нечто вполне реальное, принципиальное, ценное и доступное для измерения. Свободу, стало быть, не нужно доказывать метафизическими принципами. Она есть нечто вполне очевидное и объективное, когда на нее происходит посягательство. Свобода измеряется в силе сопротивления – она есть мера действия в ответ на ее ограничение. Мы отдаем себе отчет в том, что это афористичное круговое определение, однако оно, по всей видимости, справедливое.
С точки зрения анализа выбора, дело не в том, что мы «на самом деле» предпочитаем. Дело в том, как работает сама процедура выбора, какие факторы мы можем в ней выделить. Каким образом мы можем предсказать содержание выбора из одной лишь формы постановки вопроса? Свобода очевидным образом является мерой сопротивления ограничению, а неочевидным образом, она является положением дел до введения ограничений. Свободу нельзя делегировать. С точки зрения живого существа, обладающего эмоциями и когнитивными способностями, свобода – это исходное положение дел. Неестественны лишь искусственные ограничения, перед фактом которых человека могут в какой-нибудь момент поставить. Проблематично нам свобода явлена как череда поступков не встречающих обычного для них внешнего ограничения. Для каждого ограничения должны быть предоставлены хорошие обоснования, иначе организм реагирует на них негативно, как если бы, посредством ограничений, была нарушена работа каких-то его внутренних механизмов.
Мы видим, как результат нашего исследования контрастирует с тем, к какому пониманию свободы, через наследование традиции римского права, пришла философия. Измерять свободу в правах и благах, над которыми человек обладает политической властью и законодательно закрепленной собственностью – это все равно, что измерять общую популяцию какого-нибудь вида животных в таком их количестве и разнообразии, в каком этих животных можно наблюдать в зоопарке, анализировать их распорядок дня и составлять перечень предоставленных им возможностей. Реактанс наблюдается лишь как ответ на прямое ограничение, т.е. в качестве психологического импульса к восстановлению «свободы от». «Свобода для» должна, надо полагать, измеряться в степени неудовлетворенности отказом в просьбе, т.е. отказом в предоставлении тех возможностей, которых у просящего нет и не было, быть может, изначально. «Свобода для» есть привилегия патронажа, следствие щедрой опеки, дарованная позитивная возможность воздействия – иными словами, власть, право (то, в чем по сей день измеряется политическая свобода гражданских лиц). В природе такое позитивное вспоможение встречается между представителями одного рода в виде взаимопомощи, как следствие привязанности между родителями и детьми или между половыми партнерами, а также между подчиненными особями и теми, кто подчиняет их себе силой как следствие угрозы насилием за неподчинение. Имеется в виду та самая свобода, которую дают, как если бы никакой другой никогда и не было. Условием существования такой свободы всегда является другое живое существо, которое своими силами обязывается обеспечивать индивида возможностями. Исчислимостью такая свобода не обладает, так как нам нечего измерять в обязательствах властвующего перед подчиненным. Все эти обязательства умозрительны и держатся на честном слове. Измерить можно только действие.
Обратимся к первому в философской традиции анархо-индивидуалисту Максу Штирнеру. Он пишет, «если же они [представители государства] все же дают вам свободу, то они плуты, которые дают больше, чем имеют: они не дают вам тогда ничего им принадлежащего, а лишь краденый товар, дают вам вашу собственную свободу, свободу, которую вы сами должны были бы взять себе, и они дают вам ее только для того, чтобы вы ее сами не взяли и прежде всего не притянули к ответственности воров и обманщиков. В своей хитрости они отлично знают, что дарованная свобода все же не есть свобода, ибо только та свобода настоящая, действительная, плывущая на всех парусах, которую сами себе берут, следовательно – свобода эгоиста. «Дарованная» свобода тотчас спускает паруса при всяком шторме и при безветрии, ее нужно постоянно слегка – не слишком сильно – раздувать» [27.С.211]. Здесь мы сразу замечаем две вещи. Первая – свободу Штирнер все равно понимает, как нечто, что можно взять, причем силой. Другого и не следует ожидать, учитывая, что момент собственности вынесен прямо в название его работы. Иронично, но выясняется, что между Штирнером и Гоббсом в широкой философской перспективе гораздо больше общего, чем можно было бы ожидать. Вторая – хоть он и имеет в виду эту самую сугубо политическую свободу, и в самом деле, ни одна инстанция на свете, в действительности никому никакой объективно измеряемой, с нашей точки зрения, свободы не дает.
Свобода, так или иначе предполагающая хозяина, который ее дарует, ничего общего не имеет с действительной психологической потребностью. Для людей это всегда было очевидно, ощущали ли они эту потребность на своем примере, или на чужом. Любое самоограничение, основанное на страхе насилия – это форма рабства, питающаяся коллективным взаимным отчуждением и отвратительной рабской любовью, смешанною с навязанными представлениями о чести и долге. Мы выяснили, что у большинства людей есть прекрасная возможность на примере собственного ощущения понимать, что свобода и ограничение из себя представляют. Никогда такие вещи как рабство не считались и не будут считаться нормой для существ, у которых свобода явлена в виде психологической потребности – «Рабство всегда считалось чем-то по меньшей мере позорным и отвратительным. Оно марало всякого, кто имел к нему отношение. Особое презрение вызывали работорговцы, имевших репутацию бесчеловечных мерзавцев. В истории аргументы, служившие нравственным оправданием рабства, редко когда принимались всерьез даже теми, кто их разделял» [11.С.171]. Невозможно также довольствоваться собственной «свободой для», понимая скольким окружающим в такой свободе отказано – это прямое ограничение даже для неё самой, ведь мы социальные существа, а значит, сколько бы мы ни были свободны индивидуально, будучи окружены бесправными рабами, мы, в виду наличия у нас эмпатии и прочих просоциальных механизмов, не сумеем хоть какую-нибудь радость извлекать из собственного набора прав. Такая радость была бы злорадством над несчастьем и невежеством тех рабов, с участью которых мы в лучшем случае соглашаемся, а в худшем намеренно ей способствуем. Не может быть теории «свободы для», которая бы не зависела от вечно изменяющегося положения дел в обществе и не потакала бы прихоти того или иного меньшинства, находящегося у власти при действующем политическом режиме.
§ 2.5 Феноменологическая перспективаФеноменология свободы, тем самым, обнаруживает в качестве исходного аподиктически очевидного своего элемента именно ограничение, сопровождаемое связанным с ним раздражением разной степени интенсивности. Конституирование свободы предполагает указание на преодоление мыслимого набора этих самых ограничений, имеющих при том ценностно негативный окрас, то есть мало общего имеющих с отстраненным сугубо теоретическим восприятием вещей таковыми, каковы они для нас даны в определениях. Актуализация свободы равна конституированию ограниченных извне интенций (вариантов поведения, говорения, мышления) как более ценных, представляющих больший интерес в виду своего особого модуса данности (запрещенных, урезанных, кем-то с какой-то целью отнятых и т.д.).
Свобода выражается как интенция второго уровня по отношению к ограничению, то есть как интенция об интенциях. Ее ноэматическое ядро может заключать в себе ретенционально удерживаемое ощущение, имевшее место до ощущения внешнего принуждения, то есть на деле удержание этих контрастирующих ощущений в единстве сознания, направленность актуальной интенции на данное единство. Эдмунд Гуссерль полагал, что всякое сознание различия предполагает прежде всего совпадение в единстве сознания [13.C.48]. Ноэма поведения дана сознанию как ноэтически ограниченная, эта интенция сознается разом с любой другой «нормальной», не имеющей этого запретительного ноэтического компонента, уже в рамках новой интенции, которая служит, в свою очередь, платформой для аксиологического преобразования исходной ноэмы поведения в более ценную. Говоря здесь о сознании свободы, мы должны дополнить, что, употребляя слово «ощущение», мы имеем в виду выделенную из гилетического потока данность. Наши выводы не противоречат тому, какой феноменологический аспект в своей теории реактности усматривал сам Джек Брем. У него мы видим лишь дополнительный акцент на осознании реактности, которое, если оно происходит (что далеко не обязательно будет иметь место), влечет за собой повышенное внимание к собственной способности направлять свои действия и внимание к своему поведению в целом [32].
Гуссерль предлагал рассматривать всякое сознание как имплицитно обладающее горизонтом пустых интенций – «Вещь с необходимостью даётся лишь «способами явления», с необходимостью ядро «действительно репрезентируемого» окружено при этом, по мере постигнутости, горизонтом не собственно данной «соприданности» и более или менее туманной неопределённости» [12.C.132]. Запрет до той степени, до какой он имеет силу себя выразить средствами мышления, необходимо нарушает само устройство восприятия, то есть не просто добавляет и наполняет новую интенцию, извлекая ее из постоянно расширяющегося горизонта пустых интенций, но нарушает работу самого этого горизонта, уничтожая казалось бы вещи, еще и не актуализированные, уничтожая саму протенционально мыслимую возможность наполнения этих пустых интенций. В работе сознания, с другой стороны, ничего принципиально при этом не меняется – мы вместо одного способа мыслить, практикуем другой. Действительную же разницу мы можем ощутить, нарушив феноменологическую установку и обратившись к данным опыта, из которого хоть и нельзя моментально дедуцировать источник происхождения этой когнитивно-эмоционально ощутимой разницы между свободой и несвободой, однако во многих аспектах такой поворот продуктивен, что мы и попытались емко продемонстрировать выше.
В научном смысле освобождает прямое действие, уничтожающее ограничение. Такую свободу мы считаем действительной. В феноменологическом же смысле освобождать способна, например, философия. Философия есть рефлексия в отношении иначе некритически воспринимаемых жизненных процессов, предрассудков и верований. Занимая при помощи философии относительно себя и своей жизни стороннюю позицию критика и наблюдателя, мы, в идеале, делаемся свободны на мгновение от субъективности, освобождаемся от непосредственного влияния эмоций, ведь держим их теперь в уме уже в качестве данного нам к рассмотрению и рациональному воздействию объекта, отличного от нас самих. Обе эти свободы негативные – вторая лишь подменяет освобождение действительное на освобождение «духовное».
§ 2.6 Свобода и вера в дьяволаМы можем теперь поразмышлять о естественном происхождении механизмов, задействованных в осмыслении мифов о дьяволе (злом искусителе). Ситуация «я это хочу, мне это нельзя, но оттого еще больше хочется» для нас теперь становится куда прозрачнее. Злой дух искуситель – запущенный случай ОКР, то есть совокупность навязчивых мыслей, которые человек не может подавить в виду того, что воспринимает их как неконтролируемые и неизбежно ведущие к реализации в действии. Высокий PR эти процессы усугубляет, превращая жизнь свободолюбивого индивида в экзистенциальный ад. Навязчивые мысли человек начинает отличать от собственных, однако собственными они от этого быть не перестают, как не перестает быть собственным и отличенный от индивида им самим его законодательный, ответственный за его тело разум.
ОКР может быть следствием пережитой травмы или следствием перфекционизма как черты личности, однако, коренная причина возникновения ОКР как явления по сей день неизвестна. Существует мнение, что в эволюции психики ОКР имеет предостерегательное значение. Данное расстройство может быть понято как экстремальное проявление стратегии избегания вреда. ОКР встречается во всех культурах. Проявления этого расстройства больше всего напоминают ритуальное поведение, служащее поддержанию порядка и регулярности, сохранению существующих границ и строго разведенных категорий. Повторение действий до тех пор, пока не станет «хорошо», чрезмерная упорядоченность, ритуалы мытья рук, болезненная обеспокоенность риском навредить другим, избыточная запасливость – все это есть патологическое искажение механизмов избегания вреда [37]. Когда у человека возникают неприятные для него самого мысли о возможности причинения вреда другим – это не свидетельство его морального разложения, а, напротив, свидетельство его глубокой обеспокоенности такой возможностью. Мозг обременяет человека такими мыслями именно в попытке предотвратить подобное поведение.
Общественные регуляции служат внешней инстанцией, сильно ограничивающей спектр приемлемых действий и мыслей. Социальность соткана из запретов. Потому, например, Ницше видел Шопенгауэра Мефистофелем, среди толпы лицемеров, замалчивающих свои истинные мнения и желания – «говорить правду в лицо – другим людям это кажется проявлением злобы, ведь консервацию своих недомолвок и уверток они считают долгом гуманности и думают, будто только злобный человек может своей правдивостью растоптать их игрушку» [17.С.207]. Вот так отец лжи оказывается единственным, кому до истины есть дело. Многие добродетели являются производными от демонизации. К примеру, совесть – ничто иное как супер-эго, интернализованные внешние социальные требования, которые человек рационализирует и считает уже собственными моральными принципами: «она [совесть] погоняет его грубо и жестоко, запрещая ему радость и счастье, превращая его жизнь в искупление некоего таинственного греха» [22.С.109]. Совесть – это продукт извращенного протестантского представления о природе человека.
Существующая у нас потребность в восстановлении потерянной свободы на всех уровнях заставляет людей внутренне сопротивляться любым внешним ограничениям, что помещает в нашу когнитивную жизнь еще больше тех самых неприятных мыслей – словом, неприятность свою они заимствуют напрямую из того, что в обществе осуждается. Хорошо, когда на ограничение свободы человек немедленно реагирует вовне, если она для него так «принципиальна», но как быть, когда последствия у такой реакции грозятся быть фатальными? Потому мы теперь и говорим, что в экзистенциальном смысле дьявол – это, если угодно, задавленная свобода. Свобода, которой человеку не хватает, для восстановления которой он ничего не предпринимает вовне. Всякий сознаваемый запрет подобные представления лишь подпитывает. В Западноевропейском сознании этот миф о дьяволе прочно укоренился. Как пишет Шпенглер, «великим мифом Возрождения был именно этот, и без него мы не поймем пышной, подлинно готической мощи этого антиготического движения. Люди, не ощущавшие дьявола вокруг себя, не могли бы создать ни «Божественной комедии», ни фресок в Орвьето, ни росписей сводов Сикстинской капеллы. Лишь на исполинском фоне этого мифа в фаустовской душе выросло ощущение того, чем она является. Затерянное в бесконечности «я» – всецело сила, однако в бесконечности величайших сил – бессильная; от начала и до конца воля, однако полная страха перед своею свободой» [26.С.303].
§ 2.7 Экзистенциальное значение PRЛюбому занятию, чтобы оно обладало смыслом, необходим жар сопротивления. Ничто так не мотивирует к активному действию, как осознание препятствий и ограничений, величайшее из которых – смерть. Смерть и свобода всегда шли рука об руку. Не страх смерти, но ее зрелое и холодное осознание делает свободу бесценной. Если человек свободен не на основании очевидности свободы, то свободен он, во всяком случае, в той мере, в какой его недолговечность ему наглядна. Сугубо позитивное занятие всегда будет сознаваться как излишнее и тщетное, ведь как в нашей природе, так и в нашей культуре все несет на себе отпечаток нехватки – в еде, в других, во власти над ними, в пространстве для жизни, и, в том, что составляет конечную, неумолимо отдаляющуюся цель всякого интереса и любопытства. И в этом пессимизм нашего взгляда на человека – если отнять у него врага, то он его выдумает, лишь только бы не влачить пустую посредственную жизнь, в которой всякое позитивное изменение обречено быть вымученным и бессмысленным. Радость победы и преодоления – это соблазн, находясь во власти которого, мы никогда не начнем мыслить объективно, стремиться к полезному, а не к великому.
Реактанс как феномен помогает нам лучше понять действенность реверсивных стратегий маркетинга и обольщения. Если ситуацию выбора сконструировать таким образом, что некоторый вариант выбора будет максимально выгодно выделяться на фоне прочих в виду его искусственной ограниченности и табуированности, мы можем с большой вероятностью этот выбор предсказать. Если вам заранее известно о чьем-нибудь высоком уровне PR, этого человека вам легче будет убедить или обольстить, пользуясь его склонностью своим поведением восстанавливать свободы, которые вы искусственно ограничили. С одной стороны реверсивное пре-убеждение кажется чем-то экзотичным, но с другой очевидно, что культура во многих отношениях эксплуатирует это свойство нашей психики – большинство наиболее интересующих нас тематик так или иначе табуировано. Точный характер этой взаимосвязи установить бывает трудно. Отдельные образы табуируется потому, что зачастую являются для большинства людей ценными и постоянно вызывают конфликты, или, ценными они становятся в результате этой самой табуированности. С уверенностью можно сказать, что для людей с высокой реактностью более справедливым будет казаться второе. Но откуда в людях это есть? Откуда эта психологическая тяга к свободе?

