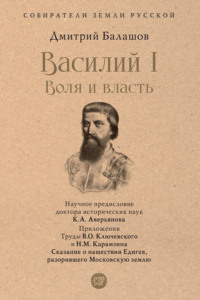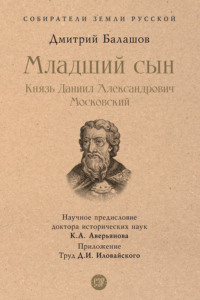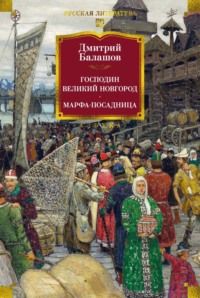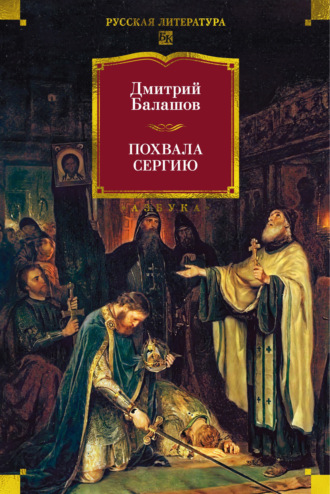
Полная версия
Похвала Сергию
Скрыть ото всех свою рану ему, конечно, не удалось, хотя о том, что совершилось, он так никому и не проговорился.
– Упал затылком о топор! – вот и все, что из него выудила мать.
Вызывали лекаря с наместничьего двора, рану вновь промывали и зашивали. (Варфоломей тихо скрипел зубами, было много больнее, чем давеча в избе Ляпуна и у Секлетеи.) А потом он лежал горячий и безвольный, и кружилось, и плыло хороводом перед очами, и плакала мать, и Нюша прибегала и сидела рядом, вздрагивая от тихих слез и трогая прохладными пальчиками его воспаленное чело, и ему было хорошо-хорошо от ее касаний и от такого открыто-нежного страха за него.
На все вопросы о том, что с ним произошло, Варфоломей либо упрямо повторял первую пришедшую в голову ложь, либо отмалчивался. Кажется, только один Стефан и догадал, в чем дело. На третий или четвертый день кто-то из холопов принес весть, что невестимо исчез колдун, Ляпун Ерш. Заколотил дом и пропал неведомо куда. Варфоломей со Стефаном как раз разговаривали. Первый – лежа, второй – сидя на краю братней постели. Варфоломей умолк и насторожил уши. Подняв глаза, он увидел внимательный взгляд Стефана и смущенно отвел взор.
– Это ты его… довел? – хмуро, процедив сквозь зубы, вопросил Стефан, внимательно оглядев перевязанную голову младшего брата.
Варфоломей смолчал. Стефан задумался, слегка ссутулив плечи.
– Видишь, с ними, с такими, по-христиански нельзя. Тут нужна власть, закон. Иного не понимают. Темные они!
– А как же – первые – христиане – обращали – язычников? – медленно ворочая языком, выговорил Варфоломей.
– Там иное! Как же можно сравнивать: неведенье истины или нежелание ее знать! Ежели кто сам обещался дьяволу, того уже светом истины не просветишь… А ты никак Ляпупа обращать в христианство надумал?
– Я упал… – нехотя отмолвил Варфоломей.
– Ну дак не падай больше! – грубо возразил Стефан, обрывая разговор. – Матерь исстрадалась совсем!
Впрочем, пролежал Варфоломей недолго. Здоровая природа взяла свое. А Ляпун и верно пропал из Радонежа, и до времени боле о нем не слыхали.
Глава седьмая
Мать как-то обмолвилась, сидючи за шитьем:
– Скорей бы Стефана оженить, да и вас с Петром тоже! Мы с отцом старые уже, уйдем в монастырь. Дом без хозяйки – сирота!
– Я, мамушка, о женитьбе не думаю! – отмолвил Варфоломей. – Хочу послужить Господу!
Мария поглядела внимательно, перекусила нитку.
– Гляди, сын! В монастыри уходят больше к старости, к покою, опосле трудов мирских… – Подумала еще, помолчала, добавила тише: – Ну, как знаешь, не неволю.
О женитьбе Варфоломей и вправду не думал. Он рос, вытягивался, становился шире в плечах, огрубело лицо, явилась юношеская, проходящая к мужеству неуклюжесть. Но все уходило в силу рук и в пытливость ума.
И Нюше, внучке протопоповой, он отвечал вполне чистосердечно, когда она, подсаживаясь к нему, глядела, как Варфоломей большими руками ладил по просьбе девушки тонкую берестяную коробочку для иголок и ниток, и заглядывала любопытно, и невзначай касалась его плечом, и влажными пальчиками трогала загрубелые длани юноши («Какие у тебя руки большие!»), удивляясь, как это он такими большими пальцами выплетает и узорит столь тонкую крохотулю? И, поглаживая его словно бы рассеянно по запястью, выспрашивала вполголоса:
– Правда ли, что ты пойдешь в ченцы?
Варфоломей, сосредоточенно действуя кочедыгом, кивает головой:
– Да!
Нюша хмурит бровки, словно облачко набежало на ясный небосклон, замирает на миг и вновь начинает ластиться:
– Расскажи чего-нибудь! – просит она.
И он, не отрывая глаз от дела, сам любуясь своим мастерством, начинает вполголоса сказывать: про старцев египетских, Герасима и льва, девушку, прожившую неузнанной в мужском монашеском платье, про Алексея Божьего человека… А она сидит, взглядывая искоса на него, примолкшая, и клонит голову, изредка вздыхая, а то вновь начнет молчаливо водить теплым пальчиком по запястью Варфоломея, то щиплет, дурачась, светлый пух бороды, а то захохочет, недослушав, вскочит, убежит, поворотя от двери, позовет лукаво:
– Бежим в горелки играть!
С Нюшей ему было хорошо и покойно. Теплело внутри и хотелось так и сидеть рядом, бесконечно что-то делая, и чтобы она дурачилась, и выспрашивала, и тепло дышала в ухо, водя соломинкою по шее, и – ничего больше! Решению его идти в монахи Нюша никак не могла помешать. Так он думал. Да так, до поры, и было на деле. Плотское не волновало пока, не мучило Варфоломея. Быть может, еще и потому, что он с детства установил для себя строгую, полумонашескую жизнь: очень мало спал, умеренно ел и непрестанно трудился. Все, чем будущий Сергий впоследствии изумлял братию свою, все его многоразличные умения были приобретены им теперь, в эти радонежские годы.
В марте валили дерева, возили лес на хоромы. Возили помочью, самим бы и не сдюжить было. Тормосовы подослали людей и сами помогли. С родней-природою всякий труд вполгоря!
Когда обтаяло, на дворе уже высилась груда окоренных, истекающих смолою бревен, только катай и руби, и уже руки чесались в охоту взяться за отглаженное ладонями до блеска темное топорище и повести ладным перестуком спорую толковню секир.
Снова зеленым пухом овеяло вершины берез, вновь стройные девичьи хоры потекли над рекою. На Троицу завивали березку, парни угощали девиц пряниками, а те их отдаривали яйцами. И снова ладили упряжь, пахали и сеяли, вновь чистили пожни, выжигали лес под новые росчисти. Хозяйство устраивалось, крепло, и все же для боярской семьи Кирилловой это был путь вниз.
Через лето, осенью, когда собрали урожай, свезли и обмолотили снопы и засыпали хлеб в житницы, ушел Яков. Честно ушел, простясь и оставя после себя надежный порядок в дому. Ушел к Терентию Ртищу, наместнику.
– Воин я! – объяснял Яков старому Кириллу. – Место дают старшого, буду в дружине, там авось… И парень у меня растет, куды его?
– Христос с тобою, Яша! – отмолвил Кирилл. – Не корю! Мне, видно, уже в монастырь пора, а тебе – гляди сам!
– Тимоху, батюшка, выгнал я, лодырь он, да и на руку нечист. Ты его назад не бери, горя примешь! – наставлял своего господина Яков. – Даньша, коли не уйдет, будет тебе вместо меня. Да и Стефан ноне уже с понятием. Прости, боярин! – Яков рухнулся в ноги.
Кирилл поднял его, поцеловались трижды. По-хорошему, по совести расстались. И все-таки это было бедой. Рушился дом. Вместо прибытков, доходов и кормов оставалось все меньше слуг, наваливало все больше работы на плечи сыновей, и – где там научение книжное! Посев, покос, жнитво, молотьба, навоз, дрова, сено… А выйдут льготные годы? Прибавят сюда дани-выходы, кормы, повозное, та же ордынская дань, мирские тяготы… Каково-то будет Стефану – нравный, гордый! И вовсе сыны обратятся в крестьян! А случись пора ратная, не иначе идти им простыми кметями, в том же городовом полку радонежском. Броней – и тех нет у его сыновей!
Кирилл давно начал сдавать, а тут одряхлел как-то сразу. Быть может, не столь от трудов тяжких, сколько от безнадежности этих трудов. И хозяйство порушилось бы, кабы не дружная помочь Тормосовых, кабы не Онисим, что, схоронив в одночасье жену и младшего своего, не шутя прилеплялся все боле и боле к семье Кирилловой.
Помочью молотили снопы. С умолота пировали в дому Кирилловом. И вроде бы не много лет прошло с тех, прежних, ростовских застолий, а как изменилось, как опростело все! И уже не в шелку, а в простой посконине сидят за столом вчерашние знатные мужи ростовские, и серебро со стола, почитай, поисчезло почти целиком, простая, глиняная да деревянная посуда стоит перед ними. Да и блюда попроще, без иноземных, привозных яств и питий. И уже не двоезубою серебряною вилкою, а просто рукою ухватывает жаркое с деревянной тарели Тормосов, кромсает засапожником гусиную ногу и смачно хрустит ею – так, как обык на домашних пирах с холопами и прислугой. И речи ведутся простые – про урожай, жнитво, умолот, а о том, что творит в Орде Иван Данилыч или Александр Тверской, разве пару раз и упомянут только. Онисим, бывало, ввалится, громогласно начнет вещать, что творит там, наверху, в Москве, куда поехал великий князь владимирский да кого вызывают на суд к хану, – рассказывает, а словно все то уже и не трогает взаболь. Иные заботы у всех на уме: не вымерзло б яровое, не залило бы покосов водой, да почем сало, говядина, кожи? Нынче легота вышла, приходит и дани давать, и на тот же ордынский выход опять собирать серебро!
Но и другое сказать: проще, сердечнее стало застолье! После работы с цепом, после страды совместной теснее и ближе становит круг не позабывшей друг друга ростовской родни. Ветшает, уходит в небылое боярская слава и роскошь минувших времен. Являют иные, дражайшие, сердечные связи. И пока живы они, пока уработавшиеся на помочах веселые родичи, попарясь в бане, вместе сидят за праздничным столом и поют, любуясь друг другом, и смеются, и шутят, и черпают ковшами темное пиво из круглой ведерной братины, и готовы друг за друга, почитай, и самих себя отдать, – до тех пор ничто еще не окончило и не изветшало на земле, ни для них, ни для всего народа русского! Так точно ли рушит, точно ли вниз упадет Кириллов боярский дом?
Што ни в полюшке пыль, пыль,
Курева-а – стоит!
Што ни в полюшке пыль, пыль,
Непогодушк-а-а-а!
Доброй молодец, доброй молодец,
Доброй молодец в перелет летит,
В переле-е-ет лети-и-и-т…
Под ем добрый конь расстилаетси-и-и…
Поет мать. Поет Онисим, подперев, по обычаю своему, голову обеими руками. Поет, понурясь, отец. Высоко ведут братья Тормосовы, и песня про гибель молодца в далекой степи торжественной грустной красотою наполняет праздничный терем, уводя в иные миры, в далекие страны и в выси горние…
Глава восьмая
Да! Незримо отдалились, отодвинулись от них в далекое далеко княжеские труды и печали боярские. Иные труды и печали тревожат днесь вчерашних ростовских бояр, а теперешних радонежан. Просто изначальный труд на родимой земле заботит их ныне более всего. О том, что тверской и московский князья вновь поехали в Орду на суд ханский, повестил проезжий княжой гонец, но ни тревог, ни надежд прежних известие это ни у кого не вызвало. А про казнь Александра Тверского с сыном Федором в Орде в Радонеже узнали-то только в канун Рождества.
Но не всегда, не во всем и не у всякого отдаление гасит навовсе работу разума. Освобожденная от пут суедневной властительной суеты мысль воспаряет порою ввысь, к горним основам бытия, и тогда, издалека, все видится крупнее и четче, и за кипением преходящих страстей возможет разглядеть мыслящий ум главное, великое и нетленное, к коему даже и величайшие из событий земных относятся всего лишь как узорная бахрома к ризам святительским или как пена к пучине бушующих вод.
Вновь и опять валят лес на новые хлева и хоромы. Дневные труды закончены, холопы ушли, и только Стефан с Варфоломеем задерживаются в лесу.
Снег сошел, но земля еще дышит холодом, и чуть солнце садится за лес, начинает пробирать дрожь. Стефан сидит на поваленном дереве сгорбясь и отложив секиру, накинув на плеча суконный охабень. Варфоломей – прямь него, кутаясь, как и брат, в сброшенный давче во время работы зипун. Он вырос, возмужал, оброс светлою бородкой и толкует со Стефаном уже почти как равный, хотя Стефан по-прежнему побивает его усвоенной в Ростове ученостью.
Гибель тверских князей в Орде – вот что вызвало на этот раз спор и толковню братьев. Еще днем во время работы, прерываясь для отдыха, обсуждали они: надобна ли была эта яростная, почти полувековая борьба Твери и Москвы для блага Руси Великой? Не лучше ли было без спора подчиниться сильнейшему? Или такая готовная покорность силе развращает власть и спор городов нужен был ко благу страны? И кто сильнейший? И в чем сила? И может ли сила сочетаться с правдою, и как и когда?
Вряд ли, служи они оба на дворе княжеском, приходило бы в голову братьям обсуждать между собою все эти глубинные основы бытия!
Сейчас, оставшись с глазу на глаз со старшим братом, Варфоломей спрашивает со страстной настойчивостью у Стефана:
– Откуда зло в мире? Пусть там, наверху, это нужная борьба за вышнюю власть. Ну а зачем, скажи, Терентий Ртищ отобрал за спасибо коня у Несторшки? Зачем, ради какой злобы Матрену Сухую заколдовали на свадьбе и до сих пор баба сохнет день ото дня и чад приносит все мертвых? Когда Ляпун Ерш убил Тишу Слизня, знали об этом все и молчали, потому что боялись дурного глаза Ляпуна, а отнюдь не своей совести! А когда у Ондреянихи летось сгорел двор, то никто ей не восхотел помочь в беде, кроме нашего бати до Онисима, и только потому, что Ондреяниху облыжно считают колдовкой!
В конце концов, не так и важно теперь, кто был прав и кто виноват в княжеском споре, а вот откудова зло в мире? Откуда само зло! Вечная рознь братьев-князей, убийства, неправый суд, жестокость, бедность, леность, зависть, болезни и, паче всего, равнодушие людское! Что должен думать и творить верующий? Как все это согласить с благостью Божией? Ведь Господь злого не творит! Не должен творить!
– Чти Библию! – передергивая плечами и хмурясь, устало отвечает Стефан. – Всякий иудей скажет тебе, что Господь и награждает и карает за несоблюдение заповедей своих. Коли ты беден, нищ, наг, и болен, и не успешен в делах, значит – наказан Господом! Коли богат, славен, успешлив, значит – взыскан и любим Богом!
– Это неправда, – горячится Варфоломей, – этого не говорил Христос!
– Так я то и молвил им! – взрывается Стефан. – Еще тамо! В Ростове! В училище! Бог Израиля и Бог Евангелия – разные боги! Один жесток и темен – «темное облако и смерч огненный», другой светел и милостлив и сам есть свет предвечный! Один дал закон, другой – благодать! Один карает жезлом железным, верным велит обрезание и убийство побежденных; другой запрещает то и другое и зовет к милосердию! Первый предписывает месть, второй – прощение кающегося… Один пасет избранный народ, народ Израиля, обещая ему в награду всю землю; другой принимает всех равно в лоно свое, обещая верным не земные блага, а небо – жизнь вечную! И милостлив он настолько, что сына единородного послал на крестную муку во спасение людское! Чти в Евангелии от Иоанна, сам же Иисус говорит, яко Господь послал сына своего в мир «не судить мирови, но да спасется им мир!». Вот так!
А что рек Иисус фарисеям и книжникам? «Отец ваш – дьявол, и вы похоти отца вашего хощете творити: он человекоубийца би искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем! Егда глаголет – лжу глаголет, яко лжец есть и отец лжи!»
И более того скажу! Аврааму и Моисею наверняка являлись разные боги! И ежели хочешь, Иегова – это огненный демон или даже сам дьявол, соблазнивший целый народ! Народ, некогда избранный Богом, но позже соблазненный золотым тельцом и приявший волю Ялдаваофа, отца бездны!
Думал ты о ветхозаветных заповедях? К чему речено, что прежде рождения человека предначертано всякое деяние его и даже каждый волос его сосчитан Господом? Что защищает закон? Мертвую косноту безмысленного зримого бытия и только право всякого на безответственность в мире сем! Спорь, кричи, воинствуй! Но ежели до рождения предуказаны все дела твои, то нет ни греха, ни воздаяния за грех, нету ни праведности, ни праведников, а есть лишь избранные, и только!
Тому ли учил Христос? Не вдобавок ко старым, а вместо них дал он две – всего две! – заповеди: возлюби Господа своего паче самого себя и возлюби ближнего своего яко и самого себя! Не отвергал ли он с яростию мертвую внешнюю косноту обрядов иудейских? Не с бичом ли в руках изгонял торгующих из храма? Не требовал ли он деяния от всякого, как в притче о талантах, такожде и в иных притчах своих? Не показал ли он сам, что можно поступать так и инако, не воскрешал ли в день субботний, не простил ли грешницу, не проклял ли древо неплодоносное? Не он ли заповедал нам, что несть правила непреложного, но есть свыше данное божественное откровение и закон господней любви? Не он ли указал на свободу воли, данную человеку Отцом небесным? И что с каждого спросится потом по делам его?!
Как создан мир? Да и создан ли он?! Да, да! Бают, создан! И Бог, создав мир, опочил от дел своих! Нет! – кричит Стефан. – Бог творил мир «прежде век» и потому творит его вечно! Несвершенно творение! И мы сами творцы, и Бог живой и творящий, и можно, и должно ждать чуда, и перемен, и вмешательства Божия, и милости горней! Отсюдова и приход Христа! Разве вочеловеченье Сына Божьего не есть акт творчества, изменяющий мир? А второе пришествие? Когда Христос в силе и славе придет карать злых и мертвые восстанут из гробов? Как же можно помыслить свершенным этот земной, тварный мир?! А они мне в ответ: «Ересь Маркионова!» Вот так! Слова Христа и – ересь. Мол, Ветхий Завет принят издревле, и грешно даже мыслить о сем… Грешно мыслить! А совсем не мыслить разве не грешнее во сто крат? Да «покаяние» – это передумыванье! Думать и передумывать учил нас Господь!
Стефан умолк, и Варфоломей в сгущающейся тьме холодного молчаливого леса (солнечные лучи уже ушли, уже начинает тускнеть и бледнеть палевая полоса заката, и мрак, незримо подступая, окутывает стволы) вдруг увидел полосатый талес и надменно выпяченную челюсть бухарского иудея. Или то черно-белые узоры мха на суковатой поваленной ели? И резкий голос будто бы произнес в тишине: «Что ваш Христос!»
– Ересь Маркионова! – задумчиво повторил Варфоломей.
– Да, – отозвался Стефан, – Маркионова ересь… Был такой, единый из гностиков, Маркион, отвергавший Ветхий Завет… Гностики не считали мир прямым творением Божиим, а манихеи персидские вслед за ними и вовсе начали утверждать, что видимый нами мир – это зло. Порождение дьявола. Беснующийся мрак! Мрак, пожравший свет, заключенный в телесном плену и жаждущий освобождения. И надобно разрушать плоть, губить и рушить этот тварный мир, чтобы выйти туда, к свету… Вот, ежели хочешь, и ответ на твой вопрос! Зло в мире потому, что сам мир – зло. И, убивая, насилуя, обманывая друг друга, люди сотворяют благо. Так учат и богомилы болгарские, и павликиане, отвергающие святые таинства.
– Мир не может быть злым, раз он создан Господом! – упрямо отвечает Варфоломей, покачивая головой. – Посмотри! Мир прекрасен и светел! Зачем же иначе Христос рождался здесь, в этом мире, и в человеческом обличии?
– Монофизиты утверждают, что тело Христа было эфирным, призрачным, и никаких мук он испытывать не мог.
– Неправда! – отрезает Варфоломей. (Крестную муку Христа ему не нужно доказывать даже. Он ее чувствует и так всею кожей. Иногда, когда думает о ней, даже ладони начинают зудеть и краснеют посередке, в тех местах, где были у Спасителя раны от гвоздей.) – Скажи, Стефан, ведь это даже не могло быть правдою, да? Если бы он не чувствовал, то это была бы та самая «лжа», порождение дьявола! «Нас ради человек… Страдавша и погребенна…» – сказано в Символе веры! Не будь муки крестной, не было бы и самого Христа!
– И незачем ему было бы являться в мир! – подсказывает Стефан угрюмо.
Оба надолго замолкают, слушая засыпающий лес и следя, как ночная мгла беззвучно и легко выползает из чащоб, окутывая незримой фатою вершины дерев.
– Хочешь, – вновь нарушает молчание Стефан, пожимая плечами, – прими учение латинян, что дьявол – это падший ангел Господень, за гордыню низринутый с небес. И что он тоже служит перед престолом Господа. Слыхал, что объяснял лонись проезжий фрязин? У них, когда отлучают от церкви, дак клятвою передают человека в лапы дьявола? У них все стройно, у латинян. С рук на руки, так сказать…
– Союз Господа с дьяволом я принять не могу, – угрюмо и твердо отвечает Варфоломей.
– А по учению блаженного Августина, – продолжает Стефан с кривою усмешкой, – каждому человеку заранее начертано Богом погибнуть или спастись. Заранее! Еще до рождения на свет! Есть темные души, уготованные гибели, и есть те, кого Господь прежде времен назначил ко спасению. И переменить своей судьбины не можно никому! Он тоже был манихеем в молодости, Августин блаженный! Пелагий возражал Августину, так Пелагия прокляли! Никто не хотел в тогдашнем Риме исправлять самого себя по заповедям Христовым! Всех устраивала судьба, заданная от рождения, да еще к ней купленные у папы индульгенции! На этом они и с иудеями сошлись, на предопределении!
Думаешь, почему мы с католиками теперь не в одно?! Из-за Символа веры только? Из-за «филиокве»[25] пресловутого? Как бы не так! Это древний спор, с самых ветхозаветных времен! Спор о предопределении! Спор о заповедях Христовых! О свободе воли и о том, Бог или сам человек должен отвечивать за злые поступки свои! Наша Православная Церковь каждому дает надежду спасения! Но и каждого предупреждает: не споткнись!
Варфоломей молча склоняет голову. Об этом они с братом толковали досыта, и не раз. И не это занимает его теперь. Ему даже не нужно представлять себе ученого фрязина в высоком резном кресле там, на извитом мшистом дереве, окутанном темнотою ночи, изрекающего свои непреложные истины.
– И все-таки ты не ответил мне, откуда зло в мире? – говорит он, помедлив. – Ежели Бог добр, премудр, вездесущ и всесилен!
– Есть и еще одно учение, – отвечает голос Стефана из темноты, – что зла в мире и нету совсем. Попросту мы не понимаем всего, предначертанного Господом, и за зло принимаем необходимое в жизни, ведущее к далекому благу: «Горек корень болезни лечит!» – вот как словно в споре Москвы и Твери о княжении Великом. Может, убийства князей и тут ко благу грядущего объединения Руси?
– «Отыди от меня, сатана!» – строго возражает Варфоломей предательскому темному голосу. – Ты ли это говоришь, Стефан? Такого я и слушать не хочу! Зло есть зло, и всякое зло раньше или позже потребует искупления! Это ведь Иисус сказал! Сам! И в молитве Господней речено есть: «Но избави меня от лукавого!» Выходит, однако, дьявол постоянно разрушает всемогущество Божие? Как это может быть, Стефан? Я должен знать, с чем мне иметь дело в мире и против чего бороться. Мнишь ли ты, Стефан, что, не явись Христос на Землю, люди уже давно погибли бы от козней дьявольских, злобы и ненависти? И почему не погибнет сам дьявол, творец и источник зла, ежели он есть? Как помирить необходимость зла со всемогуществом Божьим?
– А как помирить свободу воли с вмешательством Божиим в дела земные?! – отвечает Стефан вопросом на вопрос. – Думаешь, так уж глуп был Августин со своим предопределением? Не-ет, не глуп! Надо допустить одно из двух: или свободу воли, или… всемогущество Божье!
– Стефан! Ты смеешь противопоставить Творца творению своему?!
– Пойми! Создав пространство вне себя, Бог сам себя и граничил, ибо находится вне, снаружи. Следовательно, он не вездесущ.
– Стефан, но я чую в мире присутствие Божие везде, и всегда, и всюду!
– Чуешь «присутствие в мире» – вот ты сам и ответил себе, Варфоломей! Создав необратимое время, он не может уже содеять бывшего небывшим. Следовательно, он не всемогущ.
– Стефан! Ты искушаешь меня!!
– Создав души, наделенные свободной волей, он не может, не должен мочь предугадывать их поступки! Следовательно, он и не всеведущ!
– Стефан, что же ты тогда оставляешь от величия Божия?!
– Любовь! – звучит голос Стефана из темноты как последний призыв, последняя надежда к спасению. – Любовь! – яростно повторяет Стефан. – Это так! Именно потому, что он добр! Ибо если бы он был вездесущ, то он был бы и в зле, и в грехе, а этого нет!
– Этого нет! – эхом, начиная понимать, откликается Варфоломей.
– Это так, потому что он милостив! – кричит Стефан – Ибо если бы он был всемогущ и не исправил бы зла мира, то это было бы не сострадание, а лицемерие! Это так, – продолжает Стефан, – потому что если бы он был всеведущ, то он знал бы и злые наши помыслы. И люди не могли бы поступить иначе, дабы не нарушить воли Его! Понимаешь?! Но тогда за все преступления должен был бы отвечать Господь, а не люди, которые всего лишь исполнители воли Творца! Бог добр, следовательно, не повинен в зле мира сего, а источник зла – сатана!
Стефан, чуть видный в темноте, отирает лицо рукавом. Он весь в холодной испарине.
– Значит, – медленно спрашивает Варфоломей, – ты признаешь силу сатаны, Стефан?!
– Да! Но ежели сатана сотворен Богом, то вновь и опять вина за его деяния – на Господе.
– Этого не может быть!
– Да, этого не может быть! – подтверждает Стефан. – И значит, сатана не тварь, а порождение небытия и сам – небытие, нежить! Я это понял давно, тогда еще… «Эйнсоф» – тайное имя бога каббалы, он же и есть дьявол или сатана. Но «Эйнсоф» означает пустоту, бездну, ничто!
– Но ежели сатана действует? Может ли ничто быть сущим, бытийным, действенным? Я не спорю с тобою, Стефан, я просто спрашиваю: как это можно понять?
– Да, сатана действует! И значит, небытие может быть действенным, бытийным… Погоди! Но не само по себе! Небытие незримо влияет на нашу свободную волю, как… ну, как пропасть, как боязнь высоты, что ли! Использует необратимость времени (страх смерти!), сочится через разрывы в тварном пространстве… Короче, находит пути именно там, где Господь добровольно ограничил себя. Те люди, животные или демоны, кто свободною волей своею принял закон сатаны, становятся нежитью и теряют высшее благо – смерти и воскресения на Страшном суде. Ибо тот, кто не живет, не может ни умереть, ни воскреснуть. Смерть сама по себе не зло, ибо за нею идет новая жизнь. Зло и ужас – вечное жаждание, вечная неудовлетворенность, без надежды на конец. Это и есть царство сатаны! – Глаза Стефана горят темным огнем, он сейчас почти такой же, как и прежде, и голос звучит, словно с высоты вещая народу.