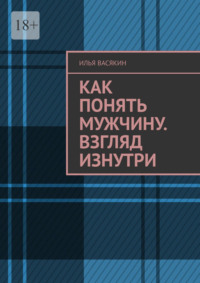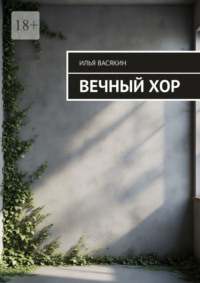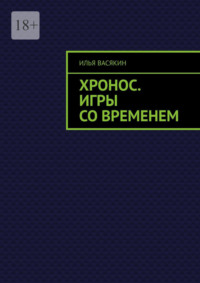Полная версия
Когда фотографии лгут
– Держи, – Марк протянул свой новенький смартфон, разблокированный. – Галерея, папка «Озеро». Там оно, самое первое вчерашнее.
Пальцы Элайджи дрожали так сильно, что он едва не выронил аппарат. Он промахнулся мимо иконки галереи, открыл что-то другое, с проклятьем закрыл. Наконец, нашел нужную папку. Эскиз группового фото. Солнечный блик на воде, улыбающиеся лица… и темный берег напротив.
Он коснулся экрана. Фото открылось во весь экран. Его собственное лицо, искаженное гримасой, снова бросилось в глаза. Он быстро провел пальцем, сдвигая изображение. Вот оно – озеро. Вот темная полоса противоположного берега. Лес. Густой, мрачный на фоне закатного неба.
Сердце колотилось, громко, как барабан в тишине. Он мог слышать его стук в собственных ушах. Он приблизил изображение двумя пальцами, растягивая его. Качество, и без того неидеальное, резко ухудшилось. Деревья превратились в размытые зеленовато-коричневые пятна. Вода бликовала белыми квадратиками цифрового шума.
Он искал. Водил дрожащим пальцем по экрану, увеличивая и уменьшая, сканируя каждый сантиметр той зоны, где оно было. Где он видел его вчера! Тот просвет у воды, где темная масса леса отступала…
– Вот! – вырвалось у него, хриплый, торжествующий звук. Он ткнул пальцем в экран, туда, где должен был быть силуэт. – Видишь?! Вот оно! Смотри! Прямо здесь! – Его голос срывался на визгливый шепот, полный отчаянной надежды и ужаса.
Марк наклонился, прищурился. Остальные тоже подтянулись, любопытство победило неловкость.
– Что? Где? – Марк всматривался в указанное место. На экране было хаотичное нагромождение пикселей: темно-зеленые, коричневые, серые, с вкраплениями белого шума. Никакой внятной формы. – Элайджа, я… я вижу только деревья. Или кусты. И много цифрового мусора. Ты о чем?
– Как деревья?! – Элайджа почти закричал. Он снова увеличил изображение, тыча пальцем. Теперь на экране была лишь абстрактная мозаика из квадратиков. – Вот же! Смотри! Фигура! Стоит прямо! И лицо! Лицо! Оно смотрит прямо сюда! Оно следовало за мной! Оно здесь!
Он показывал на экран, затем тыкал пальцем в сторону темного берега озера, невидимого теперь в кромешной тьме за световым кругом костра. Его движения были резкими, истеричными.
– Элайджа, успокойся, – Марк осторожно положил руку ему на плечо. Элайджа вздрогнул, как от удара током, и отшатнулся. – Там ничего нет. Серьезно. Я вижу просто размытость. Шум из-за плохого света и зума. Обычные артефакты. Ты же знаешь, камеры на телефонах…
– Нет! – Элайджа отшвырнул телефон, как раскаленный уголь. Аппарат упал на песок рядом с костром. – Ты не понимаешь! Я видел! Вчера! Ясно! Оно было там! То самое лицо! Из альбома! Оно не может быть артефактом! Оно настоящее!
Его голос сорвался. Он задыхался. Весь мир качнулся. Лица вокруг костра – Марка, его друзей – смотрели на него не с насмешкой, а с пугающей, леденящей душу жалостью и… настороженностью. Взглядами, которые говорят: «Бедняга. Он не в себе. С ним что-то не так».
– Элайджа, – Марк поднял телефон, отряхнул песок, голос его стал мягким, как при разговоре с ребенком или сумасшедшим. – Послушай. Ты очень устал. Стресс, город… Может, тебе нужно просто выспаться? Или… я не знаю… поговорить с кем-то? Со специалистом?
Слово «специалист» повисло в воздухе, как приговор. Оно обожгло Элайджу сильнее пламени костра. «Они думают, что я сумасшедший. И самое ужасное… А вдруг они правы?»
Сомнение, ядовитое и разрушительное, вползло в его сознание, как змея. Оно разъедало уверенность, которую дало вчерашнее видение. Что если Марк прав? Что если это действительно были просто артефакты? Цифровой шум? Игра света и тени, которую его измученный, пропитанный страхом мозг интерпретировал как знакомый кошмар? Что если оно никогда не покидало страницы альбома? Что если все эти дни – тень на стене, ощущение взгляда, а теперь и это – лишь плод его больного воображения? Галлюцинации параноика?
Отчаяние, глухое и всепоглощающее, накрыло его с головой, как ледяная волна. Оно было страшнее ужаса. Ужас был направлен вовне, на угрозу. Отчаяние – это крах внутреннего мира. Это потеря опоры под ногами. Если его восприятие лживо, если его разум – ненадежный свидетель, то где тогда реальность? Где грань между тем, что есть, и тем, что ему кажется? Между угрозой и безумием?
Он посмотрел на свои дрожащие руки. Они были реальны? Песок под ногами? Пламя костра? А ощущение того взгляда? Оно было таким же реальным! Он чувствовал его! На своей спине, даже когда смотрел в костер! Прямой, немигающий, лишенный всего человеческого… Но если этого нет на фото… если другие не видят…
– Я… – он попытался говорить, но голос предательски дрогнул. – Я, наверное… устал. Пойду… в домик.
Он повернулся и пошел, не глядя на них. Спиной он чувствовал их взгляды – тяжелые, полные беспокойства и смущения. Взгляды на того, кто вышел за грань нормального. Кто видит то, чего нет.
Дорога к домику сквозь сад, освещенная лишь отблесками костра, превратилась в кошмарный коридор. Каждый куст шевелился не от ветра, а от скрывающегося присутствия. Каждая тень была глубже, чем должна быть. Он не видел лица, но ощущал взгляд. Сильнее, чем когда-либо. Он шел, ускоряя шаг, почти бежал, спотыкаясь о корни. Паранойя, которую он пытался заглушить рациональным сомнением, вернулась удесятеренной. Что, если оно реально? И просто невидимо для других? Или… что если оно – часть его самого? Проекция его страха, обретшая силу и форму?
Он ворвался в домик, захлопнул дверь, повернул ключ. Прислонился спиной к дереву, скользя вниз, пока не сел на холодный пол. Темнота. Полная, кромешная. Лишь слабый отсвет костра дрожал в щели под дверью.
«Я сумасшедший?» – мысль пронеслась, острая и режущая. «Или меня преследует нечто реальное, но невидимое для других?»
Оба варианта были невыносимы. Оба вели в бездну.
Он закрыл глаза, но под веками немедленно всплыло лицо. Нечеткое, как на размытом фото, но с теми же глазами. Прямыми. Смотрящими. Из глубины его собственного разума? Или из темноты комнаты?
Он открыл глаза, вглядываясь в черноту. Ничего. Только очертания мебели. Или… там, в углу… движение? Тень? Форма? Его дыхание участилось. Сердце бешено колотилось. Он напряг зрение до боли. Это была тумбочка? Или… фигура? Стоящая неестественно прямо?
Он не знал. Он больше не мог доверять своим глазам. Своему разуму. Реальность исказилась, как изображение на экране телефона при сильном увеличении – рассыпалась на хаотичные пиксели, в которых можно было разглядеть все, что угодно. Особенно – самое страшное.
Отчаяние перешло в тихую, безутешную панику. Он схватился за голову, сжимая виски. Тихий стон вырвался из его груди. Он был в ловушке. Заперт не в домике у озера, а в собственной черепной коробке, где стены были ненадежны, а окна открывались в кошмар. Альбом был далеко, но его тень, тень незнакомого лица, легла не на окружающий мир, а на самое его восприятие этого мира. Исказила его. Сделала ненадежным. Ядовитым.
Он сидел на полу в темноте, прислушиваясь к стуку собственного сердца и к тишине дома, которая казалась зловещей, насыщенной незримым присутствием. Он больше не мог различить, было ли это присутствие внешним или внутренним. Оно было везде. В пикселях фото, которые превратились в артефакты. В тенях в углу комнаты, которые могли быть мебелью, а могли и нет. В самом его страхе, который теперь казался единственной достоверной вещью в искаженной, рассыпающейся реальности.
Внезапно, сквозь тишину, донесся звук. Тихий, но отчетливый. Щелчок. Как будто… как будто защелкнулся замок маленькой коробочки. Или перелистнулась страница тяжелой книги.
Элайджа замер. Кровь застыла в жилах. Он знал этот звук. Он слышал его сотни раз, листая страницы альбома. Тот самый звук старой, толстой бумаги.
Но альбом был далеко! Заперт! В сейфе!
«Воображение. Паранойя. Ненадежное восприятие», – шепнул ему измученный разум.
И тогда, в полной темноте, он почувствовал его. Тот запах. Сладковато-затхлый, пыльный, с ноткой тления. Запах старинной кожи. Запах альбома.
Он вжался в дверь, глаза, широко раскрытые, безуспешно пытались пронзить тьму. Запах был здесь. В комнате. Реальный. Осязаемый. Как и тот леденящий, прямой взгляд, который он чувствовал на себе сейчас, направленный из черноты, из того угла, где могла быть тумбочка… или могло стоять Оно.
Отчаяние достигло апогея. Он больше не знал, что реально, а что – порождение его сломанной психики. Граница стерлась. И в этой безграничной, искаженной тьме, пропитанной запахом прошлого и пронизанной невидимым взглядом, Элайджа понял самое страшное: неважно, сумасшедший он или нет. Кошмар был здесь. С ним. И сбежать от него было невозможно. Особенно если он жил внутри его собственной, ненадежной головы.
Дорога домой была не путешествием, а бегством сквозь кошмар наяву. Каждый километр, удалявший его от озера, не приносил облегчения, а лишь сгущал гнетущее ощущение ловушки. Лес, поля, промзоны за окном автобуса – все это казалось декорациями, за которыми пряталось Оно. Незнакомое лицо. Его тень. Его проклятие. После той ночи в домике, после запаха старой кожи в темноте и щелчка страницы, которого не могло быть, граница между реальностью и безумием истончилась до предела. Он не знал, что страшнее: что Оно преследовало его физически, или что его разум окончательно раскололся, порождая галлюцинации всех чувств. Но одно он знал точно: бегство было иллюзией. Убежища не существовало. Оставалось только одно место, куда он мог пойти. К источнику. К альбому.
Он вернулся в город под покровом серых, низких туч, обещавших дождь. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным запахом асфальта и выхлопов, который теперь казался чужим, враждебным. Его собственная квартира, когда он отпер дверь, встретила его ледяным молчанием и запахом затхлости – запахом пустоты и страха, который успел здесь застояться за несколько дней. Но под этой затхлостью, едва уловимо, витал другой аромат. Сладковатый, пыльный, с ноткой тления. Запах старинной кожи. Он был здесь. Везде. Как будто альбом, запертый в сейфе, дышал сквозь сталь и бетон, наполняя квартиру своим ядовитым присутствием.
Элайджа не стал включать свет. Сумеречный городской свет, пробивавшийся сквозь грязные окна, был достаточен. И безопаснее. Слишком яркий свет мог ослепить, сделать уязвимым. Он сбросил сумку у двери, не раздеваясь, и прошел в гостиную. Его шаги гулко отдавались в тишине. Казалось, само пространство сжималось вокруг него, давя, наблюдая. Он чувствовал взгляд. Тот самый. Прямой. Немигающий. Где-то из темноты спальни? Из угла за диваном? Или… изнутри него самого? После озера он больше не мог быть уверен.
Он остановился перед стеной, где висел тот безвкусный пейзаж. Картина, сдернутая им в спешке перед отъездом, все еще лежала на полу, стекло треснуло звездой, отражая тусклый свет. За ней – сейф. Его последний бастион. Его тюрьма для кошмара.
Трепет, ледяной и всепроникающий, пробежал по его спине. Руки вспотели внутри перчаток (он неосознанно надел их в автобусе, боясь прикосновений к чему бы то ни было). Сердце, которое всю дорогу колотилось как бешеное, теперь замерло в груди тяжелым, болезненным комком, прежде чем снова забиться – медленно, гулко, как похоронный колокол. Обреченность. Это слово висело в воздухе, тяжелее запаха старой кожи. Он пришел сюда не за спасением. Спасения не было. Он пришел за… пониманием? За подтверждением? За тем, чтобы посмотреть в лицо (в буквальном смысле) тому, что разрушило его жизнь. Даже если это лицо убьет его.
Сквозь одежду он почувствовал холодок от металла сейфа. Он ввел код – дата рождения матери, цифры, которые казались теперь кощунственными, связывая его начало с его, возможно, концом. Электронный замок щелкнул. Звук был необычно громким в тишине квартиры. Шипение открывающейся дверцы напомнило шипение змеи.
И запах. Он ударил с новой силой, волной, как из открытого склепа. Сладковатая затхлость, пыль веков, тление бумаги и… что-то еще. Что-то органическое, чуть резковатое. Запах самого кошмара. Элайджа закашлялся, глаза застилали слезы. Он зажмурился, пытаясь перевести дух.
Когда он открыл глаза, он увидел Его.
Альбом лежал там, в черной пасти сейфа, на металлическом дне. Темно-коричневая, почти черная кожа. Потертая, с глубокими царапинами, как шрамами. Стёртые углы. Тусклая металлическая окантовка. Он выглядел так же, как и до отъезда. И в то же время… иначе. Казалось, он пульсирует в полумраке. Казалось, он вобрал в себя всю тьму комнаты, всю тяжесть отчаяния Элайджи, и теперь излучал ее обратно, холодным, мертвенным сиянием. Он был не просто предметом. Он был сущностью. Живой. Дышащей. Ждущей.
Элайджа протянул руку. Перчатка скользнула по холодной стали края сейфа. Его пальцы зависли над альбомом. Казалось, от книги исходит холод. Не просто прохлада старого предмета, а настоящий, физический холод, как от глыбы льда. Он коснулся кожи переплета.
Лед.
Он едва не отдернул руку. Кожа была невероятно, неестественно холодной на ощупь, даже через тонкую ткань перчатки. Как будто альбом пролежал не в комнатной температуре сейфа, а в морозильной камере. Этот холод проникал сквозь перчатку, обжигал пальцы, полз вверх по руке, вливаясь в уже ледяную пустоту внутри него. Это было необъяснимо. Это было невозможно. Это было… зловещим.
Он сглотнул комок ледяного страха, застрявший в горле. Необходимость понять. Это было сильнее ужаса, сильнее инстинкта бегства. Он должен был знать. Что Оно такое? Почему преследует? Почему именно он? Альбом был единственной нитью, единственной зацепкой в этом безумии. Даже если эта нить вела в бездну.
Он обхватил альбом обеими руками. Холод мгновенно просочился сквозь перчатки, обжег ладони. Вес… он был еще тяжелее, чем помнилось. Не просто тяжелый – непомерный. Как будто он держал не книгу, а кусок гранита или сгусток черной, холодной тьмы. Он с усилием вытащил его из сейфа. Металлическое дно глухо звякнуло.
Элайджа стоял посреди гостиной, держа в дрожащих руках источник всех своих бед. Альбом казался живым, пульсирующим в его руках, излучая холод и этот удушливый запах. Ощущение обреченности сомкнулось над ним, как стальные тиски. Он не сбежал. Оно следовало за ним. Или… или альбом притянул его обратно? Как магнит? Как черная дыра, засасывающая свет? Возвращение не было его выбором. Оно было неизбежностью. Фатальной необходимостью.
Он подошел к старому дубовому столу, единственному прочному месту в квартире. Поставил альбом с глухим стуком. Звук эхом отозвался в тишине. Он не садился. Он стоял над ним, как над гробом, в котором был заключен его прежний, нормальный мир. Его тень падала на темную кожу, делая ее еще чернее, еще глубже.
Мысль промелькнула, быстрая и яркая, как вспышка молнии: «Сжечь. Сжечь его сейчас же! Пока не поздно!» Он оглянулся, ища глазами зажигалку, спички… Но тут же мысль угасла, задавленная тяжестью понимания. Огонь? Что, если он не уничтожит его? Что, если пламя лишь выпустит Оно на свободу окончательно? Или… что если альбом был лишь фокусом, а само Оно было уже снаружи, независимо? Сжигание было бы бессмысленным жестом. А главное – он не мог. Не мог уничтожить единственное, что связывало его с загадкой, пусть и смертельной. Необходимость понять была сильнее инстинкта самосохранения.
Он снял перчатку. Его рука дрожала. Воздух казался еще холоднее. Он должен был прикоснуться. Напрямую. Почувствовать холод кожи, текстуру, правду этого предмета. Без посредников. Он медленно, с бесконечной нерешительностью, опустил кончики пальцев на переплет.
Холод был шокирующим. Он обжег кожу, как сухой лед. Он шел не от поверхности, а из самой глубины книги, из ее ядра. Элайджа ощутил слабую… вибрацию? Или это билось его собственное сердце, передавая дрожь рукам? Кожа альбома под пальцами была гладкой, но неживой, как шкура рептилии. И в то же время… пульсирующей. Налитой скрытой силой. Он водил пальцем по потертому корешку, по металлической окантовке угла. Каждое прикосновение усиливало чувство вторжения в запретное. Он нарушал границу. Между мирами? Между здравомыслием и безумием?
Его взгляд упал на застежку альбома. Простой металлический крючок, входящий в петлю. Он помнил этот звук – тихий щелчок при открытии и закрытии. Звук, который он слышал в темноте у озера. «Воображение», – пытался убедить себя разум. Но запах здесь был реален. Холод – реален. Вибрация под пальцами – реальна.
Необходимость понять. Она горела в нем теперь ярче страха. Что ждало его внутри? Те же старые фото, с Ним, ставшим еще ближе, еще отчетливее? Или… что-то новое? Что-то, связанное с его бегством? С озером? С ощущением преследования? Он должен был посмотреть. Это был единственный путь. Путь в сердце тьмы.
Рука Элайджи, все еще ледяная от прикосновения к переплету, потянулась к застежке. Пальцы нащупали холодный металл крючка. Дрожь усилилась, прокатилась по всему телу. Он замер. Последний миг перед прыжком в бездну. Перед открытием двери, за которой могло быть окончательное безумие или непостижимый ужас истины.
Он почувствовал, как взгляд усилился. Направленный на него из темноты комнаты? Из глубины альбома? Или из его собственной, искалеченной души? Неважно. Он был здесь. Оно было здесь. И альбом был ключом. Проклятым ключом.
С тихим, едва слышным щелчком, похожим на сдавленный вздох, Элайджа отстегнул застежку.
Он не открыл альбом сразу. Он просто стоял, глядя на темный прямоугольник обложки, чувствуя, как холод и запах усиливаются, вырываясь наружу из-под тяжелых крышек. Его рука лежала на верхней крышке. Он чувствовал под ладонью скрытую мощь, древность, зловещее ожидание. Он понял, что переступил черту. Возврата не было. Он вернулся не в свою квартиру. Он вернулся к Источнику. И теперь Источник требовал своей платы. Платы вниманием. Платы рассудком. Платой, возможно, самой его душой.
Чувство обреченности достигло абсолютной, кристальной ясности. Он был обречен с того самого момента, как взял альбом в руки впервые. Все попытки бегства, запирательства, отрицания – были лишь тщетной отсрочкой неизбежного. Кошмар не был снаружи. Он был здесь. Внутри этой книги. И теперь Элайджа должен был заглянуть ему в лицо. Снова. Возможно, в последний раз.
С глубочайшим, леденящим душу предчувствием, он поднял верхнюю крышку альбома. Старая кожа скрипнула. Запах хлынул волной – пыль, тление, сладость гниения. Он заглянул на первую страницу, туда, где обычно был старинный дагерротип или пожелтевшая фотография неизвестных предков.
И замер. Дыхание остановилось. Глаза, широко раскрытые от нового витка абсолютного ужаса, впивались в изображение. Его мозг отказывался верить. Его разум, уже подточенный сомнениями и страхом, трещал по швам.
Там, на первой странице, в пожелтевшей, казалось бы, вековой карточке, под стеклом или защитной пленкой времени, было изображено… озеро. То самое озеро из его несостоявшегося отпуска. С темным лесом на дальнем берегу. И на переднем плане, не вдалеке, а здесь, четко, недвусмысленно, стояла группа людей. Марк, его друзья… и он сам. Элайджа. С фальшивой улыбкой и безумным блеском в глазах. Групповое фото, сделанное Марком на телефон. Но стилизованное под старинный снимок. Сепия, царапины, потёртости времени.
А на дальнем берегу, среди деревьев, там, где на цифровом снимке были лишь артефакты, здесь, в альбоме, было видно идеально четко. Фигура. Стоящая прямо. И лицо. Незнакомое лицо. Смотрящее прямо на него. С тем же прямым, нечеловеческим взглядом. Улыбка. Тонкая, едва заметная, ледяная улыбка торжества.
Альбом не просто хранил прошлое. Он впитывал настоящее. Впитывал его кошмар. И делал его вечным. Незнакомое лицо было не в прошлом. Оно было во всех временах. И оно было здесь. С Элайджой. Навсегда.
Страница с озером лежала перед ним, немой укор и доказательство непостижимого. Элайджа отшатнулся от стола, спина ударилась о стену. Воздух в квартире казался густым от запаха старой кожи и пыли, смешанных с электрическим смрадом его ужаса. Он дышал прерывисто, рвано, пытаясь осмыслить невозможное. Его отпуск. Его кошмар. Запечатленный в этом проклятом альбоме, стилизованный под вековую давность. Оно не просто следовало за ним. Оно вплетало его жизнь в свою вечную, ужасающую хронику.
Рука, все еще помнящая ледяной холод переплета, бессознательно потянулась вперед. Необходимость понять была сильнее отвращения, сильнее паники, превратившейся в постоянный гулкий фон его существования. Он должен был смотреть дальше. Глубже. Найти хоть какую-то нить, хоть намек на смысл в этом безумии.
Он подошел к столу снова, как приговоренный к казни. Его тень колыхалась на стене, казалось, независимо от движений. Он перевернул страницу с озером. Скрип кожи был громким, словно стон. Следующие страницы мелькали перед глазами – знакомые и чужие лица XIX века, люди в строгих костюмах и пышных платьях, застывшие в вечной серьезности. И среди них – Оно. То самое лицо. Появлялось то на краю групповых сцен, то в глубине интерьеров, то едва различимое в окне на заднем плане. Всегда с этим прямым, немигающим взглядом в камеру (или в душу смотрящего?). Всегда чуть ближе, чем на предыдущем снимке. Элайджа пролистывал механически, его взгляд скользил по изображениям, уже зная, что искать. Паранойя, доведенная до автоматизма.
И вдруг его пальцы замерли. Сердце пропустило удар, потом забилось с бешеной силой, гоняя по жилам ледяную кровь. Страница… она выглядела иначе. Бумага была не такой желтой, не такой хрупкой на вид. Стиль фотографии – более современный. Цветной, но выцветший до пастельных тонов. 80-е годы. Узнаваемые 80-е.
И сцена… знакомая до боли.
Старый дом. Задний двор. Тот самый, из детства Элайджи, где он гонял мяч и строил шалаши из старых досок. Солнечный день. Стол, накрытый клеенкой в цветочек. Пластиковые стаканчики. Бутылки с лимонадом. Люди. Гости.
Родители.
Мать, молодая, смеющаяся, с подносом в руках, в ярком сарафане, который Элайджа помнил по другим фото. Отец, с еще густой шевелюрой, в расстегнутой рубашке, поднимающий тост, его лицо открытое, беззаботное. Рядом – соседи, тетя Марта с ее вечным вязанием, дядя Борис с баяном… Счастливое, обычное летнее застолье. Мир, который казался таким прочным, таким безопасным. Мир, в котором он был маленьким мальчиком, не ведающим о темных альбомах и незнакомых лицах.
Слезы навернулись на глаза Элайджи – слезы ностальгии, мгновенно смешанные с леденящим ужасом. Он знал эту фотографию! Она висела в коридоре у родителей, в простой рамке! Он видел ее сотни раз! Но… никогда не смотрел. Не вглядывался в детали заднего плана. Зачем? Это было просто счастливое воспоминание.
Теперь он смотрел. Вглядывался. Сканировал каждую тень, каждое лицо с маниакальной интенсивностью, к которой его приучил кошмар.
Сначала он увидел знакомые лица гостей. Улыбки. Смех, застывший во времени. Потом его взгляд скользнул дальше, к краю кадра, к кустам сирени, к калитке в заборе… И там, где раньше он видел лишь размытые пятна зелени или спины других гостей… теперь он увидел.
Фигура.
Стоящая не у забора, не в кустах, не на самом краю, как на старинных фото. Она стояла ближе. Гораздо ближе. Практически в центре группы, слегка сбоку, но не на периферии. Между тетей Мартой и соседом-инженером Петровичем. Она была не в тени, а на солнце. И она была обращена не в сторону, не к столу, не к смеющимся людям.
Она смотрела прямо в камеру. Прямо на него.
Незнакомое лицо.
Тот же овал. Та же неестественная гладкость, отсутствие морщин, эмоций. Те же глаза. Прямые. Немигающие. Фиксированные на объективе (на зрителе?) с леденящей интенсивностью. Оно было здесь. На празднике его родителей. В его детстве. Стояло среди гостей, как свой человек. И никто не замечал! Никто не видел этого чужеродного, пугающего присутствия в центре их радости!
Элайджа вскрикнул – короткий, сдавленный звук, полный невыносимого отчаяния. Его пальцы впились в край стола, ногти белели. Он наклонился ниже, почти касаясь носом холодной страницы, всматриваясь в детали, отчаянно пытаясь найти ошибку, подвох, цифровой артефакт (но фото было аналоговым, пленочным!).
Нет. Оно было реальным. Осязаемым. Невероятно четким на этом выцветшем снимке. Одежда? Темная, простая, вневременная – рубашка или блуза, брюки. Ничего, что кричало бы о другой эпохе, но и ничего, что вписывалось бы в пестроту 80-х. Оно просто было. Присутствовало. Смотрело.
Осознание пришло не волной, а ледяной иглой, вонзившейся прямо в мозг:
Оно не просто наблюдатель прошлого. Оно приближается.
Приближается в пространстве: От краев старинных дагерротипов → к окнам и дверям на викторианских фото → к задворкам на снимках начала века → теперь вот, в 80-е, оно уже в центре события, среди людей. Не прячась. Не скрываясь в тенях. Стоя открыто. Смотря прямо.
Приближается во времени: От неопределенно древних снимков → к фото его родителей (значит, задолго до того, как он нашел альбом!) → к его собственному времени у озера. Оно двигалось по временной шкале, неуклонно сближаясь с ним, с Элайджей. Как хищник, сокращающий дистанцию.