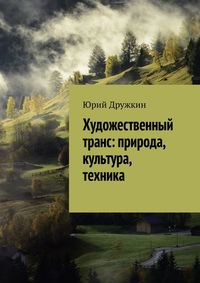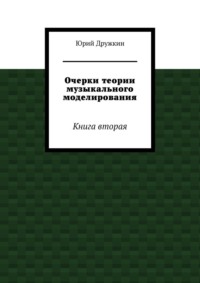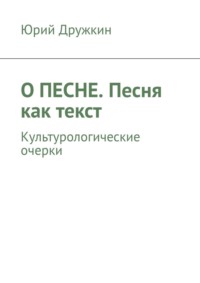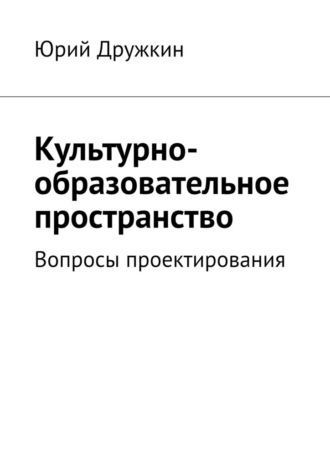
Полная версия
Культурно-образовательное пространство. Вопросы проектирования

Культурно-образовательное пространство
Вопросы проектирования
Юрий Дружкин
© Юрий Дружкин, 2025
ISBN 978-5-0067-7988-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Культурно-образовательное пространство
Преамбула
Данная книга отчасти является плодом теоретических размышлений, отчасти – непосредственных наблюдений над интересными и удачными образцами практической деятельности. В ряде случаев наблюдение можно назвать включённым, ибо автор сам принимал участие в этой деятельности. В разное время ему пришлось работать и в качестве исследователя, и в качестве практика, как в учреждениях культуры, так и в учреждениях образования. В результате подобной смены позиций, со многими весьма существенными элементами общей проблемной ситуации удалось познакомиться, что называется, и со стороны, и изнутри.
Целый ряд проблем развития, и той и другой отрасли обнаруживались с удивительным постоянством, не зависимо от общего контекста деятельности. Стало понятным, что постоянство это – не случайность. За ним стоят некие общие и фундаментальные основания, без осознания которых и без основательного их анализа невозможно успешное продвижение, как в теоретическом, так и в практическом плане. Эти основания, собственно, и порождают множество проблем, которые неизбежно будут воспроизводиться вновь и вновь, если не будут ликвидировать порождающие их причины. Вот лишь некоторые из этих фундаментальных оснований.
– То, что можно назвать противоречием сущности и существования. Если проанализировать достаточно большое число разных определений понятий «культура» и «образование» то несложно обнаружить их глубинную общность. Резюмируя можно сказать, что сутью образования является освоение (передача, присвоение культуры), а сутью культуры – «образовывание» человека и общества. Эти две вещи не только неразрывно связаны, но являются сущностно единым процессом. При этом, практическая организация соответствующей деятельности в значительной мере способствует разделению данного единства. Прежде всего, это связано тем, что организация и развитие соответствующей деятельности осуществляется двумя разными и во многом независимыми сферами – образования и культуры. Есть две соответствующие отрасли и две независимые управленческие системы, возглавляемые разными министерствами. Такая ситуация имеет под собой вполне рациональные причины, которые мы сейчас не обсуждаем. Но она связана и с неизбежными проблемами. Эти-то проблемы и хотелось бы в первую очередь понять и наметить пути их решения
– Деятельность, направленная на развитие сфер образования и культуры в последние десятилетия все более распределяется между двумя основными субъектами. Первый субъект – государство в лице соответствующих учреждений (структур). Второй – общество (гражданское общество). Этот второй «поток» гораздо менее структурирован. Наряду с устойчивыми, традиционными, привычными формами мы можем наблюдать возникновение новых («инновационных»). В разные исторические моменты интенсивность этого процесса является различной. В восьмидесятые-девяностые годы она была весьма значительной. Между этими двумя сферами отношения складывались различным образом. От почти открытого противоборства до поисков различных форм взаимодействия. Всё это создает постоянный фон, значительно влияющий на успешность или неуспешность решения практически всех важнейших вопросов развития культуры и образования.
– В деятельности, по управлению и развитию сфер образования и культуры все более широко используются методы проектирования. В частности, социальное проектирование. Это стало устойчивой характеристикой общей проблемной ситуации. Накопился соответствующий опыт. Накопились и проблемы. Как практического, так и методологического характера. Без их осмысления также не обойтись в решении накопившихся задач, в развязывании в все более запутанных узлов противоречий.
По глубокому убеждению автора перспективным направлением движения могло бы стать формирование единого культурно-образовательного пространства. В этом убеждают и многочисленные, хотя и локальные примеры удачных решений такого рода. Есть и теоретические основания, позволяющие прийти к подобным выводам. В данной книге делается попытка в той или иной мере представить и то, и другое. В соответствии с таким замыслом, часть материалов посвящена описанию конкретных образцов деятельности направленной на формирования единого культурно-образовательного пространства. При этом, совершенно не обязательно, чтобы субъекты такой деятельности сознательно ставили перед собой подобные задачи. Важно то, что они приходили к соответствующим результатам в своей практике. Другая часть – тексты теоретического и проектного плана. Один из таких текстов так и называется – «Культурно-образовательное пространство». Это название и послужило качестве названия для всей книги.
Материалы, на основе которых построена данная книга, писались в разное время, по разным поводам и с разными целями (у контексте разных задач). Принцип, по которому они были выбраны, по сути один – они должны иметь отношение к проблемам, обозначенным выше.
Решающее меньшинство
Дух времени приходит к нам в наряде, сотканном из слов. Каков дух – таковы слова. Не всякие слова, даже выражающие вечные ценности, входят в состав доминирующего лексикона эпохи. Иные «отдыхают», ожидая своего часа. Не к таким ли словам относятся сегодня «идеал», «служение», «подвижничество»? Часто ли мы слышим их в эфире, читаем в прессе?
Чтобы такие слова именно «отдыхали», а не «уснули навек», необходим труд одиночек, живущих не по общему, а по своему внутреннему календарю. Каждый раз, вставая перед выбором: «дух времени» или «вечные ценности», они выбирают последнее и становятся «хранителями огня», «аристократами духа». Им некогда отдыхать. Их всегда ничтожно мало. Но приходит время – их время – и меньшинство это оказываются «решающим».
Профессия музыканта не относится сейчас к числу престижных. Возможно, многие сегодня согласились бы со словами, написанными примерно триста лет назад: «мы мало видели, чтобы кто-либо открыл золотые или серебряные рудники на Парнасе. Там приятный воздух, но бесплодная почва, и мы имеем очень мало примеров тому, чтобы кто-нибудь увеличил свое наследственное состояние за счет собирания там плодов». Эти слова Джона Локка известны далеко не всем, но думают так очень многие. Это не удивительно: Россия входит в капитализм, и критерием мудрости у нас становится то, что в Англии было таковым в те давние времена.
Впрочем, музыку в России любили всегда. Любят и сейчас. Ценители классики, временно ослабившие свои позиции, вновь до отказа наполняют концертные залы. Заботливые родители начинают осознавать, что золотые рудники, хоть и не на Парнасе находятся, но откроют их скорее те, кто развил в себе творческие способности и интуицию, получив в детстве хорошее художественное воспитание.
Да и музыкальные вузы, готовящие музыкантов-профессионалов, не пустуют.
Впрочем, разговор свой мы поведем не о тех, кто просто любит музыку, и даже не о тех, кто сделал ее своей профессией. Речь пойдет о людях, рискнувших встать на путь служения этому искусству.
Не всякий профессионализм есть еще и служение. О служении мы начинаем говорить лишь тогда, когда некое дело или идея превращается в смысл жизни, становится не только средством но и целью. Тогда, человек сам себя и жизнь свою начинает воспринимать как средство, служащее приближению к этой цели. Когда говорят о служении, внимание, как правило, акцентируют на моменте самоотдачи, жертвенности: «он отдал всего себя без остатка…» и т. д. Выражение не вполне точное. Истинное служение – не самоопустошение, а самообогащение (обогащение жизни). Не об остатке следует говорить здесь, а о прибыли. Действительно, люди служения не только отдают, но и приобретают («стяжают») очень многое. У них «откуда-то» берутся силы, появляются дополнительные источники энергии. «Кто-то» подсказывает им плодотворные идеи и мудрые решения. Обстоятельства в самый острый момент «почему-то» начинают складываться в их пользу (в пользу того дела, которому они служат). «Таинственное влияние» распространяют они на окружающих, притягивая к себе, заставляя вносить свой вклад в «общее дело». «Не понятно почему», они постоянно носят в глубине своей «беспричинную» радость жизни, что, конечно не избавляет от страданий и скорбей. Их любят, к ним тянутся, им хотят помогать (хотя, как правило, находятся и те, кто стремится помешать). Вдохновение не просто посещает их в редкие мгновения, но становится постоянным элементом образа жизни…
Служение музыке – тяжкий (но не тягостный) труд, радостное мучение. Есть у него две основные грани – эстетическая и этическая. Выбор одной из них в качестве основной равнозначен выбору пути. В первом случае главным становится совершенствование своих творческих возможностей и достижение максимально высоких творческих результатов. Предмет служения здесь – сама музыка, ее совершенство. Во втором случае предметом служения становится жизнь музыки в человеческом обществе (=музыкальная жизнь). Отношение к музыке превращается здесь в отношение к людям, реализуемое через музыку. Эта вторая, этическая, грань служения «выталкивает» человека на широкое поприще социальной активности.
На этом пути легко потерять точку опоры, быть разорванным множеством разнообразных задач. Аналогия – круг. Центр круга – точка опоры, момент устойчивости. Окружность – граница, переход в иное. Так и здесь: начиная заботиться о жизни музыки в обществе, человек как бы смещается от центра к окружности и постепенно погружается в пучину проблем, далеко выходящих за пределы не только музыки, но и искусства вообще. Он становится педагогом, воспитателем, просветителем, администратором, хозяйственником, немного вождем и слегка психотерапевтом. Это – как минимум. По большому же счету, он должен быть еще и неплохим политиком, а также энергетическим донором, подпитывающим своих соратников собственной энергией.
Такой путь всегда – подвижничество. Особенно же у нас и в наше время, когда высокая наука и высокая культура сдают экзамен на выживание. Экзамен – наитруднейший! Кто способен его выдержать? И за счет чего? За счет неиссякаемого оптимизма, позволяющего двигаться вперед, невзирая на неудачи, потери, падения, обиды? За счет сверхчеловеческой энергии, обеспечивающей двадцать четыре с половиной часа продуктивной работы в сутки? По-видимому, не только. Есть еще и некий «секрет».
«Секрет», собственно, известный. Чтобы спастись, нужно построить Ковчег. Есть разница между человеком, стоящим на капитанском мостике, и тем, кто барахтается среди обломков? Кому из них приходится в большей степени уповать на свой неиссякаемый оптимизм и нечеловеческие силы? Ответ, в общем-то, очевиден. Прорывающий границы окружающей его воды, движущийся к иным берегам корабль, способен делать это постольку, поскольку он составляет единое целое, имеющее свой центр, свою внутреннюю опору и момент устойчивости.
Интересно и чрезвычайно важно сегодня вникать в дела тех, кому удалось сделать нечто подобное, кто сумел построить свой корабль и, пойдя по второму пути, не погряз в текучке.
Об одном из таких людей наш разговор.
Андрей Петрович Подгорный – скрипач, дирижер, педагог, просветитель, администратор (директор ДМШ им. Гнесиных). Есть такой неологизм – «трудоголик». И еще говорят «И швец, и жнец, и на дуде игрец». «И это все о нем». Вот характерный эпизод. Без пяти десять вечера звоню Подгорному домой, хочу договориться о встрече. Мне отвечают: «Андрей Петрович на репетиции оркестра. Позвоните через пол часа к нему в кабинет – он будет там работать». Работает он действительно очень много, но почти никогда не выглядит усталым. Зато веселым – почти постоянно.
Он из числа тех, кому всегда мало – не того, что он имеет, а того, что он делает. Мало быть просто музыкантом, точнее, «просто» очень хорошим музыкантом; мало быть «просто» очень хорошим педагогом, «просто» просветителем, «просто» руководителем… Вообще, мало готовых поприщ, поэтому приходится создавать их самому. Так появился на свет, камерный оркестр им. Гнесиных, где А.П. выполняет функции не только художественного руководителя и дирижера, но и, фактически, администратора. Оркестр много гастролирует и пользуется за рубежом неизменным успехом. Его абонементные концерты имеют четко выраженную просветительскую направленность; программы составляются с большим вкусом и изобретательностью, с энтузиазмом принимаются детской и подростковой аудиторией. Любопытно наблюдать, что работа эта, как ни странно, не отвлекает его от директорских забот, но как бы подпитывает и стимулирует эту сторону его деятельности. Он и здесь постоянно генерирует идеи, а главное, с успехом их реализует, что, согласитесь, встречается не так часто. Среди таких «внутришкольных» проектов – оркестры (духовой и камерный), хор духовной музыки, опера, различные ансамбли. При этом, разнообразные виды музицирования, практикуемые в школе, существуют не изолированно друг от друга, но составляют единое целое, своеобразный детско-взрослый мир музыкальной жизни. Этот мир расширяет рамки обычного учебного процесса, создает пространство свободного поиска, выбора и самоопределения.
Точно также и возрастные рамки обучения раздвигаются весьма энергично. Малыши могут приходить в школу в возрасте около четырех лет и два года обучаться в подготовительной группе по специальной программе. После этого (примерно, в шесть лет) они поступают в нулевой класс. Специально создаются условия для того, чтобы учитель и ученик могли «найти друг друга»: педагоги по специальности посещают занятия малышовых групп, где присматриваются к детям, а затем знакомятся со своими будущими учениками, устанавливают личный контакт.
Вообще, принцип свободного поиска в системе Подгорного играет существенную роль. Его основной педагогический проект имеет структуру, напоминающую ромашку: в центре обязательные предметы – специальность, хор, оркестр, сольфеджио, муз. литература и др., – а лепестки суть то, что составляет пространство эксперимента, проб, поиска. В этом пространстве ученик может пробовать себя в разных ролях (солист, ансамблист, аккомпаниатор) поучаствовать в работе разных по типу музыкальных коллективов.
Развитие такого проекта ведет, по сути к тому, что в рамках школы как специализированного образовательного учреждения начинает воспроизводиться полнота и целостность музыкальной культуры и музыкальной жизни общества. Моделируется некий особый мир, где музыка становится основой и объединяющей средой человеческого общения. Это означает, что собственно педагогический проект перерастает в проект социальный. И в этом более широком контексте становятся вполне естественными и понятными такие идеи Подгорного, как создание музыкального детского сада, или секции плавания. Становится понятным его далеко не безразличное отношение к дизайну школьной столовой (не говоря уже о качестве питания). Ведь школа становится у него не только местом, где учатся, но и местом, где живут. Живут в музыке и музыкой.
Но для того, чтобы эта жизнь могла состояться, необходимо позаботиться о многих и многих вещах самого разного рода. И здесь, возможны два основных направления. Первое основано на формировании сильной команды, которая создает, а затем и реализует достаточно проработанный в основных деталях проект. Второе реализуется, преимущественно, на личных творческих и энергетических ресурсах одной личности – лидера, чья мощная интуиция спасает все дело в ситуациях, казалось бы, совершенно безнадежных. Какое направление лучше? Лучше всего, конечно, было бы сочетание преимуществ обоих. Проект Подгорного в большей степени движется в логике второго направления. Хорошо это или плохо? Сейчас это – не суть важно. Любая жизнеспособная система имеет свою логику построения и свою органику роста. Выявить их и осмыслить значит превратить личный опыт в общественное достояние. Этим и стоит заниматься.
В частности, неплохо было бы понять, каким образом Подгорному удается не стать жертвой эффекта «двух зайцев»? Тем более, что у него их не два, а значительно больше. И действительно, поверхностный взгляд на всю эту разнообразную кипучую деятельность может подтолкнуть к неверному выводу: обилие разных направление деятельности разрывает на части разносторонне талантливого человека. Известный афоризм – «человек талантливый талантлив во всем» – звучит столь же пессимистично, сколь и победоносно. Это значит, что человек разносторонний обречен на нереализованность: ведь нельзя же заниматься всем сразу. Однако все не так уж безнадежно. Повезет тому, кто найдет правильную «точку сборки», одну цель, одно дело, требующее многого. Тогда центробежные тенденции превращаются в центростремительные, а разрывание на части оказываются собиранием в единый кулак. Можно сколько угодно удивляться, как это органисту удается следить одновременно и за руками, и за ногами. Все дело в том, что исполняет-то он одно произведение. И даже если бы у него было десять рук и десять ног, это бы ничего по сути не изменило. Так что вопрос в том, есть ли здесь одна «точка сборки», одно произведение, одна цель и одно дело?
Есть все основания для положительного ответа на этот вопрос. Приглядимся повнимательней, и увидим одну очень интересную закономерность. Разные виды деятельности, попав в «поле» Подгорного, начинают обнаруживать все большее родство, тяготение и взаимопроникновение. Камерный оркестр имени Гнесиных (между прочим, из педагогов, преимущественно, состоящий) сам становится коллективным педагогом – просветителем и, одновременно, своеобразной школой юных исполнителей. Школа, в свою очередь, оказывается местом не только учебы, но и разнообразной музыкальной, в том числе и концертно-филармонической, жизни. Похоже, что Подгорный действительно построил (и продолжает строить) большой корабль, состоящий из частей непохожих, но складывающихся в единое целое.
Где, на какой глубине находится его центр тяжести? Где главный элемент конструкции, держащий все остальное? Абсолютную уверенность в том, что такой центр существует, дает непосредственное общение с Подгорным. Оно оставляет сильное впечатление. И нет в этом впечатлении ничего, что ассоциировалось бы с образом внутренней разорванности. Напротив – исключительная центрированность и цельность. Эмоциональный аккорд, излучаемый им, подсказывает, что центр этот находится где-то там, где пересекаются жизнелюбие (любовь к жизни) и любовь к музыке, помноженные на такие профессионально-этические ценности, как трудолюбие, профессиональная самоотверженность и профессиональная честь. Музыка нужна ему только живая, только наполненная и наполняющая жизнью. Сама музыка в таком ее понимании становится одним из высших проявлений жизни. Но и жизнь должна наполняться красотой и гармонией, быть особого рода музыкой. Ничего такого он мне, естественно, не говорил. Это, что называется, читается между строк.
Таков, мне кажется, глубинный внутренний пафос всего проекта Подгорного, шире – всей его деятельности. Но, это – внутренняя «точка сборки». А что ей соответствует во внешнем плане? Какой предмет деятельности, какая точка приложения сил способна максимально срезонировать на такой внутренний посыл? Ну, конечно же дети. А если говорить точнее, детско-взрослое музыкальное сообщество. Именно этот интереснейший социально-культурный феномен рождается трудами Подгорного и его соратников, не зависимо от того, является ли это чьей-то сознательной целью. Это детско-взрослое сообщество, отчасти коллектив, отчасти большая семья, своего рода братство, оказывается точкой пересечения многих смысловых линий. Оно позволяет соединить учебную жизнь с концертной жизнью, оно оказывается средой, обеспечивающей возможность многогранного – и профессионального, и человеческого – взаимодействия учителя с учеником, оно позволяет перебросить мост между учебным музыкальным репертуаром и настоящей взрослой музыкой, с самого начала погрузить ребенка в мир большой музыки. Жизнь детско-взрослого музыкального сообщества становится одной из связующих нитей, соединяющих прошлое и будущее отечественной культуры. В его условиях маленький музыкант может ощутить себя неповторимой творческой личностью и одновременно частью большого социального целого. А это означает, что такое сообщество способно через музыкальную культуру формировать подлинное гражданское самосознание в единстве личного национального и общечеловеческого моментов.
Все это – не теория, а реальная живая практика. Для того, чтобы непосредственно почувствовать это, достаточно побывать на концертах гнесинской школы. Необычна сама атмосфера этих концертов, похожих, скорее, на какой-то праздник «города мастеров», где исполнители перестают быть ТОЛЬКО исполнителями, слушатели – ТОЛЬКО слушателями, а музыка – ТОЛЬКО музыкой. Здесь все становятся частью чего-то большого – живого, имеющего свой пульс и свое дыхание. И этот пульс, и это дыхание суть сама музыка.
А что, – вправе спросить читатель, – неужели все вышеописанное настолько уникально? Неужели он первый и единственный, кто сумел построить свой «Ковчег» и создать детско-взрослое профессиональное братство? Ответим так: подобные примеры, к счастью, время от времени появляются, можно сказать, они есть постоянно, но их всегда мало, и их необходимо знать. На музыкальной ли основе, на математической, или какой-то другой, возникают то тут, то там, такие сообщества, способные не только передавать знания, но и учить благородному искусству служения. Благодаря им, в первую очередь, в обществе и поддерживается необходимый минимум людей служения, «аристократов духа», «хранителей огня», тех, кто составляет духовный хребет нации – ее решающее меньшинство.
Школа Покровского
Для большинства людей имя Дмитрия Покровского ассоциируется в первую очередь со знаменитым его детищем – ансамблем народной музыки, известным как «Ансамбль Покровского». Можно ли утверждать, что Дмитрий Викторович Покровский вошел в историю нашей культуры еще и как создатель своей школы? Думаю, да. И попытаюсь эту точку зрения обосновать.
Те, кто чуть ближе знаком с деятельностью ансамбля, помнят, что его состав регулярно обновлялся. Если собрать вместе всех, кто какое-то время был его участником и сфотографировать, то результат будет вполне сопоставим с памятным фото выпускников какого-нибудь училища. Люди, прошедшие через ансамбль, получали определенные знания и опыт, которые каким-то образом были использованы в их дальнейшей деятельности.
Особенностью структуры коллектива было наличие небольшой группы профессиональных музыкантов, а также группы тех, кто профессиональным музыкантом не являлся. Такая практика сложилась не сразу.. В последние годы Покровский также отказался от этого принципа. Но в годы расцвета деятельности коллектива, во времена наиболее яркого его успеха это было именно так. И это не могло быть простой случайностью, но, по-видимому, соответствовало каким-то замыслам руководителя. При этом, существенно, что такая разность профессиональных потенциалов сама по себе создавала эффект обмена знанием, то есть, в определенном смысле, эффект школы.
Наконец, говоря «ансамбль Покровского», я понимаю под этим не только собственно концертную единицу, но и весь комплекс культурных взаимодействий, который складывался вокруг него. Эти взаимодействия нередко носили достаточно устойчивый, структурированный, а иногда и организованный характер. К таким устойчивым образованиям относится, в частности, студия, созданная им при клубе «Дукат». Мы не ошибемся, говоря о клубном характере этих структур. Но мы не ошибемся и в том случае, если увидим в их деятельности осуществление образовательной (учебной) функции, понимаемой в широком смысле слова.
Для меня нет никакого сомнения в том, что ансамбль работал, в том числе и как школа, делая это весьма своеобразно и, главное, эффективно. Существовал ли осознанный метод такого рода деятельности? Это мне не известно. Но очевидно, что имело бы большой смысл попытаться его реконструировать, опираясь на тот ресурс коллективной памяти, которым мы пока еще располагаем.
На эти и другие вопросы я попытаюсь ответить в ходе дальнейшего изложения. Теперь же хочу договориться вот о чем. Анализировать эту проблему я буду с личных позиций, с позиций человека, имеющего опыт ученичества. Для меня, таким образом, автоматически снимается вопрос «была ли школа?». Мне достаточно того, что я осознаю себя ее учеником. Этот опыт ученичества я всегда считал для себя очень ценным, помнил о нем и немало размышлял. Какими-то своими воспоминаниями и размышлениями по этому поводу я и хочу поделиться. Жанр моего выступления можно поэтому обозначить как «аналитические воспоминания».