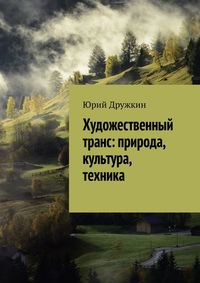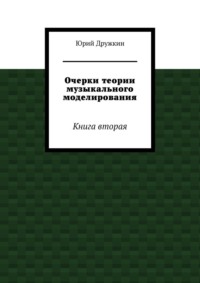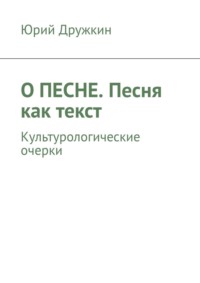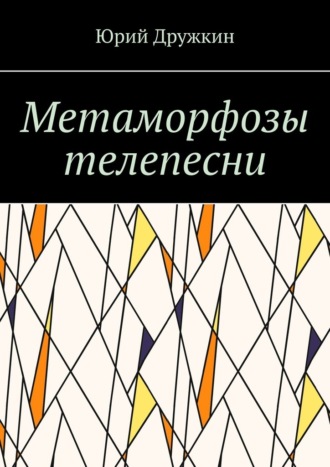
Полная версия
Метаморфозы телепесни
Кто знал, что до новой революции оставалось не так уж много времени?
Ведь «новый порядок» общения с музыкой, казалось, обещал одни лишь улучшения. Он был пропитан ожиданием новых возможностей. Он казался дорогой, по которой можно двигаться долго и плавно, в бесконечность. Да и явился он не как «новый порядок» (=новый регламент), а как освобождение от старых ограничений. Тем не менее, этот новый, если не порядок, то стиль, заключал в самом себе момент неустойчивости, и висящий над ним дамоклов меч, сначала маленький и легкий, с каждой новой победой прогресса делался все больше и тяжелей. Непрерывное ожидание новых улучшений и усовершенствований имеет обратной стороной ощущение несовершенства всего того, что уже достигнуто. Подобное отношение обретает характер презумпции и уже не нуждается в эмпирическом подтверждении. Все сегодняшнее сравнивается с неким неведомым еще завтрашним, которое по определению лучше и совершеннее. Стабильное и абсолютное испаряется, уступая место текучему и относительному. В этой новой мифологии прогресса время обретало ценностную окраску: с чувством облегчения мы расставались с прошлым, к настоящему относились со скептицизмом и иронией, в будущее глядели с надеждой.
«Эпоха патефона» была в этом отношении иной. В ней тоже присутствовала ценность прогресса и движения в светлое завтра. Но настоящее не казалось текучим, а будущее туманным. Будущее было ясным, научно предсказанным и «просчитанным». За него, правда, нужно было бороться, к нему надо было идти, преодолевая трудности. И, во всяком случае, оно не выглядело неким Санта Клаусом, приносящим приятные гарантированные сюрпризы. Что касается настоящего, то оно, хотя и являлось «всего лишь» ступенью в будущее, но ступенью имевшей абсолютную историческую ценность и потому сделанную на века, из гранита и мрамора. Воодушевляемая идеей движения в предначертанное завтра, эпоха фактически ваяла памятники самой себе. Высотные здания, плотины… суть монументальные автопортреты эпохи. Но были и иные. Одним из таких стал патефон. Портативный, простой, с огромным запасом прочности. Он кажется совершенным выражением заложенной в нем технической идеи. Материальное ее воплощение полностью свободно от каких-либо излишеств. Каждый элемент красив своей безусловной функциональностью. Стальной никелированный изгиб звукоснимателя выразителен и недвусмысленно напоминает шею лебедя, что-то пьющего (наверно, музыку) из круглого черного блюда, с видимым намерением делать это вечно.
Это сейчас многие предметы от рождения несут на себе печать обреченности на скорую гибель (моральное устаревание и пр.). С конвейера – на свалку с краткой промежуточной остановкой в гостях у пользователя – типичная судьба современной вещи. Не успев поселиться в доме, она уже выносится вон, освобождая место для новой, более модной и усовершенствованной. Все бы ничего, да только дом при этом превращается в проходной двор для новых мгновенно устаревающих вещей; в нем как бы непрерывно дует сквозняк времени. Сам же стиль взаимодействия с вещью «в одно касание» неизбежно распространяется на многое другое, становясь стилем жизни. Предмет одноразового пользования – вот высший образец этого стиля.
В этом смысле, герой нашего повествования – патефон – воспринимается едва ли не как «последний из могикан» эпохи вещей, сработанных на века, вещей, не отравленных от рождения мыслью о моральном устаревании. Эпоха вещей-долгожителей отошла в прошлое, уступив место эпохе вещей-однодневок. Надтреснутым голосом патефона она пропела свою лебединую песню и ее «утомленное солнце» зашло, оставив человека в окружении однодневок, где «нет любви» по определению.
Зато есть свобода. Именно это и ощутили мы тогда, именно этому радовались. С чувством облегчения и в ожидании счастливых перемен несли на помойку прочную как танк керосинку, стальную сковородку, чугунный утюг, кованый сундук и новенький еще патефон. Казалось, чем прочнее и добротнее старая (устаревшая) вещь, тем откровеннее ее претензия незаконно пробраться в наше будущее, где ей нет места. В это же самое время в массовом порядке шла на выброс мебель, которая теперь считается антиквариатом. Все по той же причине. Сегодняшнее лучше вчерашнего, а завтрашнее лучше сегодняшнего – эта нехитрая система уравнений приобрела характер аксиомы, которая подтверждалась и продолжает подтверждаться ежедневной практикой. Примеры тому многочисленны и очевидны. Приобретения на пути прогресса не просто очевидны, еще и преподнесены общественности на золотом блюде рекламы. А потери…. Они не столь очевидны. Точнее, совсем не очевидны. Да и что это за потери! Так, «смыслы» какие-то….
Выбрасывание старых вещей тоже несло свои смыслы: освобождение от прошлого, обретение независимости от вещей и даже господства над материей. Царапина на старой пластинке или отбитый краешек не вызывали особого сожаления. А для детей и вовсе радость: можно было, закрутив ее в обратном направлении, бросить вперед по асфальтовой дорожке и ждать, когда она сама вернется к тебе в руки. Или запустить в полет и любоваться как черный блестящий диск, бешено вращаясь, описывает широкий полукруг на уровне третьего этажа. Что это, детский вандализм? Не думаю. Скорее, чутко пойманное и по-детски выраженное общее настроение. Подобное обращение со старой пластинкой было не только освобождением от старой вещи и обязанности обращаться с ней «должным образом», но и своеобразным актом освобождения самой этой вещи из плена регламентированной функциональности. Ее выпустили на улицу, ей разрешили плясать на асфальте, ее запустили в небеса: «пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград…». Хотя, конечно, символическое «раскрепощение вещи», служило лишь зеркалом самораскрепощения человека. «Новый друг лучше старых двух» – это отношение к вещам было тогда доминирующим.
Время скоро внесло свои коррективы: к формуле «новое лучше старого» прибавилась новая – «импортное лучше отечественного», относившаяся не только к вещам, и, в частности, не только к бытовой аудиотехнике, но и к музыке. Это сопровождалось причудливым смешением ценностей: было уже не совсем понятно, что к чему является приложением – техника к музыке, или музыка к технике. В начале семидесятых годов пиетет по отношению к «качественной» аппаратуре вырос непомерно. Фирменный магнитофон обозначил собой одну их самых жизненно важных точек пространства квартиры, что не освобождало от постоянной угрозы быть, если не выброшенным на помойку (чай, не в Америке!), то проданным и за хорошие деньги, чтобы уступить место для нового, более «престижного аппарата». Моральному весу аппарата соответствовал вес вполне физический и нередко весьма внушительные габариты. Точкой пересечения, местом встречи материального и духовного, достоинств технических эстетических стало высокое качество воспроизведения звука, «HI-FI». Эта точка пересечения была, одновременно, высшей точкой пирамиды ценностей. Для ее достижения производились все новые технические усовершенствования. Демонстрации ее прелестей служила сама музыка. Тот счастливчик, которому удавалось приобрести такую аппаратуру и соответствующие записи, мог уже наслаждаться жизнью. И трудно сказать, что именно служило более мощным источником наслаждения – качество музыки, качество звуковоспроизведения, или престижная «фирменность» аппарата. Такой была новая точка ценностного равновесия. Однако равновесие редко бывает долгим. И пирамида скоро начала странным образом таять.
Не сразу, конечно. Какое-то время развитие техники и развитие музыки происходило в гармоническом симбиозе, работая друг на друга, они выступали в качестве самостоятельных ценностей. В шестидесятые-семидесятые появилось много действительно красивой музыки. И это тогда ценилось. А таяние пирамиды началось так, что этого, как всегда, никто не заметил.
Люди устают долго ценить одно и тоже. И чем больше возможностей для потребления, тем быстрее устают. Культ качества звука и аппаратуры был порожден техническим прогрессом. Он же и лишил их сверх-ценного ореола. Высокое качество переставало быть редкостью, переходя в разряд само собой разумеющихся вещей. Все это оказалось, в конце концов, доступней, привычней, дешевле. Это когда-то люди привозили дорогую аппаратуру из загранкомандировок и сдавали ее в комиссионку, чтобы немного улучшить свое материальное положение – характерная черта эпохи застоя. А теперь многие просто не понимают, как это магнитофон, музыкальный центр, хорошие колонки или наушники могли быть редкостью, составлять какую бы то ни было проблему.
Любопытная параллель: проблема аппаратуры теряла вес, одновременно теряла вес и сама аппаратура. Она становилась легче и меньше в размерах. Это стало новым направлением эволюции. Многие перемены, происходившие в этой области, укладывались в эту схему. Ламповые схемы под натиском транзисторов незаметно отошли в тень, катушечные магнитофоны уступили место кассетным, массивные колонки, совершенствуясь, сбрасывали вес, становились все легче и миниатюрнее, появились карманные диктофоны и плееры, сначала кассетные, потом CD-плееры, затем mp-3, потом «флешка». К этой гонке подключились сотовые телефоны, постоянно умножавшие список своих функций, среди которых немалое место занимают «примочки», как-то связанные с музыкой. Общее направление этого движения – максимально совершенное осуществление максимального числа функций при минимальном весе, минимальных пространственных габаритах и минимальных усилиях со стороны человека.
Как это все отражается на нас самих, на нашем способе взаимодействия с музыкой и друг с другом, на нашем отношении к музыке и к самим себе? Коль скоро, мы вспомнили о сотовом телефоне… Попытайтесь уговорить тринадцатилетнего подростка, фаната свой «тинэйджерской» музыки проявить чуть большую терпимость и хотя бы только послушать что-либо выходящее за рамки его весьма жестких вкусовых предпочтений. Уверяю, задача не из легких. Но, то, чего не могут сделать взрослые дяди и тети со специальным музыкальным или педагогическим образованием, не могут сделать школы, методкабинеты, филармонии, оказалось под силу маленькому прибору, помещающемуся в кармане. Сегодня «мобильник» стал тем, кого любят, кому доверяют, кто обладает авторитетом. А он, заметьте, не чурается классики и использует соответствующие отрывки в качестве звуковых сигналов. Результат просто поразительный! Самые отъявленные ненавистники и гонители классики среди тинэйджеров охотно соглашаются послушать и даже поиграть ту (но только ту!) музыку, которая «удостоилась» быть использованной в таком вот качестве. Это ее «типа» реабилитирует в их глазах.
Этим, однако, вклад сотового телефона в музыкальную (и не только музыкальную) культуру не ограничивается. Мобильник может быть по праву назван не только великим «реабилитатором» музыки, но и великим ее «потрошителем». Подобно ребенку, выковыривающего из булки изюм, он выковыривает из симфоний и опер лишь те «изюминки», которые кажутся ему самыми вкусными. И он (конечно же, не только он) работает на то, что доминирующей нормой оказывается такой «сэмплирующий» подход к произведениям искусства. Так в культуре появляется новый фильтр, любому верблюду предлагающий пройти сквозь игольное ушко, предварительно отрезав от себя «все лишнее». Это вам не прокрустово ложе, а нечто более радикальное!
Телефон не просто активно умножает общую массу «музыкальной нарезки», но и включает пользователей в активную игру с этим материалом: его можно скачивать из Интернета, им можно обмениваться с друзьями, им можно манипулировать, назначая те или иные музыкальные отрывки на те или иные роли и т. п. В предельно упрощенном виде, зато в массовом порядке сотовый телефон предлагает публике тот способ «игры в музыку», который лежит в основе множества компьютерных программ (музыкальных редакторов). С помощью этих программ можно, даже не имея музыкального образования, создавать собственные музыкальные композиции из предлагаемого пользователю «строительного материала». Так в музыкальной культуре формируется новый пласт, новый контекст. Его строительный элемент, его кирпичик – цитата. Что это – влияние постмодернизма? Может быть, и нет, но некий резонанс все же налицо. Как бы ко всему этому ни относиться, но признаем, что хотя бы в таком препарированном виде, музыкальная культура впитывается массовым сознанием. И, возможно, то, что воспринимается в качестве кусочков, осколков, проложит путь целому.
Любой способ взаимодействие людей с музыкой это, как правило, еще и особая форма взаимодействия людей друг с другом. Если с этой точки зрения оценить культурную роль сотового телефона, то мы столкнемся с неким парадоксом. С одной стороны, телефон – исключительно мощный, гибкий инструмент связи между людьми, дающий, потенциально, безграничные возможности. Социальное пространство, очерчиваемое патефоном, мы сравнили с узким кругом света уличного фонаря, или пространством тепла вокруг костра. Здесь этот круг выходит за границы государств и даже континентов. Но с другой стороны, телефон – вещь сугубо персональная. Он помещается в кармане, в руке, он прижимается к уху, и то, что говорит мой собеседник, предназначается мне лично и никому больше. Социальное пространство, таким образом, сжимается до границ моего тела. Впрочем, эти «странности» связаны не только с сотовым телефоном, и касаются они не только социального пространства.
Много ли места занимает «флешка» в комплекте с наушниками – «вкладышами»? Зато действие производит весьма серьезное. В нем «эффект наушников» сочетается с «эффектом стереофонии». Эффект наушников, если коротко, заключается в том, надевая их, я как бы отделяю себя от внешнего пространства и начинаю озвучивать внутреннее. Я ухожу в себя, в свою глубину и открываю мир, в котором хорошо. Это техническое устройство плюс жевательная резинка позволяют человеку с комфортом обустроить свое (спрятанное внутрь собственного тела) жизненное пространство даже в тесноте общественного транспорта. Пусть мне тесно снаружи, зато просторно внутри.
Эффект стереофонии в каком-то смысле является противоположным. Он вновь выносит звуковую реальность вовне и размещает ее как бы во внешнем пространстве, никак не считаясь с существующими в нем предметами. По сути же, происходит нечто иное, а именно порождение музыкальных призраков – «аудио-фантомов» и размещение их в призрачном же пространстве («аудио-пространстве»). Когда с помощью стереоэффекта озвучивают фильм, иллюзия видимая совпадает с иллюзией слышимой и конфликта между зрением и слухом не возникает. В остальных случаях мы оказываемся в ситуации странного сосуществования двух совершенно независимых взаимопроницаемых миров, являющихся друг для друга в одинаковой мере призрачными. Современное кино изобилует кадрами, где некие тонкоматериальные сущности свободно проходят сквозь стены, предметы обстановки, людей и т. п. Когда я сижу в стереонаушниках в вагоне метро, я вижу сидящих напротив меня людей. Но слышу я нечто иное. Глаза говорят мне, что в двух метрах от меня сидит солидный мужчина и читает газету, а уши «видят» на том же самом месте солирующего трубача. Вот он энергично свингует, слегка притоптывая в такт, затем идет вправо сквозь не подозревающую ни о чем бабушку, и оказывается в центре группы оживленно беседующих парней…. Но, что это? Напротив меня сидит барышня в таких же наушниках! Значит, не исключено, что кто-то удобно расположился у меня на коленях и лихо лупит по барабанам. Однако ее виртуальный мир не должен касаться меня, а мой – ее. Каждый из нас занимает (заполняет своими призраками) чуть ли не весь вагон, но никому от этого не тесно. Это ли не толерантность!
Надевая стереонаушники, я принципиально меняю схему своего бытия в мире. «Другая реальность» оказывается достижимой одним нажатием кнопки. Чтобы заметить ее «чудеса» нужен лишь минимум наблюдательности. Тонкие, но глубокие преобразования, затрагивающие основы самосознания человека происходят при этом. Физическое и виртуальное пространства пронизывают друг друга и этим путают все карты. Внутреннее проецируется вовне, внешнее просачивается внутрь, границы личного и социального становятся зыбкими, неясными и, в конце концов, просто взрываются. «Я» сжимается до точки и одновременно устремляется в бесконечность. Компьютер и Интернет лишь доводят этот процесс до логического конца. Мы оказались в мире, где вопрос «куда мы попали?» и вопрос «куда мы пропали?» имеют почти одинаковое значение. Здесь понятия «этот» и «тот же самый» лишаются привычного смысла. Самозамкнутость и самотождественность вещей становится эфемерной. Тексты «вспарываются», расчленяются и поглощаются хищными гипертекстами. Победа «цифры» стала победой формы над материей. Клеточка материального мира по имени «вещь» распалась, форма вылетела на волю. Нечто подобное происходит и с человеком. «Я» развоплощается и деиндивидуализируется. Имена заменяются «никами». Войдя в пространство «цифры», в виртуальную реальность компьютера и компьютерных сетей, человек как бы попадает в зеркальный лабиринт, где ему уже трудно отличить себя самого от множества своих отражений. Чем он рискует? Потерять себя? Всего-то? Зато сколько новых приобретений! Преодолеть «я» – последнее препятствие на пути свободы – и ее горизонты устремятся в бесконечность….
Ну а на самом деле, что делает человек, оказавшись в «другом мире», как использует он новые горизонты свободы?
Он делает то, что человеку и свойственно делать, когда основы его мира начинают расшатываться под действием каких-то внешних причин. Он восстанавливает привычные опоры. В новых условиях он строит свой человеческий мир и делает это по возможности, в привычных человеческих формах. Так мореплаватель, полярник, космонавт стараются взять с собой «кусочек дома» и сколь возможно по-домашнему обустроить свое существование. Прежде всего, он строит дом, роль которого теперь выполняет «домашняя страничка», его персональный сайт. Он украшает и обустраивает его, делает удобным для жизни и приема гостей. Он заботится о его чистоте (защита от спама) и безопасности (защита от хакеров). Он устанавливает «добрососедские отношения» с другими домами, жителей которых он считает людьми своего круга. Он заводит почту и устанавливает переписку. Затем он находит подходящее для себя «клубное пространство», становится постоянным посетителем различных виртуальных «тусовок» (чаты, форумы, «Живой журнал» и пр.). Потом появляются «виртуальные деньги», обладающие, между прочим, способностью превращаться (конвертироваться) в наличность и обратно. Этот мост между реальным и виртуальным миром ставит под вопрос существование границ и существенной разницы между ними. И вот, я уже могу там жить и работать, делать бизнес и отдыхать. Могу проводить в этом царстве грез все время бодрствования. Могу ли я там спать? Да, интересно, где я нахожусь, когда сплю? Все, наверно, зависит от того, что мне снится…
В этом мире есть, практически все, что есть в мире обычном. Есть клубы, библиотеки, фонотеки, концертные залы, игровые автоматы, есть места для научных дискуссий, есть возможность ходить в гости и общаться реальном времени… Но что-то странное происходит с пространством и временем в этом мире, не отягощенном материей. Расстояния преодолеваются мгновенно. Различие близкого и далекого теряет смысл. Я могу быть везде. Но, будучи где угодно, я остаюсь на одном и том же месте, один ни один со своим монитором, звуковыми колонками, или наушниками. Я вместе со всеми, но я при этом совершенно один. Я – всего лишь ячейка глобальной сети. А сеть – продолжение меня самого. Гипертекст – основной закон построения этого мира, странным образом напоминает мне мое собственное устройство. Кажется, я смотрюсь в волшебное зеркало и вижу отражение своего внутреннего мира. Не так ли работает и мое сознание, где все связано со всем тонкими нитями ассоциаций?
Так, куда я попал и где строю свой дом? И вспоминаются последние кадры «Соляриса», где герой возвращается домой, обнимает отца,… а затем камера поднимается все выше, и мы вдруг понимаем, что не Земля это: мы видим малюсенький островок, на который со всех сторон катятся волны мыслящего, дышащего, живого, но такого непонятного и чужого Океана.
Аналогичное мнимое возвращение происходит в разных сферах жизни, например, в мире звука, о котором наша речь. Совершенствование техники позволило сначала максимально приблизиться к реальному звучанию инструментов, избавиться от шумов, воспроизвести акустические характеристики озвучиваемых помещений и открытых ландшафтов. Соответствующие режимы звуковоспроизведения сейчас есть в большинстве компьютеров. Но затем почему-то возникла потребность «вспомнить о былом» и появились технические возможности, позволяющие имитировать старый патефон, со всеми шумами, шуршанием, потрескиванием, пощелкиванием, его спрессованный с металлическим привкусом звук. Закрой глаза – и покажется, что вернулся в то время. Открой глаза – и увидишь компьютер, колонки, провода и поймешь, что все это сэмплировано и смоделировано – и звук, и атмосфера безвозвратно ушедшего прошлого. Все это – малюсенький островок в океане мультигигабайтной памяти компьютера.
Так что же, возвращается все на круги своя, или нет? Соблазнительно, конечно, ответить «да» и ощутить тепло и уют. Можно даже припомнить к случаю знаменитые окуджавские слова: «Мы начали прогулку с арбатского двора – к нему-то все, как видно, и вернется». К нему-то может быть и вернется, да вернется ли он, тот старый арбатский двор? Пройдемся по Арбату сегодняшнему, буквально напичканному ностальгией по вчерашнему. Вспомним об Арбате вчерашнем, дышавшим ожиданием дня завтрашнего. И воздержимся от категорического ответа.
Песни Зазеркалья
«Так что же, возвращается все на круги своя, или нет?», – задали мы сами себе вопрос только что, и решили пока воздержаться от ответа. Вопрос, тем не менее, интересный и важный, и мы к нему в свое время еще вернемся. А пока более плотно займемся другим вопросом, который также был сформулирован выше – «куда мы попали?». И здесь нам придется вновь говорить о клипах, телевидении, интернете и тех воздействиях, которые они оказывают на песню.
Сегодня на песенном рынке есть все. Песенные потоки обильны. Но спросите, каково их направление, куда они текут, и я приду в некоторое замешательство. Не знаю, как вы, а я не вижу каких-либо ясных подсказок. Во всяком случае, они не очевидны, не лежат на поверхности. Поэтому вопрос о направлениях мы на некоторое время отложим в сторону. Что же касается самих потоков, здесь можно констатировать один, достаточно очевидный, факт, заключающийся в том, что едва ли не самым мощным и влиятельным песенным потоком является в последние годы клиповый поток.
Клип стал доминирующей формой существования песни. Это выражается, в том, что действительно состоявшейся (реализовавшейся) в наши дни может считаться лишь та песня, которая сумела предстать перед публикой в форме клипа. Кроме того, формат клипа, его эстетика накладывает достаточно глубокий, отпечаток на характер сочиняемых песен, а также на форму их презентации, в частности, на сценическую, концертную форму.
Сам по себе, клип – малая форма, он весьма компактен, но отличается, при этом, огромной информационной емкостью. Ему, таким образом, органически присуще противоречие между малой формой и чрезвычайно большой информационной, эмоциональной, энергетической насыщенностью (сверх-насыщенностью). Данное противоречие, отчасти, разрешается в образовании своеобразных клиповых потоков – последовательностей клипов, непрерывно следующих друг за другом. С одной стороны, процесс «накачки», начатый в одном клипе, продолжается в следующем. С другой стороны, расширяется, так сказать, сам накачиваемый объем (внутренние пространства клипов суммируются). Поэтому, накапливаемое напряжение распределяется на больший формат. При этом многие мотивы, образы, эмоционально-экспрессивные элементы имеют тенденцию повторяться в разных клипах, что приводит к некоторому перераспределению, перекомпоновке содержания и в какой-то мере также ослабляет внутреннее напряжение.
Есть и еще один немаловажный момент: картина реальности, выстраиваемая в клипе, отличается своими специфическими особенностями. Можно сказать, что существует своя особая «клиповая реальность», свой мир, живущим по иным законам. Организация клипов в потоки избавляет от необходимости совершать переход в иную реальность и обратно ради каждого отдельного клипа. Можно войти в эту реальность и пребывать в ней достаточно долгое время. Вопрос о психологических последствиях такого пребывания оставим пока в стороне.
В результате объединения множества клипов в единый поток, возникает нечто, напоминающее циклическую форму. Но с определенными особенностями. Во-первых, у этой формы нет внутренней завершенности. Процесс не заканчивается, а просто прекращается. Последовательность может быть оборвана по каким-либо внешним причинам: исчерпание объема памяти носителя (DVD диска), завершение телепрограммы и т. п. Такая потенциальная бесконечность клиповых потоков делает их в чем-то похожими на телесериалы (также ставшие доминирующей формой телепродукции).