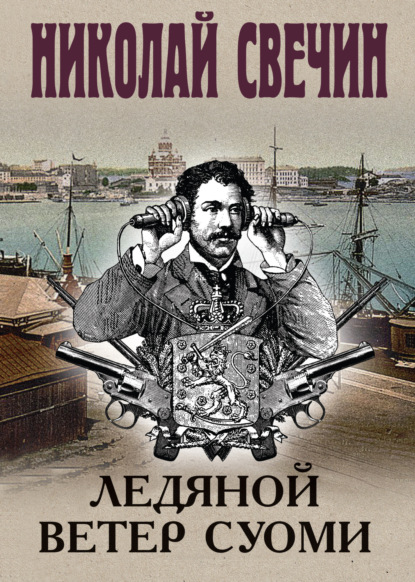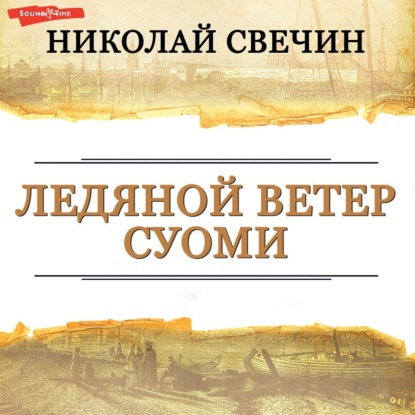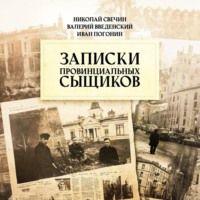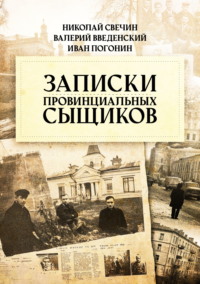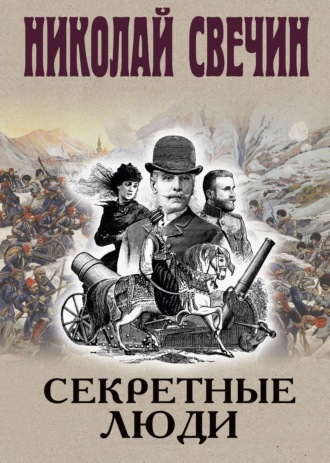
Полная версия
Секретные люди
Наша разведка в противоборстве с японской показала себя очень слабо. Не нашлось способных людей. Школ по обучению секретным ремеслам не имелось тоже. И скажу я вам, поручик, что такая глупость царит в нашей армии и по сей день.
…Тем временем германское золото медленно плыло в Стамбул. Порта объявила мобилизацию – якобы из соображений самообороны. Военный министр Энвер-паша, второе лицо в Османской империи, вождь младотурок и зять султана, коварно предложил России подписать секретный союз, направленный против Германии. В турецких казармах точили штыки и сабли…
Николка между тем застрял в местечке Чатак в тридцати верстах от границы. Он вез с собой важные сведения. Из Месопотамии в помощь стоящей против русских 3-й турецкой армии шло подкрепление – 37-я пехотная дивизия 13-го армейского корпуса. 11-й корпус со своей стоянки у озера Ван тайно двинулся к русской границе. Части самой армии приняли запасных и спешно их обучали. Враг явно готовился к нападению.
Поручик под видом армянского торговца выехал к границе в сумерках. Жандармы хорошо его знали и пропустили без досмотра, только выпросили себе коробку табаку. Начальник поста, пожилой малязам[26], отвел негоцианта в сторону и сказал вполголоса:
– Ты хороший армянин, Ашот. Были бы вы все такие, не нужно вас и убивать.
– А за что нас убивать? – удивился Тер-Егизар-оглы.
Малязам улыбнулся и махнул рукой:
– Да я пошутил. Не принимай всерьез!
Озадаченный торговец оседлал мула и двинулся к Занзаху. За ним Кетак, а дальше уже российская земля, селение Кара-урган… «Что за глупые шутки в голове у османа, – думал он. – Положение армян в Порте незавидное, их притесняют, а иногда и действительно убивают. В 1896 году в массовых погромах погибло больше ста тысяч человек. В том же году боевики „Дашнакцутюна“ неудачно захватили в Стамбуле Оттоманский банк, взяв 150 человек в заложники, – в ответ толпа убила в столице сразу 8000 армян. А в 1909-м в городе Адане жертвами фанатиков стали 20 000 армян. После этой жуткой резни младотурки-реформаторы договорились-таки с лидерами армянских патриотов, и убийства прекратились. Сейчас ими грешат преимущественно курды. Собственно турки более-менее терпимы, жить, как говорится, можно. Загадка…»
В середине октября в горах уже было холодно, а на перевалах выпал первый снег. Замотав голову башлыком, одинокий путник спешил побыстрее выбраться к своим. Вдруг, когда он проезжал Зивинские высоты, на тропе его остановили двое аскеров.
– Стой! – крикнул тот, что был выше ростом. – Слезай!
Ашот спешился и полез было за пазуху, дать караулу бакшиш. Однако второй солдат выставил вперед штык:
– Ты армянин?
– Да, уважаемый, я торговец Тер-Егизар-оглы, меня тут всякий знает. А в чем дело?
– Армянин… – повторил аскер, обращаясь уже к долговязому приятелю. – Что я говорил? Самое время.
И внезапно ударил негоцианта штыком в грудь.
Обычный человек не успел бы даже сообразить, что происходит. И умер на месте. Однако туркам сильно не повезло. Поручик Лыков-Нефедьев к обычным людям не относился и был готов к любым ситуациям. Он увернулся от выпада, забежал за своего мула и визгливо закричал:
– Что ты делаешь?! Я откуплюсь, заплачу, сколько скажешь.
Под бешметом у него был спрятан маузер, но разведчик не хотел стрелять. А главное, он еще не понял, почему на него напали обычные солдаты. В диком происшествии следовало сперва разобраться, прежде чем принимать крутые меры. Но турки не собирались отпускать добычу. Высокий аскер ответил с насмешкой:
– Конечно, откупишься. Только мы заберем весь кошелек.
– Вместе с твоей жизнью, – хохотнул тот, что был пониже. И они напали на армянина с двух сторон.
Дальше все произошло очень быстро. Николай ловко отскочил в сторону, схватил в охапку сразу обоих и сильно приложил головами друг об друга. Этому приему его научил отец. Ребята с воплями плюхнулись на землю. Через секунду разведчик заколол их спрятанным в рукаве коротким кинжалом. Осмотрелся, не видел ли кто расправы. Потом взял убитых за ворота и потащил к оврагу. Тут обыскал, полистал солдатские книжки. 18-й полк низама[27], первый батальон, вторая рота… Помнится, этот полк входит в 29-ю пехотную дивизию 9-го армейского корпуса. Совсем недавно он стоял в Гассан-Кале! А теперь почти на русской границе, в десяти верстах от нее. Все один к одному: вот-вот начнется война.
Оружие убитых тоже подверглось изучению. Магазинки оказались пятизарядные, системы Джамбозар – турецкий аналог германской винтовки «маузер» М98. В подсумках – носимый запас в 150 патронов. За поясом у одного из аскеров имелась граната – системы болгарского офицера Тюфенчиева.
Разведчик сбросил тела убитых в овраг, вместе с оружием и документами. Еще раз осмотрелся, влез на своего крепкого мула и хлестнул его плетью. Следовало торопиться – сообщить своим, что опасность близка. Граница, скорее всего, перекрыта, и его не пропустят на ту сторону. Ведь едва не закололи, гололобые…[28] Вот что значили слова старого малязама на выезде из селения! Быть армянином разрешалось в мирное время. А в военное – уже нет. Придется менять легенду. Жалко, так хорошо поручик к ней приноровился, столько верст проехал по горам и долам. От Трабзона до Энзели сотни людей знают Тер-Егизар-оглы и готовы иметь с ним торговые дела. И вдруг на пустой дороге, без всякого якова, без попытки что-то объяснить, турок бьет его штыком в грудь. Да… Мирная жизнь кончилась.
Николай еще не знал, что сегодня, 16 октября, турецкие военные корабли под командой немецких офицеров напали на русские порты Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск. Турецкие миноносцы ворвались в бухту Одессы и торпедировали нашу канонерскую лодку «Донец», а вторую – «Кубанец» – повредили артиллерийским огнем. От пушек досталось нефтехранилищу, портовым сооружениям и сахарному заводу, несколько снарядов угодили в жилые кварталы города.
Одновременно германский линейный крейсер «Гёбен» вместе с миноносцами обстрелял Севастополь. Береговые батареи ответили огнем, но обе стороны из-за тумана друг в друга не попали[29]. На берегу погибли несколько моряков, лечившихся в госпитале. Главной жертвой набега стал возвращающийся из Ялты минный заградитель «Прут». «Гёбен» пытался захватить корабль, нагруженный минами, и его капитан приказал открыть кингстоны. Часть команды попала в плен, часть на шлюпках сумела добраться до берега[30]. Миноносец «Лейтенант Шестаков», пытавшийся спасти заградитель, получил несколько попаданий снарядов 283-миллиметровых пушек линкора и с трудом сохранил плавучесть. В ходе набега «Гёбен» двадцать минут маневрировал на управляемом минном поле, которое было отключено (ждали возвращения заградителя). Когда на поле подали ток, немец уже ушел оттуда…
Одновременно легкий германский крейсер «Бреслау» заминировал Керченский пролив (подорвались два русских парохода «Ялта» и «Казбек»), после чего обстрелял Новороссийск. Загорелись нефтехранилища, страшный пожар от разлившейся нефти уничтожил 14 стоящих в порту судов. А турецкий крейсер «Гамидие» поджег железнодорожные склады и портовые сооружения в Феодосии.
В Феодосии и Новороссийске немецкие офицеры высадились на берег и предупредили, что порт и город скоро будут подвергнуты артиллерийскому огню. И населению надо спасаться[31]. Возникла паника, власти и полиция сбежали в первую очередь. Обыватели тоже бросились прочь из города, что позволило свести потери среди мирного населения к минимуму (в Новороссийске, например, погибли 2 человека).
Так началась Великая война на Кавказе и в Черном море.
Нападения на море послужили сигналом к началу военных действий на суше. В ночь на 20 октября русские войска перешли турецкую границу и через 5 дней захватили Кепри-кейскую позицию, что в 50 верстах от Эрзерума. Турки в ответ высадили возле местечка Хоп морской десант: два пехотных полка элитного Константинопольского корпуса и начали наступление на Батум. Аджарцы поддержали единоверцев и устроили мятеж в российском тылу. Десантом командовал немецкий майор Штанке. Турецкие полки, усиленные конными аджарцами, угрожали Ольтынскому отряду и важному узлу дорог Ардагану. С фронта их поддержали части 3-й армии.
Фактически Кепри-кейская (она же Азан-кейская) операция превратилась во встречное сражение. Обе стороны атаковали, только в разных местах. Сарыкамышский отряд генерала Берхмана, самый сильный из числа русских войск, получил по зубам и начал отступать обратно к границе. Потом ответил и вновь потеснил турок. Затем опять отступил, едва-едва отстояв Ардосские позиции. Началась осенняя слякоть, дороги размыло. «Пятая стихия»[32] сделала маневренную войну невозможной. В конце концов обе стороны выдохлись. Турки потеряли 15 000 солдат (из которых 3000 – дезертиры), русские – 6000. Самые большие потери понес 156-й пехотный Елисаветпольский полк. Но моральная победа осталась за турками. Они отбили плохо подготовленное наступление 1-го Кавказского корпуса. А на Востоке такие вещи имеют особое значение…
Наши части закрепились на линии Маслахат, Азан-кей, Юзверан, Арди. С 5 октября на фронте установилось затишье. В результате боев образовался клин в сторону османской территории (военные называют подобные выступы «балконом»). И этот выступ очень заинтересовал Энвера-пашу. Он преклонялся перед германской армией и решил устроить «кавказский Танненберг», окружив и уничтожив весь Сарыкамышский отряд[33].
Для руководства операцией военный министр лично прибыл в Эрзерум. Его сопровождали германские советники генерал фон Шеллендорф и майор фон Фельдман. Сообща эти три гения разработали план разгрома русских. Армия насчитывала в своем составе три корпуса, а также иррегулярную курдскую конницу. 11-й корпус должен был атаковать отряд в лоб, отвлекая его от тайного обходного маневра 9-го и 10-го корпусов. Те сначала сокрушали Ольтынский отряд генерал-майора Истомина, стоявший на правом фланге частей генерала от инфантерии Берхмана. А потом отважным маршем окружали главные силы русских, захватывая Сарыкамыш в их глубоком тылу и отрезая пути к отступлению. Канны, Танненберг, тушите свет!
План был смелый и имел шансы на успех. Однако его авторы не учли ряд важных обстоятельств. Во-первых, уже выпал снег. В местности, где мало дорог и все они плохие, это имеет существенное значение. Во-вторых, управлять корпусами в горах, куда телефон не протянешь, а искровой телеграф[34] не работает, очень трудно. В-третьих, ударила такая стужа, что потери в личном составе от обморожения соперничали с боевыми потерями. И в-четвертых, самое главное: Энвер-паша и его советники-михели не учли мужества русских солдат и их командиров.
Глава 3
Сарыкамыш
10 декабря 1914 года Николка сидел в своей комнате в офицерском флигеле Елисаветпольских казарм площадью в семь с половиной квадратных саженей[35] и грустил. Его полтораста шестой полк сражался в горах, а он устроился как в мирное время. Команду пешей разведки, понесшую значительные потери при обороне Ардосской позиции, вернули в Сарыкамыш на отдых и пополнение. 156-й полк стоял тут перед войной и успел выстроить себе хорошие теплые казармы. Даже с храмом Святого архистратига Михаила! Поручик приходил в себя после воздушной контузии – в бою за Джилигельские высоты шрапнельный стакан пролетел в аршине от него и сбил с ног горячим воздухом. Николка оглох на левое ухо (через неделю слух восстановился), получил ожог щеки (уже подживала), и после физических нагрузок его мотало (с этим было хуже всего, слабость не проходила). Сутки поручика рвало желчью, но потом отпустило. От его прежней команды в пятьдесят шесть человек после боев уцелело тридцать. Их прикрепили к нестроевой роте, охранявшей цейхгауз и казармы, и велели набираться сил. Лыков-Нефедьев удостоился чести встречать государя, который 1 декабря прибыл с коротким визитом в Сарыкамыш. Царь вручил нижним чинам Георгиевские кресты. В команде пеших разведчиков награду получил только один человек – Антон Золотонос, за пленение юзбаши из мектебли[36]. После Сарыкамыша Его Величество отчаялся на смелый шаг – поехал в русский Меджингерт, чуть ли не на позиции передового отряда, где благодарил войска за храбрость. Он раздал за полдня тысячу с лишним Георгиевских крестов. Потом выяснилось, что курды следили за его поездкой с вершин гор, но не решились напасть…
Венценосец уехал обратно в Карс, бои на фронте вроде бы как затихли, Николай застрял в тылу. Сын даже сумел отослать отцу в Петроград целый ящик отличной хурмы. Тот, выполняя наказ своего учителя Павла Афанасьевича Благово, закусывал ею коньяк.
Но скучать особенно было некогда. Выпал снег, ударили морозы ниже двадцати градусов, и в таких условиях приходилось вести дальнюю агентурную разведку. Смельчаки армяне из 4-й добровольческой дружины прокрадывались в тыл ударных турецких корпусов. Их рейды были чрезвычайно опасны: с началом войны османы и особенно курды начали беспощадный террор против армянского населения. Лыков-Нефедьев сам за сторожовку[37] не ходил: мешала контузия. Тут дай Бог добраться до офицерской кухни и не упасть… К тому же образ Ашота Тер-Егизар-оглы не годился в новых обстоятельствах, а на создание другой легенды требовалось много времени.
Николай перечитал свой рапорт капитану Драценко, исполняющему обязанности начальника разведывательного отделения штаба Кавказской армии. 9-й корпус, так упорно дравшийся с русскими, снят с Ардосских позиций, его сменил свежий 11-й силами в 45 батальонов. По непроверенным сведениям, на правом фланге Ольтынского отряда османы создают группировку с участием саперов и артиллерии. Предположительно, это 30-я и 32-я пехотные дивизии плюс средства усиления. Конный отряд Фехти-бея выдвинулся к Кепри-кейскому мосту. 10-й корпус вообще пропал… Что это значит, пока не ясно. Но маневры противника наводят на нехорошие мысли. Отряд генерала Истомина, прикрывающий Ольты, слабый: всего восемь с половиной батальонов пехоты, семь сотен казаков, саперная рота и армянская дружина. А позади них Сарыкамыш – главная тыловая база всего фронтового участка. Здесь кончаются железная дорога с шоссе и сосредоточены большие запасы военного имущества. Поручик вчера доложил свои соображения самому генералу Берхману, приехавшему на один день с линии фронта лечить флюс. Мол, хорошо бы подкрепить Истомина, да и гарнизон селения. Начальник Сарыкамышского отряда процедил сквозь зубы:
– Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы… Поручик, вы же знаете, что лишних солдат у меня нет, две трети всех кавказских войск услали на Западный фронт. Займитесь делом и не мешайте начальству.
Лыков-Нефедьев действительно знал, что с началом кампании лучшие части с Кавказа перебросили в помощь западному направлению. 2-й и 3-й корпуса – цвет Кавказской армии – воюют сейчас с германцами. Но зачем же про Наполеона? Георгий Эдуардович Берхман хоть и принадлежал к лифляндским дворянам, но всю службу провел здесь. Даже родился в дагестанском ауле. Был начальником штаба Кавказского военного округа, должен бы понимать значение секретной информации. Войну Берхман начал корпусным командиром. Неужели строевая служба так меняет мышление? Строевики признают лишь один вид разведки: послать казаков, лучше под командой офицера, «осветить местность». И все. Но что может увидеть такой разъезд? Только ближайшие к нему позиции врага. А тыл, тем более дальний? Туда казаки не проберутся. Нужны ходоки, такие, которых обучил поручик Лыков-Нефедьев. Однако полные генералы редко слушают поручиков[38].
Николка не стал падать духом. Драценко – любимец Юденича и сумеет дать Берхману совет сверху, от имени высокого начальства. Пусть-ка тогда его высокопревосходительство попробует ляпнуть про Бонапартия… И поручик продолжил свой рапорт.
Из сеней раздался шум и вошел денщик, Герасим Тупчий:
– Ваше благородие, я обед принес.
– Поставь на печку. Что там?
– Суп харчо и котлета с перловой кашей.
– Опять? – рассердился офицер. – Не хочу. Сколько можно перловкой терзать?
Тупчий, заботливый и расторопный, ответил:
– Ваше благородие, а доктора велели вам много кушать. Чтобы, значит, поправиться. А то без вас война закончится и ордена не дадут.
Герасим очень хотел, чтобы его начальнику вручили Георгиевский крест, настоящий, офицерский. Это была его идея фикс, и поручик смирился:
– Ладно… Подай умыться.
Тут денщик выдал одну из своих заготовленных фраз:
– Медведь не умыватца, а народ боятца.
– Остряк… У нас кахетинское осталось?
– Так точно. Принести?
– Полстакана, не больше. Для аппетита. И тушетский сыр.
На этих словах денщик вставил очередную деревенскую присказку:
– Аппетит – не жевано летит.
Начальник команды скривился, но промолчал. Герасим был из крестьян Сергачского уезда Нижегородской губернии и принес с собой в нестроевую роту кучу сельских прибауток. Приходилось их терпеть, имея в виду легкий характер денщика и его преданность. Последняя была испытана в боях: когда Николая шарахнула контузия, Тупчий под обстрелом на себе вытащил его из оврага и донес до перевязочного пункта.
Едва поручик успел пообедать, как в дверь постучали и ворвался младший унтер-офицер Золотонос. Он принес с собой не только волну холода, но и дикую весть:
– Ваше благородие, беда! Янычары взяли Бардуз!
– Как взяли Бардуз? – растерялся Лыков-Нефедьев. – Что ты несешь, опомнись! До него отсюда всего восемнадцать верст.
– О чем и речь, – без разрешения шлепнулся на табурет унтер. – До наших главных позиций на Ардоссе – шестьдесят. А до прорвавшейся колонны – восемнадцать. Ну дела…
– Откуда сведения? – продолжал не верить офицер. – Сорока на хвосте принесла?
– Фуражиры прискакали охлопью, обрезав постромки[39].
– Куда прискакали?
– В Верхний Сарыкамыш, час назад, – пояснил Антон. – Оттуда сразу к нам, на доклад генералу Воропанову. Говорю же: беда. Сведения правдивые. Надо драпать, пока не поздно.
– Что значит «драпать»? Георгиевский ты кавалер… А база? А склады с военными запасами? Там этих гололобых, может, одна рота, а ты панику навел.
Унтер-офицер с грустным видом выслушал и ответил:
– Турок там до черта, и пехота, и артиллерия, и даже сувари[40]. Эти самые опасные, сволочь: через час могут уже быть здесь.
Начальник команды вскочил:
– Герасим, одеваться! А ты, Антон, покрутись тут, понюхай, чем пахнет. Потом жди меня в казарме, с людьми: пускай все приготовятся к походу.
– Так, значит, отступаем к Карсу? – обрадовался Золотонос.
– Отставить отступать! Будем оборонять Бардузский перевал. Я иду к Воропанову за приказанием.
С Бардузского перевала вела из турецких пределов к котловине полуаробная дорога[41]. Она упиралась в селение Верхний Сарыкамыш, от которого до главного пункта оставалось всего шесть верст.
Генерал-майор Воропанов, начальник 2-й Кавказской стрелковой бригады, являлся комендантом гарнизона. Человек нерешительный, вялый, грубый с подчиненными, он плохо был подготовлен к самостоятельным действиям в жестких условиях. А уж чего веселого! Наши войска далеко, селение брошено на произвол судьбы, сил для его обороны нет. А тут военного имущества на десятки миллионов рублей. Притом, если отдать туркам Сарыкамыш, как будут спасаться войска главного отряда? Им придется отступать шестьдесят верст по горам, враг начнет бить их в спину. А затем генералу Берхману нужно освободить селение, прорваться по шоссе на Карс и дуть по нему на север еще шестьдесят верст. Без патронов, без снарядов, с тысячами раненых и обмороженных? Это невозможно. Такой исход означает конец русской армии. Дорога на Карс и далее на Тифлис будет открыта, турки вырвутся на оперативный простор, в местности с преимущественно мусульманским населением. Ну уж нет!
Лыков-Нефедьев, превозмогая слабость, быстро шагал на Батарейную гору, где в казармах 155-го Кубинского полка находился гарнизонный штаб. Ему сразу стало ясно, что Золотонос прав. Селение охватила паника. Всюду бегали встревоженные люди, повозки спешно удирали по шоссе на север, туда же вразброд направлялись и пешие. Причем не только гражданские, но и военные, с оружием в руках! Поручик схватил одного такого бородача:
– Куда бежишь, солдат?
– А… ваше благородие, турок прорвался, через час будет здеся! Не желаю в плен попадать!
– А драться тоже не желаешь? У тебя винтовка, ты присягу давал. Какой роты?
Но бородач только глянул на него белыми от страха глазами, вырвался и побежал к шоссе. Догонять его у поручика не было ни времени, ни сил, и он направился в штаб.
К его удивлению, обстановка там напоминала ту, что Николай наблюдал на улицах селения. Генерал Воропанов, с такими же белыми глазами и трясущимися руками, говорил столпившимся вокруг него офицерам и чиновникам:
– Срочно грузите в вагоны денежные запасы казначейства, государственные регалии, архив и…
Он запнулся, соображая.
– …женщин и детей, – подсказал кто-то.
– Да, их тоже.
– И раненых, – веско произнес незнакомый черноусый полковник.
– Раненых? – переспросил генерал-майор. – Да, их грузите после казначейства.
Вперед выступил начальник госпиталя:
– Ваше превосходительство, у меня три тысячи раненых и две с половиной тысячи обмороженных. Как же я их эвакуирую? На чем?
Воропанов стал затравленно озираться, будто хотел услышать от кого-то нужный совет. И неожиданно получил его. Полковник заявил все так же веско:
– Разрешите, я займусь обороной селения. А вы, ваше превосходительство, организуйте эвакуацию. Только сперва людей и лишь потом кассу.
– А вы кто такой, собственно?
– Начальник штаба Второй Кубанской пластунской бригады полковник Букретов Николай Адрианович. Еду на фронт принимать должность после отпуска по болезни.
– Что же вы предлагаете? – приободрился комендант.
– Собрать наличные силы и попробовать удержать Бардузский перевал.
– Да нету этих сил…
– Поищем и найдем, главное, не впадать в панику.
Генерал услышал в словах полковника упрек и хотел уже обидеться. Но вспомнил, что тот готов взять на себя самое трудное, и передумал:
– Хорошо, поручаю вам оборону. А я сожгу военные припасы.
Букретов настойчиво возразил:
– Считаю преждевременным лишать армию боевого снаряжения. Турки еще не здесь.
Чувствовалось, что полковник человек твердый и готов воевать до конца.
– Э…
– В первую очередь, ваше превосходительство, следует известить о прорыве противника командующего отрядом генерала Берхмана. И получить от него приказания.
– Да, я сейчас же займусь этим, – охотно согласился комендант. – А вы действуйте, господин полковник. Назначаю вас своим помощником по строевой части, пока что устно. Я на вас надеюсь.
С этими словами Воропанов повернулся и ушел. Оставшиеся повели себя по-разному. Некоторые тоже разбежались кто куда, а некоторые – сплошь военные – окружили полковника. Тот обвел офицеров насмешливым взглядом:
– Слышали? Их превосходительство на нас надеется. А сам сейчас схватит факел и побежит палить склады… Итак, слушайте приказ.
Все подтянулись.
– Доложите, кто вы и какими силами располагаете. Конкретно, сколько людей можете отправить на оборону перевала. Быстро, четко, по-военному.
Букретов поручил ближайшему прапорщику записывать полученные сведения. Скоро перечень наличных сил был составлен. Он оказался куцым. В Сарыкамыше находились:
– два взвода 155-го Кубинского пехотного полка, оставленные для охраны казарм и цейхгауза (90 штыков);
– нестроевая рота 156-го Елисаветпольского полка (216 человек) и его же команда пешей разведки (30 человек);
– две добровольные армянские дружины (420 человек);
– железнодорожный эксплуатационный батальон (1000 человек);
– кадры 1-го Кавказского корпуса, направленные в тыл для формирования частей 2-го Туркестанского корпуса (2370 штыков при 16 пулеметах и 2 мортирных орудиях);
– 150 кубанских казаков;
– артиллерийский взвод 2-й Кубанской батареи (2 орудия).
Всего 3856 воинских чинов и 420 добровольцев. Им предстояло защитить полевой госпиталь (400 человек персонала и 5500 раненых и обмороженных), а также 3000 населения – армян, осетин, греков и русских молокан. И военные склады.
Букретов действовал энергично и заряжал своей уверенностью подчиненных. Узнав, что Лыков-Нефедьев командует разведчиками, он приказал ему послать своих людей на Бардузский перевал и выяснить силы и намерения противника. Следом за разведкой полковник обещал выдвинуть пешую колонну из кадров 1-го корпуса и армянских дружинников. Остальным было велено готовить оборонительные позиции в Верхнем Сарыкамыше (он же Черкес-кей).
Николай откозырял и отправился к своим людям. Полковник ему понравился: такой не побежит, смазав пятки салом, от одного лишь слуха о противнике. Под руководством этого человека поручик готов был служить хоть всю войну. Но сначала надо доказать, чего ты сам стоишь… Поэтому, придя в команду, Лыков-Нефедьев объявил, что двадцать человек немедленно верхами едут с ним к перевалу на поиск противника. Команда только считалась пешей, на самом деле она имела собственных коней. Причем самой лучшей для здешних мест породы – куртинских. Маленькие, невзрачные, в горах они ловко пробовали камни ногой, прежде чем сделать шаг, и никогда не падали.