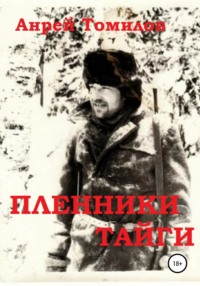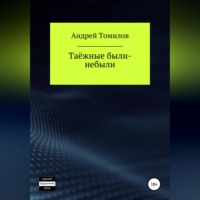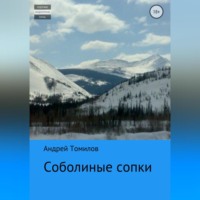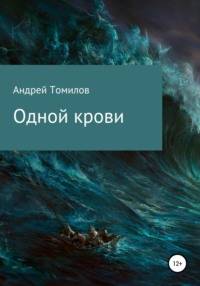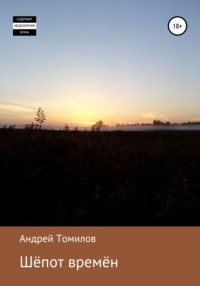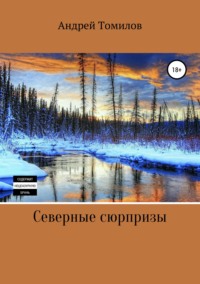Полная версия
Гришкина война

Андрей Томилов
Гришкина война
Гришкина война
На историческую достоверность не претендую.
События, о коих пойдёт речь, случились в самом начале века. Нет, не этого века, а ещё только прошлого. Да, прошлого. Примерно было это в 1908 году, это самое начало истории. Самое начало.
Так вот. В том году в городе Москве случилось страшное наводнение. Москва-река так вспучилась, так раздобрела, что силу набрала неимоверную. Несла в своих водах, дюже грязных и рыжих, целые деревья, кусты, выдранные с корнями, несла и утварь разную, типа столов и стульев, бочек и лоханок, дров целые поленницы, и даже пролётки и кареты целиком. Да и трудно перечислить, что можно было усмотреть в стремительном течении разбушевавшейся реки.
Что уж там говорить о какой-то утвари, уносимой течением, если и по сей день то наводнение считается самым большим, самым сильным за всё время наблюдений. Вода в то время в Москве-реке поднялась на восемь метров выше постоянного летнего уровня. На набережной у Кремля её слой доходил до двух метров и даже выше. Этим наводнением было затоплено шестнадцать квадратных километров территории города.
Толпы народа хлынули к самой кромке, к самой воде, и шумели, двигались в ту и другую стороны, волновались, как и сама вода. Кто-то, выражая восторг, дивясь буйной силищей, просто кричал, широко открывая рот, размахивал при этом руками, словно уже плывёт в этих бурных потоках, беснующихся рядом. Кто-то, замерев на месте и, проникнувшись ужасом от вида такой необузданной мощи, просто скулил, закусив ворот тужурки. Другие же, поддавшись влиянию толпы, шарахались, то вниз, к самому урезу бывшей набережной, теперь уж совсем скрытой под мутными потоками, то тут же поворачивали, словно по команде, и бежали вверх, туда, к мосту, который уж едва сдерживался от сильного, настойчивого течения, едва сдерживался, чтобы не разрушиться и не исчезнуть в этих, всё поглощающих, бешеных потоках. Так и хочется сказать: толпа колобродила.
Какой-то гражданин, с виду приличный, размахивал шляпой, постоянно взъерошивал свои волосы, и выкрикивал осипшим голосом, что мимо, в куче мусора и тряпья, пронесло женщину. Уж вроде и бездвижную, но пронесло же, пронесло. Его мало кто слушал, с большим удивлением, с интересом смотрели на сердитую, напористую воду.
Вот. Что же ещё случилось в этом году? Ах, да. В июне этого года рванул Тунгусский метеорит.
Так рванул, так рванул! Взрыв, по мнению учёных, произошёл на высоте около восьми километров над тайгой. Взрывная волна была такой силы, что обошла земной шар несколько раз. Небо над Атлантикой светилось несколько дней. А потом ещё несколько дней люди тыкали в небо пальцами, указывая на светящиеся облака.
По городам и весям появилось много гадалок и предсказателей, колдунов. Все они, словно сговорились, твердили о близком конце света, о провинности человечества перед Богом, за что и последует неминуемое наказание. Доносились слухи, многократно преувеличенные, о каких-то беспорядках, бунтах в далёких столицах, в неведомых городах. Не один раз прилетали слухи, что близок конец царю, что, будто бы его уже скинули с престола.… Или только собираются скидывать. Но слухи верные, божились, что верные.
Все эти слухи заставляли волноваться людей, сворачивали набекрень мозги простым работным людишкам по городам, и, тем более, простым сельским жителям, мужикам, да бабам.
А ещё…. Ах, да. Ещё в одном Зауральском селе родился крепкий, сбитый ребёнок, который после шлепков бабки повитухи, так и не заплакал, только кряхтел и хотел вырваться из старческих рук. Да. Однако по некоторым данным паренёк тот родился года за три до описанных событий. Ну, да пусть, родился и родился. И, слава Богу. Может он действительно в этот год родился, когда и наводнение, когда и метеорит, а может, правда раньше, теперь уж не упомнить, – давно это было. Давно.
Назвали его Гришкой. Как повитуха сказала, – варнак, однако, родился. Мать Гришкина, была женщиной тихой, хоть и крепкой телом. Ни единожды была бита мужем. Но обиды не держала, считала, что это правильно, что муж должен бить, что не битая баба, это и не баба вовсе. Если муж бьёт, – значит, любит, это и есть житейское счастье.
Была она батрачкой и о другой доле не мечтала, не помышляла даже. С самого малолетства знала, что её дело в этой жизни, это работать на хороших людей, да, когда время придёт, детей рожать. Рожать столько, сколько Бог даст, да муж заставит.
Так и жила. Ни о каких проблемах и не думала, голову не забивала. Если нужно решить какую-то проблему, муж решит. Он голова, он хозяин, он Муж.
Муж, это значит, отец Гришкин, Иван Андреевич, тоже с малых лет был приучен батрачить. А что, работа есть работа. Кем бы ни работать, лишь бы это позволяло обеспечивать себя и тех, за кого ты в ответе. Вот и работал Иван батраком у местного хозяина. Работал и не жаловался. А в последнее время хозяин как-то приблизил к себе, не то, чтобы слабину дал, но лишнюю меру зерна за усердие насыпал. Да и медяков, другой раз, сыпанёт полгорсти. Можно жить. Можно.
Как-то случилось, что Баландин, это у кого половина деревни в работниках была, на кого и батрачили от мала до велика, под вечер велел Ивану пролётку заложить. Тот исполнил. Сели, поехали. В соседней деревне, она Логовушкой прозывалась, у лавки остановил. Хозяин сам сходил, чего-то купил. Снова уселся в пролётку, ухмыляется. Иван заметил, что из сумки горлышко бутылочное торчит, в сургучной шапочке. А сама бутылка толстого стекла, – дорогое вино.
Поехали в другой край деревни, к самому берегу Миасса. Проулок крутой, конь храпит, сдерживая пролётку. Остановились против одного дома. Баландин усы разгладил, говорит:
– Ты, вот что. Езжай на берег, там подожди, сам к тебе приду.
И скрылся в калитке. Иван на берег выкатился, коня за прясло привязал, прогуливается, смотрит, как пацаны с удочками вдоль берега толкаются. Ветку полыни сломил, от комаров отмахивается.
Миасс упруго и напористо катил свои нескончаемые воды, в те годы он был красивой, полноводной рекой, где и рыбы водилось вдоволь, а берега были кормные по-своему. Травостои на заливных лугах очень богаты и обеспечивали сеном всех, кто селился вблизи этой реки. В лесах полно грибов, да ягод разных. С обрывов, в низком поклоне, расчерчивали воду плакучие ивы. Иволги по всей ночи заливаются, уж так заливаются, что и соловьёв глушат. А те ещё пуще стараются, трели разные высвистывают, мир славят. Благословенный мир.
Совсем стемнело, когда хозяин, хорошо пьяненький, появился возле пролётки. Иван помог ему забраться и только спросил:
– Домой?
Хлестанул вожжами, разворачиваясь в темноте, давая волю коню, в правильном выборе дороги. Сплошная темень, кромешная. Теперь тот сам должен найти эту дорогу, в сторону дома. Баландин бурчал, удобнее укладываясь:
– Ты, вот что. Ты рот попусту не открывай, не болтай, куда меня возил.
Так и стал Иван Андреевич возить хозяина в соседнюю деревню, не часто. Иногда видел в том домике, в оконце, миловидное женское лицо. А коль язык умел за зубами держать, то жить стало ещё легче. Попал хозяину в милость.
А Гришка, тем временем, подрастал. Почти с первых дней, после рождения, он был определён под опеку старшей сестры, Нюрки. Нюрка была девица хваткая, боевая, несмотря, что ей всего-то исполнилось шесть годочков.
– Не буду я с ним водиться! Он задавится мокрухой, а вы потом меня убьёте.
Иван Андреевич поднёс к самым губам дочери здоровенный, волосатый кулачище и рявкнул так, что девочка сразу захотела в туалет:
– Будешь! Как миленькая будешь! А ежели что случится с парнем, тогда точно прибью! Прибью!
И всё. Обревелась, конечно же, но это лишь для порядка. Стала Нюрка для Григория и кормилицей и поилицей. И моет, и пелёнки стирает, и соску самодельную одной рукой придерживает, чтобы не удавился малец. Мокруху сама же и варила, когда крупа была, сдабривала молоком, заворачивала в марлю и давала брату, вместо соски. Когда каши не было, жевала хлеб, мелко нажёвывала, сплёвывала в чашку, снова сдабривала молоком и опять в марлю. Главное, чтобы не орал. Если не орёт, если спит, значит сытый и нянька хорошая. Или репы пареной натолкёт, разведёт молочком до вида кашицы, снова в марлю, и соси. Гришка сосал, чавкал во весь рот. Только и смотри, чтобы не затянул весь квач в горло, – подавится.
Вечером приходила с работы мать и совала сыну титьку. Но молоко уже успело перегореть и, тот чмокал впустую. Начинал громко вякать. Мать нервничала, совала ребёнка обратно на руки Нюрке и бежала по хозяйству. Так и вырастила себе брата.
Уже в четыре года она таскала его на Миасс, где плюхалась на отмели. Затаскивала и его, оба смеялись при этом раскатистыми колокольцами.
Сверстницы звали Нюрку в общий хоровод, звали играть в бабки, или в чехарду.
– Дай ты ему маку, да и пойдём играть.
Нюрка поначалу сомневалась, но желание погулять с подружками пересилило, и она действительно стала подкармливать брата. Выбирала более крупные головки, более спелые, трясла из них ещё сыроватые зёрнышки и кормила Григория. Он становился спокойным, каким-то валовым, а потов и вовсе, засыпал. Нюрка укладывала его где-то в сторонке, прикрывала косынкой и убегала к подружкам.
В шесть лет Гришка впервые взял в руки удочку. Чуть в стороне от спуска к реке, в стороне от тропинки, были сколочены деревянные мостки. На эти мостки часто, практически ежедневно приходили деревенские бабы полоскать бельё. Зачастую приносили загаженные пелёнки, которые и стирали здесь, в чистой, проточной воде. Вот на эти детские какашки прикармливались целые полчища мелких рыбёшек, особенно пескарей.
С крутого берега было хорошо видно, как тёмная, плотная стайка рыбы выходит из омута, растекается по отмели и обследует каждый камешек в поисках корма. Прокатившись по отмели, рыбёшки снова сбивались в тугой клубок и торопливо скрывались на быстрине, направляясь в глубину. А из омута уже выходила, вытягивалась новая стая.
Вот здесь, устроившись на самом краешке мостков, и рыбачил Гришка. Налавливал целую кринку жирных, толстых пескарей. И когда те уже начинали переваливаться через край, выпрыгивать и снова плюхаться в воду, прекращал рыбалку, сматывал удочку и бегом тащил домой улов. Нюрка шустро чистила рыбёшек, просто выдавливая большим пальцем кишки, споласкивала их в тазу и кидала на горячую сковородку, чуть сдобренную постным маслом. Вся семья наедалась, нахваливая добытчика. Гришку так и распирало от гордости. Он готов был снова бежать на реку, но наваливалась ночь, и рыбалку приходилось откладывать до утра.
В возрасте семи лет, Григорий был определён учеником в церковно – приходскую школу, куда, первое время, его сопровождала всё та же сестра Нюрка. Она доводила брата до самой двери и, отступив на несколько шагов, ещё долго стояла и прислушивалась к гвалту счастливчиков, собирающихся на урок. Самой ей учиться не довелось пока. Как сказал батя:
– Науки бабу только портят. Она работать должна, а в работе грамота ни к чему.
Вот и работала Нюра, всё на того же Баландина. Сначала по дому помогала, а как в силу вошла, перевели её за скотиной ходить, в основном за свиньями. А что, уже взрослая, двенадцать исполнилось. Она, и правда, была широка в кости, крепка на ногах. Хватала по бадье в каждую руку, когда растаскивала корм. А навоз вывозила большим корытом, загрузив его внутри свинарника и за верёвку вытягивая на «зады», за огороды.
Свиной навоз жидкий, тянуть надо осторожно, чтобы не пролить. Но когда вытягивала корыто через порог, оно обязательно спрыгивало и жижа, гулко хлюпнув, вылетала струёй прямо на Нюрку. Иногда эта свиная жижа попадала на лицо, тогда Нюра ощущала какая она солёная и гадкая. Долго отплёвывалась и бежала мыться к бочке с водой. Но хозяйка не позволяла расплёскивать попусту дождевую воду, ругалась.
Зимой в доме у Васильевых стали собираться деревенские мужики. Не каждый день, но часто. А вернее сказать, не каждую ночь, потому что собирались уже по потёмкам и расходились глубокой ночью. Мать выталкивала на дальнюю половину Нюрку с Гришкой и ворчала:
– Несёт их нелёгкая. Ой, накличут беду, ой накличут.
Мужики курили самосад, редко кто пользовался покупной махоркой, и разговаривали вполголоса. Дым висел в доме сплошной стеной. А ещё добавлялось чаду в это облако дыма от постоянно горевшей лучины. По пучку лучины приносил каждый из приходящих.
Отец Гришкин, Иван Андреевич, был обучен грамоте. Не то, чтобы уж совсем обучен, но читал вполне сносно, хоть и по слогам. Так вот, он садился возле самой лучины, горящей над тазом с водой, разворачивал мятую-перемятую, едва живую газету и начинал складывать буквы в слова. Лучина трещала и иногда брызгала искрами, но на это никто не обращал внимания. Все слушали, вытягивали шеи, озабоченно помахивали головами. Искры и огарки от лучины падали в воду и шипели там, создавая в доме ещё более заговорщицкую атмосферу. Кто-то менял догорающую лучину на новую, вставляя её в держак и комната снова озарялась свежим пламенем, высвечивая озабоченные, бородатые лица, с блестящими глазами.
Стали появляться другие бумаги, не газеты. Мужики называли их листовками. От слов, прочитанных в этих листовках, запирало дух и становилось радостно, но страшно. А к весне с войны пришли двое солдат. Они тоже приходили к Васильевым по ночам. Рассказывали. Много интересного рассказывали.
Один из солдат был без руки, но каким-то образом у него получалось помахивать пустым рукавом. Вот он был очень активен и всё говорил, и говорил о том, что в Питере появился какой-то Ленин. Что он стоит на стороне крестьян и велит всех деревенских богачей вешать на воротах. А богатство их делить между собой. И всё пустым рукавом помахивал, помахивал, словно уже маршировал возле тех самых ворот, на которых повесил всех деревенских богатеев.
– У кого, тогда, робить-то станем, коль всех хозяев повесим?
Солдат резко поворачивался к говорившему, так, что рукав отлетал в сторону и, крепко ругнувшись, возвышал голос:
– Сами! Сами хозяевами станем! Никто будет нам не указ. Не указ!
– Так, это что получается? Их повесим, сами станем…. Придут другие и нас на те же ворота? Коль и мы хозяйствовать станем…
Все замолкали, затягивались самокрутками, старались не смотреть друг на друга. Солдат тоже задумывался, шкрябал пальцами целой руки в бороде, потом, как-то неуверенно выдавал:
– Так, это, мы же не будем богатыми-то. За что нас на эти, на ворота-то? За что?
– А тогда на хрена хозяйствовать, коль не будем? Что-то больно мудрёно объясняешь. То будем, то не будем…
– Ладно. Сперва этих надо повесить. Потом посмотрим.
Однако зима, морозы, да метели, притупили чувства, охладили страсти, и желания остались лишь желаниями. Не превратились в дела. Не пошли мужики вершить свою власть, не стали никого вешать и выселять из деревни, как грозились при тусклой, чадящей лучине. Ограничились тайным чтением запрещённой литературы, да обсуждением дел своих насущных.
А нахлынувшая весна, тем более, заняла всех работами, да заботами. Не до бунтарства мужикам стало, с хозяйством бы поправиться. Пахали, да сеяли, в наймах торопливо за плугом шагали, зарабатывая кто деньги, кто продукты какие-то, кто мануфактуру, чтобы обновить рубахи, да платья, справить новые штаны, или сапоги. Хозяева, хоть и экономные, но на весенних работах не скупились, понимали, что весенний день год кормит. А мужики, да и бабы тоже, пользовались такой сезонной горячей порой, – хорошо зарабатывали.
Постепенно весна добрЕла, расплывалась, словно тесто на хорошей закваске, одевала деревья в молоденькие, чуть липкие листочки, устилала поля ворсистой, мягкой зеленью, притягивающей глаз, раскрашивала небо в более яркие, голубые тона. Солнышко начинало припекать, а набежавшая ниоткуда туча, поливала огороды благодатным, обильным дождём. Все, вдруг, понимали, что уже началось лето. Лето.
Как приятно в самую жару летнего полдня забраться в прохладный дедовский амбар, пропахший овчинами, да шубами, разными травами, связанными в пучки и подвешенными под самый потолок. Стащить с верёвки кусок вяленого мяса, баранины и, развалившись на старом тулупе, грызть это мясо, превратившееся уже в кость от долгого хранения.
Часто Гришку так и находили, спящим в амбаре, с куском сухого мяса в руке. Счастливое, беззаботное детство.
Летом в деревню пришёл ещё один солдат. И руки, и ноги у него были на месте, вот только кожа на руках, как и на лице, была слишком уж заветренная. Даже, правильнее сказать, ошпарена чем-то. И постоянно лопалась на сгибах, выдавливая наружу кровь и какую-то другую, совсем прозрачную жидкость.
Звали солдата Иваном. Жить его определили в церковный заезжий дом, так как родных у него не было. Да он, собственно, и не спрашивал разрешения, сам поселился. Аргументом, позволяющим ему вести себя столь вольно, была винтовка, с которой он не расставался даже в туалете.
Уже на второй, или на третий день Иван собрал всех поселковых активистов и довольно доходчиво объяснил за какой-то час, всё то, над чем мучились мужики всю предыдущую зиму. Объяснил, что такое советская власть, кто такие коммунисты, кто такой Ленин и за что он борется.
Он же, Иван, стал председателем ячейки коммунистов, куда записались пять человек. Двое из которых бывшие солдаты. Записался в коммунисты и Иван Андреевич, Гришкин отец. Мать тихонько плакала по целой ночи, проклиная такое неспокойное время. Плакала и всё приговаривала, едва шевеля губами: да хоть бы деточек-то успеть поднять. Хоть бы успеть.
Видимо она просто чувствовала своим безграмотным умом приближение больших перемен, приближение большой беды.
Откуда-то из-за реки, видимо без дорог, а прямо полями, появлялся всадник на взмыленном коне и, проткнув шальным галопом всю деревню, подлетал к церковному гостевому домику, где его уже встречал Иван. Конь судорожно вздымал бока, пытаясь успокоить дыхание, а всадник, перекинувшись парой слов с Иваном и передав ему пакет со свежими газетами, уже пришпоривал, уже рвал конские губы удилами и летел дальше, летел вдоль Миасса к другим поселениям, к другим деревням.
Не дожидаясь вечера, коммунисты собирались и слушали свежие новости, узнавали, что делается в ближних городах. С каждой газетой, с каждым приездом нарочного, местные активисты становились более уверенными, более смелыми в своих мыслях и поступках, даже, можно сказать, более наглыми.
Однажды вечером в калитку к Баландиным постучали. Хозяин вышел. Перед ним стоял Иван, сжимая одной рукой ствол винтовки. Сзади стояли ещё двое в солдатских гимнастёрках. Один нервно помахивал пустым рукавом. Ещё дальше и чуть в стороне сбились в кучку мужики.
– Чего вам? – хозяин давно уже заметил наглую искру в глазах мужиков, видел, как та искра всё усиливается, всё разгорается, становится ярче и заметнее.
– Есть постановление об изъятии конной повозки с каждого зажиточного двора. Так что завтра утром прошу представить.
Иван и сам нервничал, не каждый день такие требования предъявлять приходится, а если по правде, то вообще впервые. Нервничал. Пристукивал прикладом винтовки по земле, и пыль, крохотным облачком, поднималась от этого пристукивания.
– Боле ничего? Только повозку?! – желваки у Баландина заходили, грудь выгнулась колесом, борода приподнялась и едва заметно вздрагивала. Солдаты, сопровождавшие Ивана, чуть отступили. Иван набычился, стоял твёрдо.
– Боле ничего. Пока.
– А я что-то подумал, может вам туда харчей каких собрать, в повозку-то?
– Издеваешься?!
– Это вы издеваетесь! А ну пошли отсюда! Сейчас оглоблю возьму, я вам покажу конную повозку. Голодранцы!
Он и, правда, куда-то кинулся под навес, продолжая возвышать голос, продолжая ругаться. Мужики попятились и уже были готовы бежать, если Баландин появится с оглоблей в руках. Все знали, что здоровья-то у него хватит, чтобы поиграть этим батогом по их спинам. Солдаты тоже чуть напряглись и посторонились.
Как-то неуверенно и совсем не громко прозвучал выстрел. Оглобля, новенькая, белая от чистовой обработки, резко окрасилась в красный цвет, словно кто-то плеснул на неё краску. Баландин, ещё не выпуская из рук своего оружия, неловко повалился на колени, а затем, уронив голову на грудь, рухнул среди ограды.
Все, кроме Ивана, так и стоящего с винтовкой у плеча, до предела раскрыли глаза и рты. От крыльца взвился и полетел над всей деревней дикий, истошный женский крик. Этот крик был гораздо громче и пронзительней недавно прозвучавшего выстрела. Даже собаки, враз поднявшие гвалт по всей деревне, не смогли заглушить этот бабий вой. Надрывный бабий вой. От макушки старой церкви резко рванула в сторону реки стая чёрных галок, молча, единым, стремительным полётом.
Многие, да, пожалуй, все жители Бродов того поколения так и разделили для себя и для своих детей жизнь именно этим событием. Выстрелом, оборвавшим жизнь одного из самых богатых хозяев Баландина. Жизнь до выстрела, и жизнь после.
– Ты-ы… Ты убил его? Убил…
Мужики ошарашено пялились сквозь открытую калитку на то, как жена Баландина, рвала на себе волосы и выла, выла на всю деревню.
– Он враг! Я врага убил! Врага…. Врага.
Калитка так и осталась распахнутой, а сумерки замерли, словно сама ночь испугалась случившегося и отступила на время, чтобы дать возможность собирающимся людям увидеть в деталях всю случившуюся трагедию.
Солдаты утянулись за Иваном, который тяжело шагал в сторону своей жилухи, сжимая в одной руке винтовку, а мужики смешались с образовавшейся толпой селян. Топтались возле ограды, не смея войти внутрь.
Утром по дороге, поднимая пыль, проскакал нарочный, и активисты снова отправились к Ивану, узнать новости. Были свежие газеты, был короткий рассказ о том, что в Шадринске уже установили народную власть. И что уже в Челябинске и Кургане ведётся борьба за захват власти. Но врагов народной, советской власти ещё очень много и борьба идёт жестокая, кровопролитная и беспощадная. И здесь, в глубинке, люди должны вступать на свой путь борьбы.
– Вот! Вот! А я что вам говорил? Врагов к стенке!
Иван потрясал кулаком, словно грозил кому-то, и повторял раз за разом: «Врагов к стенке!». Кулак, от того, что он его сильно сжимал, да ещё прихлопывал по столу, покрылся мелкими бисеринками крови, а глаза блестели, как при великой радости.
На другой день, после похорон Баландина, солдаты выкинули на улицу его жену и троих детей. Объявили, что теперь здесь, в этом доме будет заседать революционный совет. И приколотили на угол красную тряпицу, как было сказано в газетах.
Деревенские богатеи толпились на другой стороне улицы, курили, о чём-то в полголоса переругивались.
Когда утром бабы выгоняли скотину, на воротах Баландинского дома уже висели все трое солдат. Один, тот, что с пустым рукавом, почему-то висел вниз головой, а грудь у него была проколота штыком от Ивановой винтовки. На этом же штыке висел тетрадный листок. На листке, карандашом, большими, печатными буквами было написано: «ВСЕХ». Дальше, видимо, не вошло. Но и одно – это слово говорило о многом и повергало в страх и даже ужас, особенно, если взглянуть на синюшных, с вывалившимися языками, соседних висельников.
Жуть и оторопь брала баб, бросающих в полдороге свою скотину и молча разбегающихся в разные стороны. Да и коровы-то, что бы понимали, а тоже, приостанавливались, смотрели дикими глазами на повешенных и торопливо переходили на другую сторону улицы.
Кого-то отрядили известить о происшествии властям, но, вернувшись уж к ночи, он сообщил, что везде беспорядки, везде комиссары в кожанках и им наплевать на то, что случилось в Бродах. Велели разбираться самим.
Но уже через день, оказалось, что совсем не наплевать. Приехал какой-то комиссар, судя по кожаной куртке, приехал в лёгкой, двухколёсной пролётке, в сопровождении пятерых вооружённых всадников. У самого комиссара на боку тоже висел наган. Всех собрали возле церкви.
Вот тут и выяснилось, что богатеев деревенских, или как их ещё называли – хозяев, ни одного нет. Ни их самих, ни старших сыновей, ни коней нет.
Кто-то высказал предположение, что они подались в леса:
– Поди, банду организуют…
– Банду…
– Банду.
Слово бранное, недоброе слово прошелестело над толпой и достигло уха приезжего начальника, комиссара.
– Где? Где банда?!
Он и руку уже положил на наган, и плечи расправил, скидывая накипевшую усталость. И народ, шаг назад сделал было, но солдаты каким-то чутьём обнаружили жён сбежавших богатеев и прикладами выдавили их из толпы, вытеснили. Может быть, кто-то подсказал, как они, сами-то их так быстро нашли. Может по одежде, может по осанке, по манере стоять прямо, независимо, даже гордо.
– И где наши муженьки? Что молчите? Где они?! Честных людей повесили на ворота, и бежать в леса, испужались народного гнева?