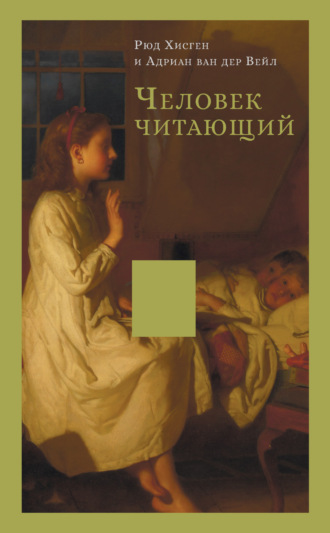
Полная версия
Человек читающий. Значение книги для нашего существования

Рюд Хисген, Адриан ван дер Вейл
Человек читающий. Значение книги для нашего существования
Издательство выражает признательность Нидерландскому литературному фонду за поддержку этой книги
© 2022 by Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel Originally published by Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
© И. М. Михайлова (введение, глава 1–4), перевод, 2025
© Е. Б. Асоян (глава 4–8, эпилог), перевод, 2025
© Клим Гречка, оформление обложки, 2025
© Издательство Ивана Лимбаха, 2025
* * *Я читаю, следовательно я существую.
Вариация на тему Декарта…читать нужно учиться, как нужно учиться видеть и учиться жить[1].
Винсент ван Гог. ПисьмаМы должны действовать, осознавая, что каждый переломный момент (он же поворотный пункт) – это и миг во времени, и точка в пространстве: в этот миг полезно остановиться и оглянуться, но в этом месте нельзя стоять и ждать, что будет.
Рамсей Наср. ОснованияВведение. Ода матросам книжного моря
Никогда не сбиваясь с пути, под защитой книжных обложек, даже когда мир захлопнут, когда не осталось свобод и глаза наши устали от сидения в темной клетке, вы даруете нам яркий свет чтения и морские просторы, вы – матросы книжного моря. <…>
Никогда не сбиваясь с пути, собирая принесенные волнами истории, спеша от страницы к странице, неуемные в поисках, день-деньской вы смотрите на корешки книг и на лица – и все корешки вам знакомы, все тексты и люди любимы.
Марике Лукас Рейневелд, стихотворение было опубликовано в Twitter 29 апреля 2021 в 7:59Перемещаясь туда-сюда между миром бумажных текстов и информацией в интернете, мы вдруг останавливаемся перед книжным шкафом. Слушая музыку, льющуюся к нам в комнату из компьютера, мы задаемся вопросом, почему от всех пластинок, кассет и дисков мы давным-давно избавились, а книги так и стоят у нас на полках. Зачем нам эти тонны бумаги, занимающие столько места, и долго ли мы собираемся их хранить? Если мы завтра же их выкинем и в комнате станет больше места и меньше пыли, заживем ли мы тогда другой жизнью, станем ли другими людьми? Будем ли скучать по нашим старым пыльным друзьям? Если у нас не останется книжного шкафа, то, может быть, что-то сотрется из нашей памяти – или же мы просто-напросто обзаведемся, так сказать, электронным книжным шкафом, еще более вместительным? Приведет ли изменение способа чтения к изменениям в нашем мышлении? Имеет ли значение, по каким буквам скользит наш взгляд: по буквам на бумаге или на экране? Ведь чтение в любом случае остается чтением?
Хотя в наше время мы можем сделать почти все на свете с помощью компьютера, для многих людей, выросших с книгами, расстаться с книжным шкафом – слишком решительный шаг. «Расставание – маленькая смерть», поэтому мы предпочитаем не спешить. Несмотря на достижения в цифровом мире, о важности бумажных книг, книжных магазинов и библиотек для нашего общества можно судить по краткой эйфории, царившей после отмены локдауна из-за коронавируса 28 апреля 2021 года. На следующее утро поэт и прозаик Марике Лукас Рейневелд разместил твит со всевозможными сердечками: «Я написал оду матросам книжного моря, героям книготорговли. Вчера снова открылись книжные магазины!» Стихотворение воспевает процесс чтения как чудо. Голландцы, которые по-прежнему любят читать бумажные книги, хотя все остальное уже давно делают на своих смартфонах, пришли в восторг от такой прекрасной новости.
Ненадолго, совсем ненадолго, смолкли озабоченные голоса, годами твердившие о падении интереса к чтению, утрате навыков чтения и малограмотности среди молодежи, о снижении числа покупателей в книжных магазинах и читателей в библиотеках, а также о плачевной ситуации с обучением чтению в школах. Голландцы ненадолго вспомнили о том, какое это волшебное ощущение – бродить по морскому берегу, «собирая принесенные волнами истории», как сформулировал Рейневелд. Но через несколько недель народ забыл о горестях короны и с излишним простодушием решил, что вернулась нормальная жизнь, так что ощущение магии чтения снова сошло на нет.
Когда-то, примерно 6000 лет назад, наши предки изобрели систему фиксации информации. Началось все с права собственности, договоров купли-продажи и сбора налогов, но очень быстро оказалось, что эта система пригодна также для множества других, куда более изысканных целей. Она разрослась и стала средством сохранения мифов и рассказов об исторических событиях, а также способом кодификации законов. На протяжении тысячелетий этот могущественный инструмент оставался в руках немногих посвященных – владеющей грамотой элиты.
В нашем компьютеризированном обществе умение писать перестало быть чем-то магическим. Грамотность стала всеобщей, оттого бросаются в глаза только те случаи, когда кто-то не умеет читать и писать, оттого что плохо учился в школе и забыл все за ненадобностью или из-за нарушений интеллекта. Да это и неудивительно, что безграмотность бросается в глаза. Ведь умением читать овладевают абсолютно все, причем в таком раннем возрасте, что взрослыми мы уже не задумываемся о том, к какому поразительному явлению мы на самом деле причастны. Мы все читаем и пишем, чем дальше – тем больше.
В наши дни мы читаем преимущественно с экрана нашего постоянного и любимого спутника жизни – смартфона. Мы ищем информацию в «Википедии», следим за новостями или просматриваем твиты мировых лидеров, читаем электронные книги. Да и пишем мы без конца: шлем имейлы, сообщения в WhatsApp, делаем заметки, реагируем на блоги, размещаем комментарии, сочиняем фанфики и тому подобное.
Теперь все без каких-либо ограничений выражают свое мнение обо всем, что приходит на ум. Если поразмыслить над нашей привычкой писать без удержу, то сразу станет ясно, что теперь письмо имеет совсем другое значение, чем шесть тысяч лет назад в Месопотамии. Когда-то записывались только те истории, которые были по-настоящему важны для людей и целых культур. А теперь любой человек сообщает в соцсетях, блогах и по WhatsApp буквально обо всем, что с ним происходит.
Причем сообщает он о своей жизни не только с помощью текста. Наш смартфон предоставляет очень много возможностей. Мы фотографируем, снимаем видео, пользуемся навигатором, распоряжаемся финансами, слушаем музыку и аудиокниги, записываем звуки, ищем расписание общественного транспорта, смотрим погоду и так далее и так далее. С помощью этого девайса мы можем даже звонить, хотя делаем это все реже. В очередной раз выясняется, что сложное технологическое устройство на практике применяется не для тех целей, о которых думали его создатели.
Информация о том, как именно мы использовали смартфон, записывается не только тогда, когда мы этого хотим, но и когда мы об этом не думаем: постоянно, по умолчанию, теми цифровыми системами, которыми мы пользуемся просто в силу того, что владеем смартфоном. И это должно вызывать беспокойство. Так что, собственно говоря, между месопотамской культурой и нашей много общего. Недоступные нашему пониманию цифровые системы, которым мы доверили все наше существование и которые фиксируют каждый сделанный шаг, для нас, непосвященных, столь же таинственны, как и письмо для большинства древних месопотамцев.
Эту непостижимость хорошо иллюстрирует дело вдовы ван Сеггерена. В 2019 году Йессика Б. была осуждена за убийство мужа Тьерда ван Сеггерена, совершенное в 2017 году. Доказательством преступления послужили данные, сохранившиеся в мобильных телефонах супругов. На основании сотен фотографий, поисковых запросов в Google, напоминаний о встречах, записанных в электронном календаре, сообщений в мессенджере Facebook[2], эсэмэсок и сведений о телефонных звонках полиция смогла составить картину произошедшей драмы. К тому же полиция восстановила все перемещения супружеской пары, так что стало точно известно, кто где находился в ту роковую ночь в июле 2017 года. У Йессики не получилось стереть свои электронные следы, так как она понятия не имела, где их искать.
В истории взаимоотношений людей и текстов отчетливо заметны три закономерности. Первая заключается в том, что благодаря появлению все более совершенных технологий мы с каждым годом создаем все больше и больше текстов. А чем больше появляется текстов, тем больше мы читаем. Пять веков назад изобретение печатного станка привело к взрывному росту тиражей книг и к появлению таких СМИ, как газеты и журналы. Почти сразу же послышались жалобы на то, что мозг не в силах вместить столько знаний. В компьютеризированном мире дело обстоит еще хуже. Невообразимый рост общего количества текстов, числа участников мирового текстооборота и скорости коммуникации ни с чем не соизмерим. Мы все стали писателями, и не существует никаких тормозов, чтобы ограничить количество и качество того, что мы делаем достоянием публики. Издателей и редакторов, которые еще недавно служили фильтром, мы отправили в отставку. Мы сами выкладываем все, что хотим, на доступную для всех и каждого витрину интернета.
Все более разностороннее применение компьютеров и смартфонов приводит к неуклонной «текстуализации» нашей повседневной жизни. Наше взаимодействие с окружающими (включая живое общение и телефонные разговоры) чаще и чаще принимает форму обмена текстами. То же самое с распоряжением финансами и покупками. Вместо того чтобы разговаривать с людьми, мы всё делаем с помощью смартфонов.
Вторая закономерность – это неуклонное снижение долговечности тех носителей, на которых мы сохраняем наши тексты. Если шесть тысяч лет назад это были камень и глина, то в Средние века их сменили пергамент и бумага, а теперь и вовсе цифровой экран. Сейчас нас подводит в первую очередь быстрое устаревание операционных систем и систем кодирования, а также софта. Кроме того, та легкость, с которой мы можем менять и стирать тексты в компьютере, ведет к их недолговечности, сколько бы нас ни убеждали, что в цифровом универсуме ничто никогда не потеряется. Не случайно такая платформа, как Snapchat, быстро обрела огромную популярность.
Третья закономерность тесно связана с первыми двумя, а именно: мы все меньше и меньше ожидаем, что текст может долго сохранять актуальность с точки зрения содержания. Соответственно, мы уже не ждем, что написанное нами столь ценно, что сохранится в веках. Всего двести лет назад Виктор Гюго (1802–1885) называл изобретение книгопечатания в середине XIV века величайшим событием в истории, потому что благодаря ему человеческая мысль стала как никогда вечной и нетленной. На протяжении долгого времени считалось само собой разумеющимся, что написанный текст является залогом бессмертия и автора, и его героев, – мысль, способная в наши дни вызвать только улыбку.
Эти три закономерности касаются только текста. Но, в отличие от прежних способов записи, компьютер, как мы уже отмечали, не ограничивается созданием текстов: мы ежедневно сталкиваемся с компьютеризацией всех областей жизни. Тем самым компьютерная революция столь грандиозна по своим масштабам, что мы просто не в состоянии представить себе ее последствия.
Между тем наш мир – мир постепенного заката «Книжного Миропорядка» – нельзя назвать полностью цифровым. Наш сегодняшний менталитет гибриден, ибо состоит из двух способов мышления: один является результатом многовековой традиции бумажных книг, а второй возникает на основе совсем других свойств, присущих цифровой среде. И никто не знает, что делать с этой гибридностью. Не вызывает сомнения, что цифровая часть нашей жизни разрастается так быстро и неудержимо, что становится доминирующей.
Важно ли, на каком носителе мы читаем? Ведь чтение – это всегда чтение? Последние исследования показали, что роль носителя очень велика. Читая текст с экрана, мы воспринимаем его менее серьезно, чем тот же самый текст на бумаге. Это происходит оттого, что цифровой мир заставляет нас и читать, и осмыслять прочитанное совсем по-другому: главное – намного быстрее, но, соответственно, менее вдумчиво. Вдумчивое чтение возникает только в случае более длинных и сложных текстов, которые мы встречаем в книгах.
Не менее актуален и вопрос о том, не утрачивает ли чтение в современном обществе свою важность. Вопрос кажется риторическим, но мы должны его задать. Ни у кого нет сомнений, что уметь читать необходимо. Но насколько важно искусство чтения для нашего общества и почему именно – об этом мы знаем совсем мало. Почти во всех великих культурах бытует миф о божественном происхождении письма, но не мифы определяют наше сегодняшнее отношение к письменности.
Мы живем в культуре всеобщей грамотности, но, как ни удивительно, этого не осознаем. Во всяком случае, мы уже не проявляем к чтению и письму должного почтения. Чтение стало для нас практическим навыком, необходимым условием для функционирования в обществе. Это же само собой разумеется! Мы овладели навыком чтения в детстве и потом на протяжении всей жизни им пользуемся. Когда мы хотим получить новый паспорт или прочитать на упаковке информацию о том или ином продукте питания, когда мы заполняем бюллетень для голосования или налоговую декларацию или хотим заявить о себе в соцсетях, мы не можем обойтись без умения читать и писать. Но мы редко задумываемся об этом, как и о том, что значит искусство чтения. Польза, приносимая грамотностью, простирается намного дальше, чем жизнь каждого из нас. Грамотности мы обязаны почти всеми достижениями нашей культуры. Наша правовая система, демократия, образование, наука – без печатного слова все эти достижения были бы немыслимы. Наше мышление, сознание, наша память в огромной мере находятся под влиянием письменных текстов.
Мы редко об этом задумываемся, но история нашей культуры и мир, в котором мы живем, в огромной мере созданы текстами. Форма и содержание текста, с одной стороны, и знания и мышление, которыми мы владеем благодаря текстам, – с другой, теснейшим образом переплетены. Вся наша культурная эволюция зафиксирована в окутывающей наш мир сети текстов. Тексты – это записанные буквами следы деятельности человеческого сознания.
Между тем грамотность по-прежнему не дается нам даром. От природы человек не умеет читать и писать. Каждый из нас потратил много сил, чтобы этому научиться, да и всю нашу культуру грамотного общества мы строили с огромным трудом. Следовательно, эту культуру – какое бы определение мы ей ни дали – следует поддерживать осознанно и старательно. Если, конечно, мы хотим, чтобы она сохранилась, что не разумеется само собой. Ведь поддерживать ее становится все труднее и труднее по мере того, как ослабевает наш пиетет к грамотности, и по мере того, как в цифровом мире обретает силу «ментальный фастфуд»[3]. Ведь с письменным текстом на экране конкурируют такие «простые для восприятия» формы информации, как изображение и звук. Мало сказать – конкурируют: с целью увеличения доходов большие интернет-компании сознательно используют различные приемы, чтобы «подсадить» пользователей. Такое впечатление, что в ход идет буквально все, что может помешать чтению.
Тот факт, что чтению длинных и сложных текстов в наши дни придается все меньшее значение, внушает писателям, издателям и книготорговцам серьезные опасения. Скорость и масштабность цифровой революции превышают любые мыслимые ожидания. При всем значении чтения в современном мире, который целиком и полностью держится на письменном слове, именно чтение длинных и сложных текстов способно обогатить человека как личность. Установлено, что чтение художественной литературы включает наше воображение и развивает умение сопереживать другим. Эмпатия – способность понимать, что происходит в голове у другого человека, – наиважнейший социальный навык. Кажется парадоксальным, что с помощью чтения развиваются социальные навыки, ведь читаем мы обычно в одиночестве. Мир, созданный писателем, каждый читатель воссоздает и пересоздает в своем воображении. Читая, мы проживаем не только свою жизнь, но и жизни других людей – жизни, которые могли быть нашими, жизни героев, решающих вопросы, с которыми и мы можем столкнуться. Как бы мы поступили в такой же ситуации, столь же высоконравственно, как герой книги, или нет? А мы сумели ли бы вовремя остановиться и не совершить ту ошибку, которую делает он? Читая, мы учимся на образцах и на жизненном опыте других – учимся по-настоящему, хотя герои вымышленные.
Чтение прививает навык сосредоточивать внимание на одном предмете. К тому же, что особенно важно в информационном водовороте интернета, чтение предоставляет возможность на какое-то время укрыться от постоянного призыва цифровых медиа обратить внимание на тысячу вещей. Чтение помогает нам оставаться хозяевами своей жизни.
Первый тезис нашей книги состоит в том, что мы недостаточно осознаем, какую огромную роль играет чтение для нашего умения мыслить, а тем самым и для нашего собственного благополучия и благополучия всего общества. Второй тезис таков: для нашего мышления важно не только умение читать, но и способ чтения. Способ чтения во многом определяется технологическим развитием. Глиняные таблички, свитки, печатные страницы, экраны: каждый новый этап развития технологии вел к изменению в способах чтения и мышления. Цифровые технологии, все более и более доминирующие в нашей жизни, оказывают отрицательное воздействие на качество нашего мышления. Третий тезис заключается в утверждении, что чтение и письмо служат иллюстрацией нашей неспособности держать под контролем последствия технологических процессов и их влияния на общество. Хотя все технические новшества изобретаем мы сами, наша власть над ними, как выясняется, лишь иллюзия. Сила личности оказалась весьма мала. История показывает, что мы едва ли способны влиять на ее ход.
В многотысячелетней культурной эволюции человека вновь настал период, когда технология письма переживает головокружительные изменения. Сегодня главный вопрос: что нас ждет вследствие замены чтения с бумаги чтением с экрана. К каким изменениям в процессе чтения и в нашем мышлении это приведет? В этой книге мы вовсе не собираемся делать мрачные предсказания. Но мы полагаем, что общество взирает на цифровизацию жизни чересчур равнодушно. При этом у большинства жителей планеты происходящие изменения в нашем читательском поведении почти не вызывают озабоченности.
«Новое чтение» окажет большое влияние на наше мышление, нашу идентичность, наше образование и наше общество. Государственные инстанции, те, кто отвечает за образование, школьные учителя и преподаватели вузов – все они должны отдавать себе отчет в возникновении «экранной культуры». Только тогда мы сможем ответить на вызовы будущего.
В книге «Средство коммуникации как массаж»[4] (1967) философ Маршалл Маклюэн (1911–1980) пишет о том, что мы даже представить себе не можем, каковы масштабы происходящей у нас на глазах «электрической» революции, – в первую очередь в связи с распространением телевидения. Чтобы показать опасность этой революции для всего мира, он даже придумал неологизм worldpool – «мировой водоворот» – составленное из слова world «мир» и второй части слова whirlpool «водоворот». В наши дни наблюдается настоящий «мировой водоворот» информации, где место телевидения заняли экраны цифровых устройств. Теперь именно они, являясь вездесущим средством коммуникации, воздействуют на наше мышление. Благодаря своей вездесущности и вытекающей из нее, как ни парадоксально, незаметности это средство массовой информации влияет на наш мозг с небывалой силой. Но, как и в случае любой технической революции, непредвиденные побочные эффекты могут оказаться важнее, чем основной, запланированный эффект. Именно оттого, что они побочные и что мы о них не подумали заранее, мы почти не замечаем их воздействия на нас.
Единственный путь к тому, чтобы научиться хоть как-то держать цифровую революцию под контролем, – это понять ее механизм. Маклюэн пишет:
Благодаря способности посмотреть на свое бедственное положение со стороны моряк из рассказа Эдгара Аллана По «Низвержение в Мальстрём» сумел разобраться в том, как работает водоворот, и ему удалось спастись. Мы можем использовать эту стратегию, чтобы разобраться в нашем бедственном положении, в механизмах действия нашего электронного водоворота[5].
Разобраться в нынешнем бедственном положении и предотвратить беду: ради этого мы написали нашу книгу.
В книге мы много будем говорить о письменности и о самом процессе письма. Если чтение и письмо суть действия зеркальные, то письменность и есть само зеркало. История письменности – это в первую очередь история технологий: история длинного ряда технических усовершенствований и новшеств. От пиктограммы к алфавиту, от глиняных дощечек к компьютерному экрану. А вот история чтения принадлежит к сфере общественного развития. Мы вовсе не хотим сказать, что технологии здесь не играют роли, напротив. Как мы увидим, именно свойства, присущие разным технологиям фиксации текстов, и оказывают воздействие на жизнь общества. Социальные последствия каждой такой технологической смены представляют для нас главный интерес в данном исследовании.
Эти последствия взаимосвязаны с разветвленной и постоянно видоизменяющейся системой институтов и поведенческих привычек, а также с общепринятыми нормами и ценностями, проистекающими из способов письма. Влияние данной системы на роль чтения в повседневной жизни мы решили описать другим способом. Это-то и есть самое трудное в стоящей перед нами задаче. Именно потому, что взаимосвязь между технологией письма и характером данной системы не самоочевидна, мы решили сосредоточить внимание не на истории письменности, а на социальной истории чтения, на том, как чтение меняет человека и человечество.
Когда в античном мире достаточно широкий круг людей научился записывать тексты, началась первая научная революция[6]. Язык, зафиксированный в текстах, сработал как рычаг, разом поднявший наш интеллект. Вскоре после изобретения книгопечатания с помощью свинцовых литер произошла вторая научная революция[7]. Благодаря распространению письменности, а позднее и книгопечатания мы стали очень точно фиксировать собранные нами знания и представления о мире, а также о нашем месте в нем. Накопление и хранение знаний расширяет и укрепляет тот фундамент, на котором следующее поколение может строить здание своей науки. После письменности и книгопечатания настал черед цифровых технологий. Они принесли с собой очередное гигантское разрастание объема сохраняемых знаний. Но есть существенное различие: сегодня мы не можем говорить о фиксации знаний. Во всемирном водовороте противоречащих друг другу фактов и мнений все непрерывно течет и изменяется, здесь не существует никакой иерархии, нам не за что ухватиться. От человека требуется большое интеллектуальное усилие, чтобы не утонуть в этом водовороте из текстов, находящихся в текучем изменяющемся состоянии.
Структура книги
Сегодня множество вопросов, связанных с чтением, вызывают беспокойство. Некоторые мы назовем – малограмотность, дислексия и безграмотность, – но подробно останавливаться на них не будем. Нас интересует в первую очередь не важность различных нарративов и не знание литературы. Но не оттого, что мы считаем эти аспекты малозначительными – наоборот! – а оттого, что мы выбрали другой угол зрения на проблему чтения. Книга посвящена тому, сколь бесконечно важно чтение для нашей культуры и мышления, что меняет в читательских привычках развитие цифровых технологий, каковы последствия этих изменений для мышления и можно ли на эти изменения повлиять.
В девяти разделах книги будут рассмотрены следующие вопросы.
1. Без чтения и грамотности современное общество не могло бы существовать. Чем детальнее мы пытаемся рассмотреть этот сложный феномен, тем неуловимее он оказывается. Чтение сделало нас теми, кто мы есть, каждого из нас в отдельности и все человечество в целом, но что такое чтение и почему мы читаем – это загадка. Потому мы и должны выяснить, чем является чтение для нас.
2. Несмотря на огромную важность чтения для человечества в целом и для отдельной личности, оно остается загадочным явлением. Говорить и слушать ребенок учится легко, но для овладения чтением и письмом необходимо приложить большие усилия. Что же такое чтение и как именно происходит этот процесс?
3. Чтение возникло всего лишь 400 поколений назад, в то время как люди живут на земле уже несколько миллионов лет и около миллиона лет умеют разговаривать. Как возникли чтение и письмо и как они смогли за такое короткое время занять столь важное место в нашей культуре, что с конца XIX века ее по праву можно назвать «книжной культурой»? Без изобретения Гутенберга победоносное шествие печатной книги было бы невозможно.
4. Возникновение книжной культуры естественным образом привело к появлению широкого диапазона способов применения текстов. Но чего мы не осознаем, так это влияния чтения на нас самих. В этом смысле «вдумчивое чтение» можно считать высшей формой общения с текстом, так как оно лучше всего оттачивает наше мышление.

