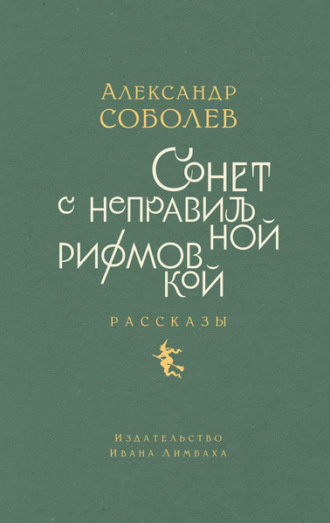
Полная версия
Сонет с неправильной рифмовкой
Родился я в Ельце, знаете такое место? В Липецкой области, старинный город, очень красивый – холмы, река, церкви, вокруг лес. У нас здесь многие писатели жили, есть музеи всякие, вообще, прекрасное место. Воздух! Рыбалка! Охота, если кто любитель. А вот учиться мало где можно. Ну, многие в Москву уезжают или в Питер, кто-то поближе – в Брянск там или в Воронеж. А кто далеко ехать не хочет, выбирает из того, что есть. Сейчас модно в программисты идти, ну а восемь лет назад, когда я поступал, все хотели на железной дороге работать: и зарплата высокая по нашим меркам, и платят ее регулярно, и страну можно посмотреть. А если дослужишься до пятого разряда, то могут и на заграничные рейсы поставить, тогда еще интереснее, правда, английский знать надо. В общем, поступил я после одиннадцатого класса в железнодорожный институт и стал заниматься.
Учился я хорошо – и в школе и особенно после: память у меня отличная, преподаватели мне нравились, да и все-таки кое-какая цель у меня появилась. У нас так все устроено, что от твоего разряда зависит, где ты ездишь – на ночном рейсе из Белгорода в Воронеж или в спальном вагоне из Москвы до Владивостока. И мне, конечно, хотелось получить назначение получше. Дело даже не в заработке – знаете, раньше с проводниками часто передавали разные вещи, но потом нас стали за это гонять, да и не стоит овчинка выделки. Все равно рано или поздно тебе посылку передадут, а в ней окажется волшебный порошок, а зачем мне это надо? Просто хотелось покататься по разным местам. Так ты за свою жизнь ну в Москву съездишь, ну в Сочи, ну в Питер, по соседним областям, особенно если машина есть – а мне хотелось на Байкал посмотреть, Уральские горы… Ну, неважно. В общем, с учебой у меня проблем не было, занимался спортом, жил с родителями, все хорошо. И тут познакомился с одной девушкой.
Вышло это совершенно случайно. Знаете, я потом, когда мы уже вроде как гуляли вместе, ее прямо допрашивал, как и почему она оказалась в эту минуту на этой улице. Тоже забавная история – один шанс на миллиард был, что мы с ней встретимся. Она правнучка какого-то неизвестного поэта, который сто лет назад родился у нас в Ельце. И вот она привезла в подарок в музей его имени какие-то рукописи, которые у них в семье хранились. Сама она в Подмосковье жила, и вот родственники ее отправили как самую свободную отвезти эти бумажки. Ну, она собралась. Я ее спрашиваю: «А ты чувствовала что-нибудь?» «Нет, говорит, ничего. Обещала отвезти – и поехала». Там в музее все разохались, расчувствовались, чаем ее напоили, торт зарезали. Вроде ее тетка с матерью предупреждали, что она бумаги привезет, но музейные эти бабушки все равно не верили, думали обман какой-то или денег, что ли, она с них будет требовать. А какие там деньги… Ну, в общем, выпила она чаю, вышла из музея, до поезда еще часов пять. А тут я такой шагаю в новенькой рубашечке и учебники несу в библиотеку сдавать. И как раз, когда я мимо нее проходил, пакет мой лопнул по шву и книги на асфальт повалились. У них в семье книги – это прямо культ, три комнаты ими забито. И она, конечно, бросилась помогать мне их подбирать. Ну и познакомились. Помогла она мне учебники до библиотеки дотащить, потом я ее по городу водил, просторы наши показывал, всякие голубые дали. Потом на поезд проводил, платочком помахал. Телефонами, конечно, обменялись, стали переписываться в тот же вечер. «Белье, спрашиваю, чистое дали в вагоне? Чай горячий?» «Все прекрасно», – пишет. «Чтоб проводник из Ельца, да и чай холодный подал – да быть такого не может». Ну, я, конечно, рассказал ей, на кого учусь.
И стали мы встречаться – иногда она ко мне приедет, иногда я к ней. Все, конечно, культурно, как в старину – она в гостинице останавливается, я у нее в городе в хостеле живу. Кафе, конфеты, прогулки. Она меня с родственниками познакомила – чудны́е такие тети, отец вроде умер давно, она с тремя женщинами жила – мать, сестра ее и бабушка. Они еще какой-то веры были необычной, в церковь не ходят, но дома молятся, только без икон. Ну, я особо не расспрашивал, а она не распространялась. Сперва они вроде на меня так окрысились – какой-то пацан из провинции хочет у них сокровище их похитить, но потом подобрели. Ну а я чего – не бог весть какой умный, но не злой же, а это самое важное. Не пью, учусь хорошо, подрабатываю. Приезжаю весь из себя культурный: рубашка выглажена, форменные брюки, букетик, коробка конфет, – как будто из фильма про советскую молодежь, только что не комсомолец.
В общем, прокатались мы так друг к дружке полгода, а то и поболе, я ее со своими познакомил – тоже, похоже, понравилась. Ну и решили пожениться: вроде как все к тому шло, не свернешь. Мы однажды с классом в аквапарке были в Липецке. Знаете аквапарк? Бассейн горячей воды, бассейн холодный, ванна с пузырьками… И еще была там такая горка, вроде как раньше были на детских площадках, только те железные, а эта пластмассовая и вода внутри течет. Ты на нее залазишь по лестнице, садишься, раз – и поехал. И вот в момент, как ты покатился – всё, ты себе уже не принадлежишь и никак повлиять на происходящее не можешь, ты как пуля, выпущенная из ствола. Вот так я себя и чувствовал в этот момент – как будто все едет по накатанному, а ты вроде и сам едешь и сам на себя смотришь со стороны, как душа на тело, и повернуть не можешь, да и ни к чему.
Родители мои вместе с ее матушкой как-то сами со всем управились. Знаете, раньше было принято кредиты на свадьбу брать и вообще устраивать какой-то цыганский праздник – ну мы все вместе решили, что не надо нам этого. Сняли кафе в их городишке, мои приехали из Ельца, ее какие-то родственники, которых я первый и последний раз в жизни видел, тихо отпраздновали, как говорится, в узком кругу. Потом мы с ней вдвоем уехали на три недели в Крым, в Коктебель. На поезде, конечно. Потом поехали в Елец.
Ей уже учиться не нужно было, она делала вид, что работала – сидела за компьютером несколько часов в день, что-то рисовала такое. Как мы этот компьютер везли и потом затаскивали на пятый этаж без лифта – целая история была. А я доучивался у себя. Семейная жизнь – это, конечно, особенная вещь: все одногруппники после пар собираются кто куда – в кино или в спортбар хоккей смотреть, а я бегу домой, только по пути еще в «Дикси» заскочу за чем-нибудь. И знаете? Мне нравится. Хоть, может быть, и посмеиваются другие, что я в двадцать лет уже как в сорок, а мне все равно приятно, вроде как они еще мальчишки и не понимают ничего, а я уже взрослый такой мужик, со своей семьей. Только потом все вдруг раз – и переменилось.
Однажды ночью я проснулся случайно – и вижу: она не спит и так, облокотившись на локоть, лежит и на меня смотрит. В комнате светло, у нас фонарь был уличный как раз напротив нашего окна, чуть пониже, она еще любила вечером смотреть, как вокруг него мошки крутятся и бабочки. В общем, я лежу, глазами спросонья хлопаю, а она смотрит на меня, не отрываясь – без улыбки, без усмешки, а так просто, равнодушно, как на этих мошек. И так жутко мне стало в один момент – я вскочил, заорал, кажется, даже бросился в коридор. Потом успокоился, конечно, извинился, что ее напугал. Воды попил, лег спать, а заснуть не могу – все поглядываю на нее, не смотрит ли она. Ну а она отвернулась и спит себе.
И тут все пошло наперекосяк. Стал я, проще говоря, ее бояться. Днем все нормально, живем как раньше, я учиться хожу, она дома сидит за компьютером. А каждую ночь просыпаюсь просто реально в ужасе и больше уснуть не могу. Она, конечно, скоро это заметила – да и как было не заметить, когда муж твой с визгом выскакивает из койки посредине ночи. Стала спрашивать, в чем дело. Мне, конечно, ужасно неловко было, но я ей все рассказал. А как иначе! Она не то чтобы забеспокоилась, но видно, что неприятно ей стало. Тоже, конечно, можно ее понять – молодая девушка, одна в чужом городе, а муж оказался больной на всю голову. Решила она со мной, что называется, серьезно поговорить. Я, как вы, наверное, заметили, не слишком умный парень и не сразу догадался, куда она клонит, а когда услышал, просто расхохотался от облегчения: оказывается, она хотела меня уговорить, чтобы я проконсультировался у психиатра и думала, что я буду отказываться. Да я б сам первый с радостью побежал, если б сообразил! В общем, пошли мы с ней, как она выражалась, к специалисту. Сначала он нас двоих опрашивал, потом ее попросил выйти и говорил со мною одним. Долго, подробно спрашивал! Писался ли в детстве в трусы, видел ли маму голой, что мне снилось прошлой ночью. Потом опять ее позвал. Случай ваш, говорит, серьезный, но излечимый. Прописал таблетки – два раза в день маленькую зеленую, на ночь большую розовую. Не могу сказать, чтоб они не подействовали – первые недели ходил как мешком пришибленный, глаза почему-то слезились и волосы стали выпадать. Одно не изменилось – ровно те же кошмары, причем каждую, каждую ночь.
Попробовал я отдельно спать: квартирка у нас была, что называется, студия, но на кухне такой диванчик стоял. Она предлагала, что сама от меня на диванчик уйдет, но это как-то было неправильно, заболел-то я. В общем, переселился я на кухню. Первую ночь нормально, вторую все хорошо, а на третью просыпаюсь – она в полутьме надо мной стоит и смотрит. Я, честно сказать, чуть не умер от ужаса. Оказалось, что ей послышалось, что я ночью дышать перестал – и она пошла посмотреть, живой ли я там. Ну, понятно. Спасибо, говорю, любимая, что не оставила одного – типа шучу так. На следующую ночь я с вечера, перед тем, как заснуть, подтащил стол к двери и заклинил так, чтоб войти было нельзя. Кое-как продремал до утра, но тоже, конечно, то еще удовольствие. Я в юности в походы несколько раз ходил с клубом туристическим там у нас. Ощущения похожие – лежишь в палатке, а за тоненькой стенкой брезентовой кто-то ходит, дышит, мягко так ступает лапами, принюхивается… Страшно!
Она, похоже, что-то матери рассказала, та приехала вроде как нас навестить. Но я вижу, что она на меня косится, как на буйнопомешанного, но вида, конечно, не подаю. Думал, она жену мою заберет с собой и на этом все закончится, но нет, очевидно, посовещались они и решили еще подождать. А тут и я кое-что придумал от себя лично.
В это время у нас шли гастроли одного гипнотизера, весь город был заклеен афишами. Сильверсван Грамматикати его звали, как сейчас помню. Представления он давал у нас в театре «Бенефис», собственно, у нас только один театр. Ну, для нас это целое событие, все только про гипнотизера говорили, но вроде как и посмеивались – типа у него все подсадные, тех, кого он вызывает на сцену. А творил он действительно странные штуки – не только обычный гипноз, знаете, как по телевизору показывают. Зовет он на сцену девушку из зала, что-то с ней говорит, потом быстро ее погружает в транс и начинает приказывать – встань девица, иди, протяни руку. Потом на руку вешает ей гирю в два пуда. Это сколько? Ну, тридцать килограммов по-нашему. И она, нарядная такая, дорого одетая, прямо видно, что тяжелее сумочки в жизни ничего в руки не брала, стоит как ни в чем не бывало, глаза закрытые, улыбается, а в руках держит эту дуру чугунную, которую не каждый мужик поднимет. Вот как! Люди специально на сцену залезали, чтобы проверить, не из пенопласта ли эта гиря – нет, настоящая! Потом двое рабочих ее тихонечко с руки у нее снимают, и Сильверсван девицу будит: проснитесь типа милое дитя, талифа куми – и поддерживает ее под локоток, чтобы она, проснувшись, сразу не рухнула от удивления.
И еще один был у него номер, тоже, честно говоря, жутковатый. Он просил подняться на сцену пару – не обязательно муж с женой, можно просто парня с девушкой или даже просто друзей или подруг: главное, чтобы они были давно знакомы. И он их сажает в два кресла, ну просто добрый доктор такой, с каждым говорит, улыбается – и оба засыпают. Пока ничего необычного, да? Потом он их оставляет, идет так задумчиво к краю сцены, молча оглядывает зал и начинает читать стихотворение. Народ сидит тихий, как мыши, смотрит то на него, то на тех двух чудиков, которые дремлют в креслах. И вдруг на какой-то строке – он ее произносит по-особому, с надрывом – один из этих двух усыпленных вдруг как бы просыпается и кидается душить другого! А тот все спит. Тут Сильверсван резко поворачивается, выкрикивает какое-то заклинание – и все просыпаются. Один или одна трясет головой, не может сообразить, что с ней такое было, другой шею ощупывает, а Сильверсван объясняет, какие кровожадные инстинкты таятся в каждом из нас, и выходит так, что внутри человека сидит дикий зверь, который только и ждет минуты, чтобы вырваться на волю.
Вот, короче, я к Сильверсвану и пошел. Не то чтобы я считал, что жену мою загипнотизировали, я вроде как понимал, что дело все во мне, но все-таки думал, а вдруг он мне поможет. Или на меня руки наложит и пошепчет чего-то, а может, с ней захочет пообщаться. Но оказалось, что все не так просто. Кое-как я в номер к нему пробрался, там, конечно, всё в люксе, не знаю даже, откуда наша гостиница бывшая «Советская» набрала таких ковров и кресел – небось на складе лежали с момента, когда Путин приезжал. Короче, всё, как полагается – свечи горят, палочки какие-то ароматические, в общем, как у нас говорят, берет работу на дом человек. Оказался нормальный дядька на самом деле, выслушал меня, поцокал языком, коньяку предложил. Ну и, в общем, высказался в том духе, что помочь он мне не может. То есть прямо он не говорил, но я так понял, что фуфло весь этот его гипноз, вроде как на кого-то действует, на кого-то не действует, а когда он выбирает тех, кто к нему сам лезет на сцену, он наметанным глазом сразу понимает, поддастся ли человек его внушению или нет. Про меня он сказал, что я не гипнабельный – ну, спасибо большое! Короче, не вышло у меня с господином Сильверсваном Грамматикати и пошел я к себе домой.
Не очень долго это все продолжалось, буквально несколько недель – и нервы мои сдали окончательно. То есть выходил какой-то тупик: видите ли, совершенно негоже, чтобы муж в ужасе запирался от своей жены на кухне да еще дверь подпирал столом, правильно? Наверное, можно было попробовать пожить по отдельности, вроде как она намекала на такое, но умом-то я понимал, что это навсегда. Опять ее мамаша приехала: какие говорит, у вас, Виктор, темные круги под глазами. Ну а что я на это скажу? Боюсь вашу дочу так, что спать не могу? Стали они готовиться к отъезду, причем от меня это как бы скрывают: захожу в залу, так бросают разговор и на меня смотрят, одна виновато, а другая с вызовом. Тоска, короче, смертная. Квартира у нас была в аренде, позвонили мы хозяйке, сказали, что досрочно хотим ее вернуть. И вот тут-то меня и накрыло по-настоящему: почему-то этих вещей, этой мебели, простых казенных стульев мне было особенно, совершенно нестерпимо жаль, то есть я чувствовал не то, что ее больше не увижу, а что никогда больше, ни при каких обстоятельствах я не увижу этот стул с гнутыми ножками, который небось с квартиры на квартиру тридцать лет кочевал, и вот эту половицу, которая скрипит, когда на нее станешь… Странное существо человек.
Сходили мы развод оформили – детей у нас, слава богу, не было, имущества не нажили, так что развели нас легко и просто, только подождать пришлось. И – верите ли – какое же облегчение я испытал, как меня это давило последние недели. То есть умом я понимал совершенно точно, что она тут ни при чем, что все это у меня в голове, но вот этот ужас, если его испытал, уже ни с чем не спутаешь: он просто скручивает тебе все кишки, давит так, что ты не то чтобы сопротивляться, а просто не можешь оценить происходящее… Ну, в общем, на этом все и кончилось. Пару раз мы еще в вотсапе переписывались – «как ты» и «что у тебя». Потом перестали. Закончил я институт, работаю уже четыре года. И вот сегодня – как чувствовал. Она. Не понял я – правда она меня не узнала или сделала вид, что не узнала. В паспорте имя ее, фамилия другая, может, замуж вышла? Но чего тогда одна едет? В общем, прошла она в женское купе, а я стою как обухом ударенный и мошки перед глазами кружатся. Хорошо, что она последней вошла, иначе не знаю, что бы со мной было. Кое-как я машинально дождался отправления, закрыл все и чувствую – не могу туда идти, в тот конец вагона. Нет сил. Боюсь. Вот сейчас вам рассказал – вроде полегче стало, но все равно. Не знаю, что делать.
Он обвел нас загнанным взглядом.
– Что, проводить вас? – спросил расстрига сочувственно, но где-то на дне сочувствия плескалось и что-то вроде насмешки – очень легкой, почти невесомой.
– Да нет, – дернулся проводник. – Сам попробую. Спасибо, что выслушали.
Он отодвинул дверь, опасливо выглянул в коридор и, очевидно, никого там не обнаружив, вышел, повернув в сторону служебного купе. За окном проносился все тот же печальный лиственный лес; поезд несся на скорости так, что деревья сливались в одну пеструю пелену, но, если ухитриться и быстро провести взглядом слева направо, в глазах останавливалась мгновенная картина на манер смазанной фотографии: стволы берез, оливковая прошва, замерший подлесок. Поезд содрогнулся и стал резко замедляться.
– Этот ненормальный дернул все-таки стоп-кран, – проговорил флибустьер. – Смотрите-ка, сейчас выскочит и побежит. Узнали вы его, Сергей Сергеевич?
– А то. Я его еще на перроне заметил. Постарел, конечно, но на вид все тот же Витька. А ты, Юр, помнишь его? – спросил расстрига у юнца, вновь свесившегося с полки.
– Конечно, дядь Сереж. Еще бы. Такую морду как забудешь.
– Юрка у нас жуть какой наблюдательный, – осклабился флибустьер.
– Как учили, Иосиф Карлович.
Все трое расхохотались.
И только я, всех их придумавший, продолжал сидеть в молчаливом оцепенении. Мне было очень жалко проводника, но сделать я уже ничего не мог.
У Оловянной реки
Если бы Грике сказали, что он философ, он бы удивился и не поверил, решив, что его разыгрывают, настолько его обыденное настоящее не вязалось с этим понятием. Между тем он, несомненно, не только был философом, но и посвящал философии большую часть своих досугов, из которых к старости стала состоять почти вся его жизнь. Более того, по сравнению с обычным выпускником философского факультета, профессия которого была записана в синем дипломе с выдавленным на верхней крышке конгревным гербом, Грика обладал несомненными преимуществами. Все те умственные блюда, которые подавались студенту в приготовленном и разогретом виде, ему приходилось опытным путем созидать себе самостоятельно. Как эмбрион в чреве матери за девять месяцев проходит всю эволюцию, на которую человечеству понадобились миллионы лет, так и подвижный ум Грики, осваивая расстилавшуюся кругом чащобу безымянных явлений, как некий ментальный умозрительный колобок, следовал тропинками Гераклита, извивами Анаксимандра, столбовой дорогой Платона и с облегчением выкатывался на площадь Боэция – и все это без всякого знакомства с трудами предшественников. Избежав пятилетнего университетского курса, где его научили бы головным уверткам, надменной праздности и вдобавок, может быть, заразили бы той особенной умственной гонореей, нежной готовностью к предательству, которая зачастую поражает у нас лиц определенного звания, он сохранил свой мыслительный аппарат в его первобытной чистоте и силе – в полном, признаться, контрасте со своим человеческим обликом.
Ибо Грика был внешне нехорош. Как всякий деревенский житель, он считал покупку новой одежды или обуви немыслимым расточительством, ходил в теплое время года в ботинках без шнурков, а зимой в валенках с калошами, стриг себя сам перед осколком зеркала, казалось, вынутым из чьего-то недоброго сердца, облачался зимой и летом в один и тот же ветхий пиджак, который как будто и был уже пошит в виде ветоши – настолько невозможно было представить, что он когда-то был новым. Имелась у него в гардеробе и старая, неизвестно к какому роду войск относящаяся шинель, много лет назад приблудившаяся к дому забытым образом, некогда роскошная соломенная шляпа для жарких дней, засаленные брезентовые штаны с дырами и еще кое-какие предметы одежды, о которых упоминать и совестно и излишне. Но при этом, как ни странно, ни он сам, ни его жилище не производили впечатления обиталища человека опустившегося: так, может быть, выглядела хижина Генри Торо, но не логово клошара. Тот, кто зашел бы внутрь в часы, когда хозяин почивал на топчане, прикрывшись старым вылинявшим одеялом, почувствовал бы в воздухе горький запах старых трав, легкую нотку дыма, слабый аромат сыромятины от висевшего в углу тулупа – но ничего отталкивающего.
Если бы не школьное знакомство с гелиоцентрической системой мироустройства, он мог бы счесть, что вселенная вращается вокруг него: так мало за семьдесят лет переменился он сам и так сильно трансформировался мир вокруг. Он вступал в сознательную жизнь под барабанный бой, симфонические завывания и надсадное рычание моторов: пели пионерские горны, громыхало радио; темно-зеленые машины, волочившие из леса тридцатиметровые бревна, извергали клубы дыма; мир был тверд и расчерчен. В деревне имелись два магазина, одна железнодорожная станция и полтысячи жителей. Земля была песок; огороды не родили, но кормил лес, расстилавшийся на десятки километров окрест – в лесу были ягоды, грибы, водилось зверье; в озерах и реке, прозванной за цвет воды Оловянной, ловилась рыба; взрослые работали на лесопилке или при ней.
Новости в империях склонны запаздывать: говорят, камчадалы служили молебны за здравие Екатерины Великой до 1800 года, покуда горестная весть, не видя нужды в спешке, плелась нога за ногу через всю страну. Здесь дело пошло быстрее, но тоже с оттяжкой – что-то содрогнулось, где-то прошла трещина, – и реальность вокруг явила вдруг свою выдуманную природу. Мир линял клочками, осыпался, как ветхая клеенка на столе: несколько месяцев на лесопилку не привозили зарплату, один из магазинов закрылся, электрички стали опаздывать; на болотах поселился диковинный зверь – вроде кабана, но без шерсти, белый и с одним огромным рогом на морде, вреда людям он не причинял, но поодиночке в лес ходить перестали. На лесопилку приезжали хмурые неизвестные граждане в кожаных пиджаках (первобытная эта мода небезосновательно намекала на воцаряющуюся простоту нравов, что далее и подтвердилось). В телевизоре сделалось неуютно: немолодые, неприятно страстные люди самозабвенно кричали друг на друга в большом зале с плюшевыми на вид сиденьями. Еда начала бурно дорожать, денежные же ручейки, напротив, почти пересохли. Наконец, что-то щелкнуло, ляскнуло и километрах в трех от деревни пролегла новая государственная граница.
Это неожиданно дало в руки пейзанам новое занятие: у бывших соседей теперь были разные деньги и разные цены на предметы; с возникшей разницы экономических потенциалов можно было очень скромно, но все же прокормиться. Каждое утро небольшие стайки граждан обеих стран ехали во встречном направлении: заграничные паспорта для пересечения границы еще не требовались, а за электричку платить уже сделалось зазорным (и редкие контролеры скорее удивлялись, когда кто-то из пришлых пассажиров предъявлял вдруг клочок бумаги в зеленую или розовую сеточку). Отчего-то одной из самых ходовых валют сделался майо-нез; вот удивительный, немыслимый выверт, волшебный протуберанец кулинарной истории – как изысканный французский соус оказался спустя три века после изобретения основным блюдом славянской голытьбы. Но так было (а кое-где и есть) – на завтрак съедался ломоть черного хлеба, щедро сдобренный майонезом, а на обед после трудового дня – большая порция самых простых и дешевых макарон, тем же майонезом заправленная. Но особенным его волшебным свойством была задержавшаяся на некоторое время фиксированная цена, позволявшая составлять невинные негоции на манер голландских тюльпановых: в соседней стране покупался ящик провансаля и со скромнейшей прибылью (иногда заключающейся в паре банок самого продукта) продавался на стихийно возникшем рыночке у станции.
Грика, впрочем, по вечной своей мешкотности участия в этих операциях почти не принимал, да и созерцательный его характер был чужд всякого прагматизма: думаю, что, даже если ему и удалось бы приобрести партию заветного товара, он бы потом либо забыл ее в поезде либо раздал бы нищим, а может, и скормил бы какой-нибудь бездомной собаке, умиленно наблюдая за тем, как розовый язык блаженно протискивается в банку, которую, между прочим, до сих пор по старой памяти языка (другого) зовут майонезной. Кормился же он, в общем-то, непонятно чем – ему полагалась какая-то грошовая пенсия (склонная, конечно, безбожно запаздывать, усыхая), порой совали ему копеечку сердобольные соседки (Грика жил бобылем), а чаще, особенно в теплое время года, выручала его рыбная ловля, которой он был большой любитель и знаток.
Вот и сейчас, выйдя из своего домика и прикрыв за собой дверь (замка на ней давно не было, да и вряд ли кто-нибудь польстился бы на его скромное имущество), он занялся приготовлениями к рыбалке. У самого Грики скотины никогда не водилось, если не считать приблудного кота, который также будучи своего рода философом, неделями пропадал в лесу, подворовывал в чужих домах, охотился на цыплят, за что неоднократно бывал бит смертным боем, но ближе к холодам непременно возвращался в избу на зимовку. Один из соседей держал свиней, безмятежно наливавшихся жиром к Рождеству и старавшихся не рассуждать между собой о будущем, так что на выходящем к Грикиной избе поросшем крапивой пустырике не переводились запасы перепревшего навоза, в котором можно было накопать юрких, венозного вида червей. Взяв стоявшие у сарая вилы, напоминавшие скипетр какого-то пресноводного Посейдона, Грика вспомнил (как вспоминал ежеутренне), что накануне собирался поправить расшатавшийся гвоздь, чтобы укрепить черенок, но без всякого угрызения совести отложил это, как легко отодвигал и другие хозяйственные заботы. Одного движения вил хватило, чтобы извлечь из убежища десяток червяков, которые были сложены в высокую консервную банку из-под венгерского горошка. Этикетка на ней давно истлела, но Грика помнил, что он отчего-то назывался «мозговой», хотя не напоминал видом содержимое черепной коробки и вряд ли способствовал умственной деятельности. Слово это так и повисло невысказанным: к червякам добавился для свежести пук смятой крапивы (задубелые руки сельского жителя слабо восприимчивы к ее стрекалам), а сам Грика, прихватив прислоненную к стене сарая удочку с примитивной снастью, отправился к озеру.



