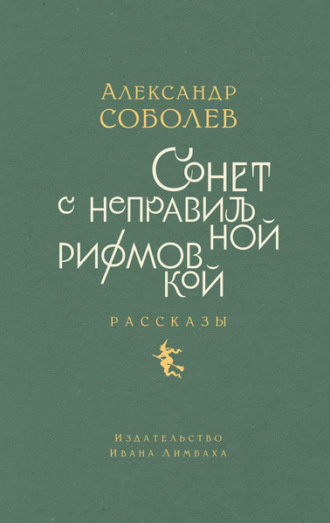
Полная версия
Сонет с неправильной рифмовкой
Ассистировать там на самом деле нечего, он даже не укол делает, как в Америке, а просто какую-то дрянь разбалтывает в стаканчике и дает пациенту выпить. Но все равно почему-то нужно как минимум втроем – может быть, потому, что двое могут теоретически сговориться между собой, ну а трое уж никак. И вот нашего лысого Ууно приглашают работать этим самым фельдшером. Делать, по сути, ничего не надо: сначала он стоит со скорбным лицом, пока доктор уговаривает суицидника отказаться от своих намерений (это формальность, никто не отказывается, но соблюдать правила надо), потом смотрит, как тот, значит, пьет свой последний дринк, потом нужно еще час высидеть, пока подействует – и, значит, вдвоем с тем, который видеокамеру держал, готовое уже тело выносить в фургончик.
Не сказать, чтобы ему эта работа прямо сильно понравилась. С одной стороны, все лучше, чем горшки таскать и кастрюли на кухне ворочать. С другой – сколько в этом участия не принимай и сколько не повторяй, что человек сам добровольно решился, но все равно – вот этот самый мо-мент, когда душа отлетает, он какой-то такой, Ууно говорит, ну что-то такое происходит, как будто железом скребут по стеклу, а ты это чувствуешь, но не слышишь, как-то так. Да и, главное, ушло чувство правильности дела, которым ты занимаешься. То есть доктор (а они все время с одним ездили) обычно на обратном пути философствует – типа вроде они освобождают человека от страданий. «Последнее милосердие», – так он это называл. Но ему-то хорошо, говорит Ууно, он с пяти тысяч франков себе забирает три, еще штуку – конторе, которая клиентов ищет, ну и им с фотографом по пятьсот. И едут они, в общем, в этом фургоне, сзади покойник в черном пакете, а они рассуждают про то, как они ему облегчение доставили. Перестанешь улыбаться, да?
Но и увольняться сразу ему тоже не хотелось. Он, вообще, как я понял, больше старался всегда плыть по течению и смотреть, куда вынесет. Пока не произошел вот этот самый случай. Вызвали их на этот день к молодой девушке, местной. Она из какой-то очень богатой семьи… ну это Швейцария, значит или часы, или банки, или шоколад. Почему-то кажется, что таким особенно тяжело помирать, гораздо тяжелее, чем нам. У нас-то все имущество в одном рюкзаке поместится, скинул, разогнул плечи и пошел себе на небо. А им до того, наверное, жалко все оставлять, что у них было на земле! Ну, короче, девушка эта – она болела такой страшной штукой, называется рассеянный склероз. Начинается с какой-то ерунды, например, по утрам одна рука плохо слушается. Потом другая. Потом зрение немного ухудшается. И это все медленно, медленно ползет по организму, проснулся – и сегодня чуть хуже, чем вчера. Ненамного, самую капельку, так что даже можно подумать, что ничего не изменилось или даже что слегка полегчало, а на самом деле нет – хоть и есть какие-то лекарства, они только замедлить течение болезни могут, а не вылечить. Дальше возможны варианты – иногда она может в полгода человека прихлопнуть, а иногда на десятилетия растянется, только он, ну чаще она, почему-то женщины чаще болеют, остается полностью парализованной, хотя и в сознании.
Опять-таки, для нас это по-настоящему страшно – кто за нами будет ухаживать? Окажешься в хосписе, двадцать человек в палате, половина без сознания и медсестра с Филиппин, которая двух слов по-фински не знает, дважды в день тебе поменяет памперс обоссанный. Но ей-то, в смысле швейцарке этой, ничего такого, ясное дело, не грозило: уж ее-то никто в больничку бы не сдал. Так и жила бы в своей комнате в особняке в окружении прислуги. А вот как бывает – не хотелось ей жить в таком состоянии, то ли чтобы не горевать, что так не повезло, а может быть, из гордости не хотелось обузой становиться. Не знаю, выдумывать не стану. И вот, короче, вызывает она эту смертную команду, доктора, нашего лысого и фотографа.
Для Швейцарии такого диагноза вполне достаточно: смертельная болезнь, ухудшающая каче-ство жизни, без шансов на выздоровление – всё тип-топ, у государства никаких возражений. Приезжают они на место. Дом гигантский, провожает их горничная, которая чуть ли не бахилы им дает на ботинки, чтобы паркет не попортили, как будто они в гости пришли или унитаз им чинить. Родители этой бедняжки прячутся где-то внутри – вроде как она с ними попрощалась и попросила не присутствовать. Приходят в комнату. Ну комната там такая, что обычный наш дом целиком туда поместится. Причем оба этажа. Большая кровать, на ней лежит эта девица, вся в белом. Кругом буквально горы цветов, корзины, букеты в вазах – хоро-шо, сообразили пока венков не присылать. Поставлены кресла кругом – опять же, полное ощущение, что пришли со светским визитом.
Доктор, как положено, пытается ее отгово-рить, причем не тараторит, как обычно, по бумажке, а вроде всю душу вкладывает – «ну зачем же, такая молодая, может быть, лекарство придумают, вот я читал, что в Японии уже клинические испытания проводят». Она слушает его и так улыбается насмешливо, вроде как «меня не проведешь, давай рассказывай». Ну кончил доктор. Она мягко, чуть ли не со смешком говорит, что она восхищена его красноречием, но остается при своем мнении, так что просит поскорее приготовить ей его фирменный коктейль. Представляете, еще и шутит! Ну доктор и так на нервах из-за обстановки, плюс какой-то еще шорох слышится за закрытой дверью… Казалось бы, ну какая разница, в богатом ты или в бедном доме делаешь свое дело. А ведь разница есть! В общем, достал он свой волшебный пузырек, бутылочку с водой, стаканчик – все с собой возил. Тут девица эта неожиданно заартачилась: хотела она яд этот выпить не из плебейского пластикового стаканчика, а из своего хрустального бокала. Ну пожалуйста, не убудет же. Короче, доктор готовит этот свой смертельный напиток, переливает в бокал, передает ей, чуть не с поклоном, она смотрит на них, улыбается и выпивает. Придерживает его двумя руками, одной, бедная, не может удержать, хоть там и весу-то всего двести граммов.
По-хорошему, она должна сразу откинуться на подушку и тихо заснуть, а через пять минут перестать дышать. Тогда доктор послушает ее стетоскопом, зафиксирует, что сердце перестало биться, а мужики пойдут за носилками. А что делает эта девица? Она не делает ничего. С ней ничего не происходит! Она полулежит в кровати и смотрит поверх голов доктора и фельдшера, ничего не говорит, не делает и молчит. Слышно только, как в видеокамере медленно крутится пленка и как чирикают птички за окном. Представляете себе ситуацию? Проходит пять минут, десять. Девица, которой заранее объяснили процедуру, спрашивает у доктора, типа что за дела. На доктора, говорит Ууно, страшно смотреть – такое впечатление, что он сейчас сам вместо девицы отправится к праотцам. Он, с трясущимися губами, говорит, что может быть от нервности момента напутал с рецептурой, разводя порошок. Девица требует сделать еще порцию. Нормально, да? Как будто она сидит в баре в «Гранд-отеле» и мохито пьет. Доктор, делать нечего, растворяет еще порошок, хорошо, у него с собой была вся коробка. Смотрит украдкой на пакетик, не просрочено ли, но, вероятно, не просрочено. И то слава богу, что не стал сам пробовать на палец, а то вышла бы комедия – пришлось бы на носилках его выносить, а не клиентку. Короче, выпивает она еще один бокал, в котором столько яда, что хватило бы на взвод солдат. Знаете, из швейцарцев набирают гвардию для охраны папы римского? Здоровые такие мужики в меховых шапках, я по телевизору видел. Вот их бы всех и можно было б положить одной дозой, которую ей доктор скормил.
Подождали еще пять минут. Что-то, говорит, голова болит, и висок так трет ручкой. Те, конечно, насторожились. Нет, прошло. Ууно говорит, что они потом втроем уже обсуждали этот случай и каждый признался, что ему хотелось в этот момент кинуться и прямо руками ее задушить. Но это понятно, что не вышло бы. Ведьма же! Ничем ее не возьмешь. Собрали они как оплеванные все свои инструменты, бокал этот зачем-то взяли, остановили запись в видеокамере. Она еще нагло так спрашивает, когда они деньги вернут, представляете? И смеется. Ну точно ведьма. В коридоре, оказывается, толпа народа собралась, но увидели, что она жива, и к ней бросились. Ну а смертельная команда, поджав хвост, села в машину и уехала. Вот как бывает!
Помолчали. Тут Эйно говорит:
– Да… Дела. У меня тоже случай был похожий. Был я на рыбалке, вернулся с полным садком. Через час, смотрю – рыба вся уснула, а один окунь живехонек, хвостом бьет, выбраться пытается. Тут меня жена позвала, что-то там срочно надо было, я сунул садок в холодильник и забыл про него. На другой день только вспомнил, открываю, достаю, чтоб выпотрошить – а окунек до сих пор живой и кажется еще бодрее, как будто я его только что из воды вытащил! Ну мне интересно стало, я всю прочую рыбу почистил, а его опять в холодильник. Через сутки достаю – живой!
– И чего ты с ним сделал?
– Кошке отдал. Страшно стало.
В горячей духоте вагона
Современный горожанин не так-то часто оказывается заперт в тесном помещении наедине с незнакомыми людьми – ну, допустим, в армии, в больнице или в тюрьме. Но в армии служат не все; многие за всю жизнь ни разу не болеют чем-нибудь серьезным, да и в заключении не каждому удается побывать. Так что остается, в общем, только поезд, причем купейный вагон – ибо плацкартный, благодаря отсутствию перегородок (что-то в этом есть экуменическое), вызывает в душе совсем другой набор первобытных переживаний. Перед купейным же, особенно если впереди долгий путь, поневоле приходится гадать, словно крестьянке накануне смотрин: смилостивится ли судьба и не пошлет ли в соседи кого-нибудь совсем уж невозможного (полагаю, что, хоть списки нежеланных лиц у каждого свои, круг типажей в них схож до степени смешения). При этом, в отличие от предпочтений крестьянки, венчает список приятных ожиданий блистательное зеро – то есть в любом случае отсутствие соседа лучше, нежели самый лучший, благовоспитанный, благоухающий и жовиальный попутчик – если, конечно, из-за ночных кошмаров вы не боитесь оставаться в одиночестве.
В купе нас было четверо, увы – ни один не воспользовался возможностью отменить поездку в последнюю секунду или просто опоздать на поезд. Первым, еще до меня, пришел молодой щуплый парень, очень коротко стриженый (век назад такая прическа наводила бы на мысль о тифе, а сейчас скорее о химиотерапии), с неприятным испитым лицом, держащийся как-то преувеличенно настороженно, словно дикий зверь, прислушивающийся к звукам погони. Когда я пришел, он уже лежал на верхней полке, прямо в одежде забравшись под одеяло и, по современному обычаю, погрузившись в созерцание глубин собственного телефона. Мне иногда делается интересно, что предпримет нынешний молодой человек, если у него вдруг телефон на некоторое время отобрать. Конечно, это жестоко – вроде как утащить у монаха бревиарий и четки или сдуть шаловливым бореем кипу с хасидской незагоревшей макушки – но все же? Заплачет и свернется клубком? Выхватит такой же у первого встречного? Уж точно не попробует построить такой же на манер Робинзона: в какой-то момент мы (цивилизация) перескочили барьер, за которым даже самый смышленый инженер не может соорудить любой понадобившийся предмет из подручных материалов. Увидав меня, он оторвался от экрана и сухо кивнул, что показалось мне добрым знаком – не вовсе невежа, но и не станет лезть с разговорами. Его донельзя истертые, некогда белые кроссовки аккуратно стояли под нижней полкой.
Не успел я повесить плащ и достать газету, как одновременно ввалились еще двое пассажиров: кажется, они не были знакомы между собой, а просто случайно столкнулись в дверях. Первым шел крупный мосластый тонкогубый господин лет шестидесяти в золотых очках; видимо, в спешке собираясь с утра, он порезался, когда брился, и теперь эта подсохшая, но заметная царапина придавала ему нечто разбойничье, словно еще в ночи он отмахивался алебардой от королевских стражников и, ранив одного-двух, смог вывернуться из рук третьего, вскочить в седло и ускакать под бессильные крики преследователей, на ходу скорбя о товарищах, оставшихся в их безжалостных лапах. Флибустьерскому облику, впрочем, мешал совершенно штатский коричневый кожаный портфель с золотистыми заклепками, который он держал в руках. На секунду замерев в дверях, он заслонил дорогу следующему за ним, так что тому пришлось препотешно выглядывать из-за разбойничьего плеча, просунув свою носатую жидковолосую голову с мощным кадыком, поросшим рыжей клочковатой шерстью. Флибустьер, почувствовав тычок, прошел внутрь, громогласно поздоровавшись; юнец с верхней полки кивнул ему так же безразлично, как и мне; я, напротив, следуя канонам учтивости, встал, приветствуя новоприбывших, но при этом больно треснулся головой о верхнюю полку, смазав таким образом впечатление от своих безукоризненных манер. Расстрига, просочившись следом, рассыпался в выражениях сочувствия и даже предложил мне свинцовую примочку, словно у него имелся с собой целый медицинский склад. Не исключено, впрочем, что так оно и было – у него единственного оказался немаленький багаж: крупный, видавший виды черный чемодан, перетянутый ремнем из сыромятной кожи, и еще в дополнение к нему пузатенький рюкзак, висевший за плечами. После небольшой суеты с заталкиванием чемодана в предназначенную для него нишу мы с расстригой уселись на одну из нижних полок, причем мне как старожилу, да еще пострадавшему, досталось место у окна; флибустьер сел наискоски, извлек из портфеля старорежимную папку с тесемками и зашуршал бумагами.
Забавно, что железная дорога, не столь уж давно по меркам цивилизации явившаяся в нашу жизнь, обросла таким количеством психологических движений, спотычков и ожиданий. Купе наше было заполнено, никого ждать не приходилось. Поезда ходили строго по расписанию: вряд ли кто-нибудь слышал, чтобы железнодорожным пассажирам надобилось долгие часы ожидать погоды для взлета или чтобы их в последнюю секунду попросили перейти из одного состава в другой. Но все равно никуда не деться от специфического волнения последних минут, которое прерывается вдруг блаженным движением души, когда фонарь, носильщик, забор за немытым окном вдруг мягко содрогаются и синхронно начинают отодвигаться вбок, словно они нарисованы на театральном заднике. «Ну, поехали», – сообщил расстрига очевидное, поглядел на часы (рефлекторный жест, великолепный своей бессмысленностью) и замолк.
Город без сожаления расставался с нами, по-простецки демонстрируя свои непарадные исподы: закоптелую кирпичную водокачку, к которой, небось, пристраивались на водопой еще угольно-черные паровозы с их выразительными формами; геометрически совершенные заборы, обтянутые по русскому обычаю двумя рядами колючей проволоки, но с огромной дырой посередине, куда протиснулся бы и танк; ряд бревенча-тых лабазов, автомобильный переезд с опущенным шлагбаумом и смиренной чередой пропускающих нас машин; заброшенный протяженный фруктовый сад, за ним еще какие-то избы – и, наконец, замелькал за окном набравшего к этому моменту скорость поезда уже вовсе необжитой лес.
В такие минуты воздух как будто сгущается, чтобы разрешиться началом общего разговора – и от первой реплики зависит, какое направление он примет. Мысленно я ставил на расстригу, который, хоть и поглядывал в окно, но явно томился молчанием: тифозный юнец по-прежнему копался в телефоне, а флибустьер перебирал свои листы, иные из которых, как я заметил краем глаза, были заполнены еще на пишущей машинке. Но, против ожидания, первым заговорил именно он.
– А все же, – сообщил он, закрывая папку и потягиваясь, – когда сделали отдельные женские и мужские купе, все совсем изменилось.
– Ну, во-первых, остались и общие, – мгновенно включился расстрига, как будто об этом же тем временем и размышлявший.
– Это, конечно, да, но как-то неловко просить билет в общее – как будто обязательно хочешь ехать с женщинами. И потом, где гарантия, что там в результате не окажутся еще трое таких же любителей – так и будете друг на друга злобно посматривать всю дорогу.
Расстрига расхохотался, да так звучно, что малец, выдернув наушники, вопросительно свесился со своей полки.
– Присоединяйтесь к нам, молодой человек, – приветливо махнул ему расстрига, отсмеявшись, – мы обсуждаем, что изменилось, когда в поездах появились отдельные мужские и женские купе. Вы, кстати, успели застать время, когда все были, так сказать, совмещенными?
– Успел, – сухо отвечал юнец, но приглашением спуститься не воспользовался (к тайному, кажется, облегчению флибустьера, который уже успел как-то незаметно распространиться на всю полку, разложив портфель, пиджак, книгу в непрозрачной обложке и прочее имущество).
– И что думаете?
– В старину вроде бы гимназии были раздельные для мальчиков и девочек. Потом стали общие. А здесь наоборот.
И он опять уткнулся в свой телефон.
– Вот что значит аналитический склад ума, – усмехнулся расстрига. – А все же, как вам кажется… не знаю вашего имени-отчества… – протянул он вопросительно.
– Иосиф Карлович, – представился флибустьер. – А вас как прикажете?
– Меня Сергей Сергеевич, но можно по нынешней моде просто Сергеем.
Оба вопросительно посмотрели на меня, так что мне тоже пришлось назваться. Юнца беспокоить не стали.
– Так что вы, Иосиф Карлович, – рыжий относился к типу говорунов, смакующих свежеобретенное звание собеседника, как гурман новое блюдо, – скажете про мужские купе?
– Да вроде хуже от женщин в дороге. Одна попадется – будет по телефону болтать, да еще по громкой связи, так что ты ни почитать, ни поработать, ни подремать – ничего не можешь. И выйти неловко, вроде как оскорбление наносишь, но и слушать это стрекотание сил нет. И кроме того – так устроено, что их голос (он выделил интонацией это «их») как-то специально в мозг вворачивается, как будто для того, чтобы мы список покупок не забывали. И поэтому все, что она по телефону прочирикает, ты непременно запомнишь: и как кого из племянников зовут и у кого из детей какие оценки. Ну и, кроме телефона, хватает от них беспокойства. И будь добр вон из купе, пока она переодевается, и терпи, если она вдруг решила духами облиться перед поездом, и полку нижнюю уступи. Захочется ей поговорить – молчи и слушай. Полезет фотографии детские показывать – сиди и восхищайся, как будто тебе все эти младенчики не на одно лицо. И главное, все время чувствуешь себя как матрос при адмиральской проверке – словца лишнего не брякни, следи, чтоб молнию случайно не заело, и главное, виду не дай, что скучаешь, потому что худшей обиды и придумать нельзя. А все равно, знаете… а вот не хватает чего-то. Если б была сейчас девушка с нами в купе – разве стали бы мы так разговаривать?
– Да может, и стали бы, кстати, – отвечал ему расстрига задумчиво. – Они как раз очень любят разговоры – типа мужчины с Марса, женщины с Венеры и никак им не договориться. Только, конечно, она бы как дважды два доказала, что без женщин мы быстро бы захирели.
– Кто она-то?
– Да эта ваша гипотетическая девушка, которая могла бы с нами оказаться в купе.
– Ясно. Но в чем-то она и права была бы. Вымер бы род человеческий без женского полу.
– Это да. Хотя черт его знает, может, и придумали бы какое-нибудь размножение в пробирке. Но мир, конечно, был бы куда скучнее. Зато можно представить, как в монастырях люди жили, куда нельзя было не только женщинам, но даже животных-самок не допускали.
– Да ну? – не поверил флибустьер. – А как же они?
– И очень просто.
– Нет, совсем не просто. А как же монастырские знаменитые хозяйства? Им, что, петухи яйца несли, а быки доились? Да и, кстати, мы в школе какой-то рассказ проходили, где барыня приезжает в монастырь погостить – как это может быть по-вашему? Что-то вы перегнули палку.
– Ну может быть и так, – не стал спорить расстрига. – Может, разные были уставы, где-то построже, где-то полиберальнее. Но я к тому, что есть же чисто мужские места, где женщинам делать вообще нечего.
– Например, мужская баня, ха-ха-ха.
– Тут-то как раз можно и возразить, – усмехнулся рыжий. Странная у него была улыбка – как будто он, примеряя ее перед зеркалом, растягивал на мгновение губы и собирал их обратно. – Но нет, я не про то. То есть до революции-то вообще и ученые занятия были почти только мужским делом, я не говорю про армию или там клубы. Но и теперь, когда вроде бы у всех равные права, все равно же остаются области, куда женщинам ходу нет. Среди шоферов-дальнобойщиков, например, нет женщин. Ну, может, есть одна-две, так всегда бывает, какая-нибудь кавалерист-девица за рулем фуры. И влияет это, конечно, довольно крепко на атмосферу. Что ни говори, а дама одним своим присутствием облагораживает общество, не дает, так сказать, выпустить удила, хе-хе.
– Был такой шведский философ – Сведенборг, – вступил неожиданно в разговор юнец, снова свесившись с верхней полки: выглядело это так, словно улитка, захотев поучаствовать в беседе, выпростала свои слизистые рожки из раковины. – Он, короче, написал трактат «О любви супружеской». Начинается чуднó – типа сам он где-то стоит на равнине, тут тучи такие несутся, дождь идет – и видит ангела, который манит его за собой. И дальше он типа на пятьсот страниц рассуждает, что он видит в раю, как там все устроено, но съезжает именно на то, о чем вы сейчас говорите. И в одном месте – не помню, то ли ангел ему рассказывает, то ли сам он доехал своим умом, – что когда Бог создавал людей, то он забрал у мужчины его красоту и изящество и отдал их женщине. И короче, мужчина без женщины – злобный, глупый, мрачный и противный, и только когда с бабой соединится и она с ним поделится тем, что ей досталось, – он сразу станет умный, приятный и вежливый. Это вроде то, о чем вы толкуете, нет?
– Однако, – крякнул расстрига, глядя на свесившуюся вниз скверную физиономию, как Сведенборг на ангела. Иосиф Карлович тоже поднял очи горе.
– А откуда, извиняюсь, такие глубокие познания в философии? – поинтересовался расстрига.
Лысый собирался уже, кажется, ответить, как в дверь постучали, и сразу вслед за тем, не дожидаясь приглашения, зеркальная дверь отъехала в сторону и на пороге возник проводник. Проходя в свое купе, я совсем не обратил на него внимания – с тех пор как бумажные билеты вышли из употребления, представители этой породы как будто вылиняли. В прежние времена проводник или проводница находились в каком-то бесконечном диалоге с пассажирами: сперва они проверяли билетики при входе в вагон, потом проходились по всем купе, отбирая или компостируя бумажные (а раньше еще и картонные) клочки, потом продавали комплекты постельного белья или стелили их самостоятельно, разносили чай в подстаканниках… Сейчас все это ушло в ту же серую, уютную, сдобренную мягкой пылью воспоминаний область, куда провалились звякающие медяки в кармане, спички в коробке и почтовые марки, нежно приклеиваемые к уголкам конвертов. Ныне при входе в вагон требуется лишь продемонстрировать паспорт (а вскоре и вовсе небось будут сканировать сетчатку или нащупывать специальным прибором вшитый под шкуру чип), белье уже застелено, а чаю можно самостоятельно надоить из автомата. В общем, лицо проводника мне не запомнилось, да если бы и запомнилось, то теперь бы я его не узнал – настолько оно было искажено.
Он не вошел, а как-то ввалился к нам – бледный, с трясущимися руками. Как сейчас помню, на лбу его (где виден был еще вдавленный след от форменной фуражки – что-то вроде странгуляционной борозды, пришедшейся поперек чела) выступили неправдоподобно большие, с вишню размером капли пота. Войдя, он окинул нас глазами загнанного зверя и резким движением, не глядя, потянул за собой дверь. «Можно присесть?» – пролепетал он и, пошатнувшись, плюхнулся на краешек полки, на единственное незанятое место, откуда флибустьер успел мгновенным движением изъять свой портфель.
Разговор естественным образом прервался. Не знаю, что чувствовали мои попутчики, но мне было не страшно, а скорее любопытно: что могло привести его в такой ужас – нападение сумрачных бородачей с ятаганами? Проигрыш в карты? Труп в соседнем купе? Горестное известие из дома? Не успел я привычным движением распустить в уме каталог возможных страхов, как он заговорил – сперва сбивчиво, но позже, успокоившись, вполне внятно. Вот его монолог.
– Я посижу здесь минутку, ладно? У меня полный вагон, но мужских купе всего два, остальные женские и смешанные. Ваше ближайшее, второе в конце вагона, а там… туда я пока пройти не могу. Вы беспокоитесь, что случилось? Ничего страшного, вас это не коснется, это только мои проблемы, я свою работу выполню, не волнуйтесь. Да и, в общем-то, работы этой осталось всего ничего, я тут скорее на случай чего-нибудь непредвиденного. Нет, спасибо, нам никак нельзя. (NB: тут флибустьер протянул ему откуда-то из своих пазух вытянутую никелированную фляжечку, пробормотав «нервы успокоить», но проводник отказался.) Но спасибо, за заботу спасибо. Может, таблетку какую-нибудь, вроде валерьянки, вот я бы с удовольствием. Нету? Ну, справлюсь, наверное, так. Вы, конечно, хотите знать, что произошло? Да привидение я увидел, вот что. Что, смеетесь? (NB: мы сидели тихо как мыши.) Да и посмейтесь, я бы и сам похихикал бы, если б не со мной дело было. Впрочем, сейчас, пока я все расскажу, может быть, и самому весело станет.



