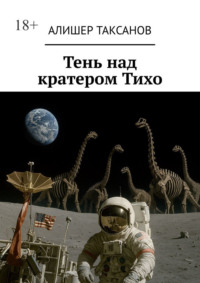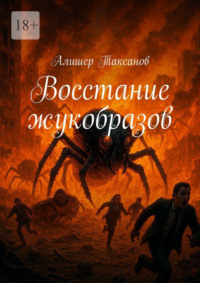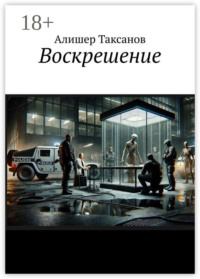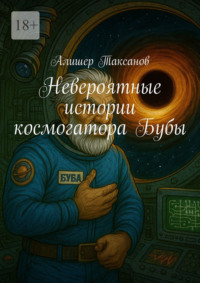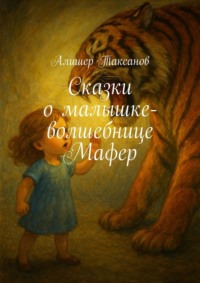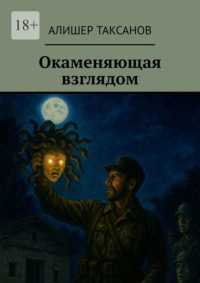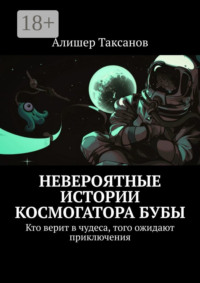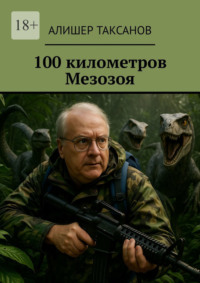Полная версия
Один из двухсот

Один из двухсот
Алишер Таксанов
Редактор ChatGPT
Иллюстратор ChatGPT
© Алишер Таксанов, 2025
© ChatGPT, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0067-7060-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Начало
(Фантастический рассказ)
Огромное здание Labors für Medizinisch-Biologische Forschung – Лаборатории медико-биологических исследований – располагалось в бетонной чаше долины, врезанной в предальпийские холмы под Цюрихом, неподалёку от искусственного водохранилища. Здание, снаружи напоминающее сплюснутый полированный монолит, уходило в землю на пять уровней, а над поверхностью возвышались лишь стеклянные галереи, сверкавшие стальным каркасом и зеркальными панелями. За прозрачными стенами двигались люди в белых халатах, деловито перенося что-то из лаборатории в лабораторию. Над входом – лаконичный логотип с тремя пересекающимися гексагональными структурами и немецкое название, выгравированное на матовой панели.
Внутри здание казалось ещё больше. Бесконечные коридоры с гулкой акустикой, стеклянные двери, комнаты с оборудованием, мерцающие экраны, холодильные камеры, архивы, резервуары, лаборатории молекулярной биологии, палеогенетики, микробиологии. Сотни сотрудников – кто с планшетами, кто с папками, кто в защитных масках – шли по своим делам, переговаривались быстро и непонятно: «интерлейкины», «плазмиды», «рекомбинация» – всё это звучало как заклинания, как чистая абракадабра для постороннего уха.
Именно абракадброй всё это и казалось Марианне Фэсхлер, молодой журналистке из «Ландботе» – регионального издания, которое отчаянно пыталось стать хоть немного серьёзнее. Высокая, с пепельно-русыми волосами, заплетёнными в тугую косу, одетая строго, но стильно – в светло-серый брючный костюм и кремовую рубашку – она сидела на диванчике в лаунж-зоне с пластиковым стаканчиком кофе и пыталась не смотреть на экран, висящий на стене. Телевизор транслировал новостной канал, где сухопарый ведущий рассказывал о новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке: авиаудары, захваченные приграничные районы, экстренные заседания Совбеза ООН, колонны беженцев, красный крест на фоне песка. Всё это гудело в фоне, накладываясь на шум лабораторных агрегатов.
Марианна нервничала. Она плохо разбиралась в науке, особенно в естественных дисциплинах – с трудом отличала бактерии от вирусов и не помнила, в каком веке был Мезозой, – но хотела написать интересную, живую статью. Редактор герр Руггер строго предупредил, что будет читать текст лично и без поблажек: «Мы не Bildzeitung, фрау Фэсхлер, но и не Nature. Вы поняли, да?»
И вот, наконец, дверь в конференц-зону открылась, и в помещение вошёл доктор Рашольд Роми – знаменитый палеобиолог, фигура почти легендарная в научных кругах. Высокий, сутулый, в белом лабораторном халате, с застиранной бейдж-картой на груди и седыми волосами, расчесанными назад, он походил скорее на профессора алхимии, чем на учёного. Лицо бледное, под глазами – тени, в руке – кипа распечаток.
Он выглядел немного взволнованным, словно отвлекли его от чего-то важного. Но, увидев журналистку, быстро собрался и сдержанно улыбнулся.
– Доброе утро, фрау Фэсхлер, – сказал он, протягивая руку.
– Спасибо, герр Рашольд, что нашли время для интервью, – ответила она, привстав и пожимая его ладонь.
Они сели за круглый стол, заваленный научными журналами, распечатками статей и пластиковыми чашками с кофе. В углу за стеклом медленно вращалась модель ДНК из цветного стекла.
– У меня заготовлены вопросы, и вы позволите? – спросила Марианна, доставая блокнот и включив диктофон.
– Да-да, конечно, – доктор кивнул и поправил очки, чуть съехавшие на переносицу.
– Первый вопрос… – она прочитала: – Сохранились ли бактерии, вирусы или микроорганизмы с эпохи Мезозоя?
Доктор кашлянул, прикрывая рот кулаком, и начал:
– Некоторые микроорганизмы с Мезозоя действительно существуют до сих пор, но вирусы и большинство бактерий тех времён исчезли, мутировали или эволюционировали. Живые «реликты»… Ну, например, некоторые бактерии, археи и цианобактерии возникли задолго до Мезозоя – в архее или протерозое – и почти не изменились. Возьмём Cyanobacteria, сине-зелёные водоросли – более двух с половиной миллиардов лет эволюции, и они до сих пор живы. Или Thermus aquaticus – бактерия из горячих источников, аналоги которой существовали в Мезозое. Или археи – экстремофильные микроорганизмы, некоторые виды которых с тех времён почти не изменились…
Он снова кашлянул, приглушённо, в руку.
– Есть интересные случаи с янтарём. Иногда учёные находят споры бактерий в янтаре возрастом двадцать, пятьдесят, даже сто миллионов лет. Некоторые из них, по утверждениям, сохраняют жизнеспособность. К примеру, Bacillus sphaericus, который «воскресили» из янтаря возрастом около двадцати пяти миллионов лет. Хотя, конечно, эти данные спорные. А вот с вирусами всё сложнее – они не оставляют окаменелостей в привычном смысле. Но есть эндогенные ретровирусы, встроенные в ДНК животных и человека – можно проследить вирусную активность миллионов лет назад. Некоторые из таких следов – старше ста миллионов лет. ERV, Endogenous Retrovirus, – вот такие «вирусные следы» в нашей генетике.
Марианна кивала, делала заметки в блокноте. Диктофон мягко пульсировал красной лампочкой.
– Есть ещё вечная мерзлота. Из неё извлекали вирусы, замороженные тридцать, пятьдесят тысяч лет назад. Конечно, это не мезозой, но всё равно показательно. Например, Pithovirus sibericum – вирус, извлечённый из сибирской мерзлоты, оказался всё ещё инфекционным… правда, только для амёб. Так что – эволюция. Почти всё изменилось. Мезозой – это 252—66 миллионов лет назад. Геномы микроорганизмов радикально поменялись. Почти все вымерли. Но их потомки живы. Это как спросить: «Живы ли наши предки из мезозоя?» – нет, но мы их эволюционное продолжение. Так и с микроорганизмами. Потомки есть. А в их древней форме – увы. Только тени, только следы.
Он замолчал, откинувшись на спинку стула. Где-то в коридоре проехала тележка, пища сканером.
Марианна посмотрела на следующую строку в блокноте, вздохнула, и спросила:
– Можно ли «воскресить» микроорганизмы из мезозоя?
Доктор Рашольд улыбнулся, словно вспомнил о чём-то далёком, знакомом и странным образом дорогом:
– В теории – возможно, если найдётся сохранившийся образец. Споры бактерий – самая выносливая форма жизни на Земле. В состоянии анабиоза они могут выживать десятки миллионов лет, ну, в идеальных условиях. Уже есть прецеденты: Bacillus permians – якобы около 250 миллионов лет, из кристалла соли, найденного в отложениях Пермского периода. Спорный, но знаменитый случай. Бактерии из янтаря – 25—40 миллионов лет – тоже, в некоторых лабораториях, «оживали», хотя и не всегда удавалось исключить современное загрязнение.
Он развёл руками:
– Но на практике это крайне маловероятно. ДНК – не вечна. Даже в самых лучших условиях она разрушается под действием кислорода, радиации, температурных колебаний. Всё, что старше одного-двух миллионов лет, чаще всего представляет собой фрагменты, обломки, химические следы, но не «живую» клетку. И уж точно не что-то, что можно воскресить простым разогревом в пробирке. Это как пытаться собрать фарфоровую статуэтку из пыли.
– А можно ли синтетически «воссоздать» микроорганизм мезозоя? – уточнила журналистка, блокнот в руке замер над строкой.
– Теоретически – да. Если извлечь достаточно полную ДНК или хотя бы РНК из древнего образца, можно попытаться расшифровать геном. Потом – воссоздать его с помощью современных методов генной сборки, как это уже делали с вирусом оспы или синтетической бактерией Mycoplasma laboratorium. Но проблема всё та же: мезозой – это десятки миллионов лет. Из этого времени ещё ни разу не удалось извлечь по-настоящему полноценную ДНК. Лучшая находка – короткие фрагменты, не пригодные для сборки полноценного генома. Впрочем, технически, если у нас будет хотя бы 70—80% последовательности, можно попытаться её дополнить, смоделировать недостающее – но это уже будет не оригинальный организм, а интерпретация. Научная реконструкция. Или – синтетическая гипотеза.
– Тогда ещё один вопрос: опасны ли микроорганизмы из мезозоя для человека?
Доктор на мгновение задумался, прищурившись. Его взгляд потемнел:
– Теоретическая опасность существует. Такие организмы могли бы содержать белки, которые современная иммунная система попросту не распознаёт. А значит – невозможна быстрая адаптация. Неизвестные ферменты, токсины, чужеродные метаболиты – они могут вызывать аллергии, анафилаксию, даже системные шоки. Вирус, сохранившийся с тех времён, может быть несовместим с современной биологией. И именно это делает его потенциально опасным – если он сможет адаптироваться. Впрочем, вероятность мала. Всё-таки эти сущности были заточены под тогдашние организмы: динозавров, папоротниковые, бактерий того времени. Мы – чуждые им.
Он сделал паузу, глядя в окно.
– Интересный момент. Учёные, работающие с древними вирусами из вечной мерзлоты, сознательно изолируют их в культурах амёб, а не млекопитающих. Потому что вирусы, поражающие одноклеточных, слишком далеки от тех, что инфицируют человека. Это своя форма биологического «изолятора». Но… это страховка, а не гарантия. Возрождение мезозойского микроорганизма возможно, но пока не подтверждено. А если бы получилось – он мог бы оказаться как биологически бесполезен, так и катастрофически опасен. Всё зависит от среды, в которую он попадёт.
Журналистке показалось, что сказанного вполне достаточно. Она поблагодарила доктора, вежливо кивнула и направилась к выходу, довольная материалом. Доктор Рашольд проводил её до двери, подписал пропуск, как и полагалось, и, не говоря ни слова, вернулся в лабораторию. Он сказал многое – но не всё.
Древний вирус мезозойского происхождения – условно названный Tyrannovirus-MZ01 – действительно был синтезирован в лаборатории на базе цепочек, извлечённых из янтарного включения возрастом около 80 миллионов лет. Образец – комар с остатками крови предположительно травоядного динозавра – был найден в бирманском янтаре. Путём сложнейшей работы над фрагментами РНК, моделированием и реконструкцией, вирус был «собран» заново – как бы воссоздан из призрачной памяти доисторического кода.
Сначала – просто как эксперимент. Потом – в секрете.
Однажды ночью лаборантка, аспирантка, по глупости или по усталости, укололась иглой из контейнера с пробой. Она думала, что всё стерильно.
Через двое суток начались судороги. Через трое – кома. Через пять – она проснулась. Но уже не как человек.
…Доктор Рашольд подошёл к стеклянному пуленепробиваемому кубу в глубине изолированной секции лаборатории. Внутри бесновалась женщина. Точнее, то, что от неё осталось.
Она была мертва – в клиническом и биологическом смысле. И в то же время – пугающе жива. Вирус не просто убил носителя. Он использовал тело как носитель, реанимировав базовые двигательные и вегетативные функции. Паразит. Чужой разум, чужая программа.
Женщина, некогда носившая имя Хелена, моталась по кубу, натыкаясь на стены, оставляя пятна пота, слизи и крови. Её кожа стала бледной, восковой. Глаза – сухие, безжизненные, словно пережжённые. Челюсть – сведена. Она рычала, как зверь. Беспорядочно. Без смысла. Без цели. В ней не было ничего человеческого. Только автоматизм. Движение. Инстинкт.
Она стала зомби. Не в кинематографическом смысле, а в буквальном: биологическая машина, сбитая с пути жизни и запущенная снова, но с другой программой.
– Этот вирус… хорошее оружие, – тихо сказал доктор Рашольд, глядя на неё.
Он долго смотрел. Не отводя глаз. В его лице было что-то неуловимое: скорбь, отвращение, гордость. Когда-то Хелена была его любовницей. Умная, страстная, уверенная. Её диплом по биохимии лежал у него на столе. Теперь – она была ключом к Нобелевской премии. Или к контракту на миллиарды от министерства обороны.
Ситуация на Ближнем Востоке была ужасной. Конфликт ширился. Обычные боевые вирусы – предсказуемы. Антибиотики, противоядия, вакцины – всё это работало. Но этот вирус… был новым. Он не атаковал клетки – он переписывал их поведение. Он воскрешал. Превращал носителя в переносчика, машину, оружие.
И только в Labors für Medizinisch-Biologische Forschung знали об этом.
Пока что…
(23 июня 2025 года, Винтертур)Хищники с Триасового периода
(Фантастический рассказ)
Саманта, пятидесятидвухлетняя женщина с прожженными годами глазами и нервами, натянутыми, как струны, сразу почувствовала неладное. Инстинкт, выточенный десятилетием жизни в Петерсвиле, сработал мгновенно. Она выхватила пистолет – черный «Глок 17», привычный, проверенный, как старая перчатка. Резиновая рукоять уверенно легла в ладонь. Обойма была полной – семнадцать патронов калибра 9×19 мм. Этого хватало, чтобы остановить угрозу… обычно.
Оружие уже не раз спасало жителей деревни. В Петерсвиле давно знали – за границей тишины всегда начинается что-то дикое. Первые нападения были редкими, единичными, и долго оставались в рамках мифа. Пока не стало слишком много трупов и слишком мало тех, кто мог говорить.
Снаружи всё казалось по-прежнему. Вечер ложился мягким светом на крыши. Сад, окружавший её дом, был в расцвете лета – старые яблони прогибались под тяжестью налитых плодами ветвей, груши золотились среди листвы, от дикой алычи несло терпким ароматом. Воздух звенел от работы пчёл – они скользили от цветка к цветку, собирая нектар, будто в мире ничего не могло случиться страшного. А в небе над холмами расползались лиловые облака, солнце клонилось к горизонту, окрашивая всё вокруг в медно-оранжевый тон.
Но Саманта знала: слишком тихо.
И она была права.
В зарослях сирени, на границе сада, что-то хрустнуло – как если бы кто-то сломал хребет крупному зверю. Затем из кустов, раздвигая их, как мокрые тряпки, вырвались два цератозавра. Их кожа была покрыта бугристой чешуей грязно-коричневого цвета, с пятнами, словно мазками пепла. На вытянутых мордах, прямо над ноздрями, тянулись костяные рога – короткие, но устрашающие. Глаза сверкали в сгущающемся полумраке – жёлтые, с узкими зрачками, как у змеи.
Цератозавры атаковали стремительно, с той страшной точностью, которую природа формировала миллионы лет. Но Саманта не растерялась.
Первый хищник прыгнул – она выстрелила, даже не целясь. Пуля врезалась ему прямо в глазницу. Рёв оборвался, тело рухнуло боком, сбив ветви молодого персика.
Второй подбирался с фланга, уже в трёх метрах, пасть раскрыта, резцы поблескивают слюной. Саманта перенесла огонь – нажим, выстрел, откат. Пять, шесть, семь пуль вошли в тело. Монстр заревел, замер, и упал как подкошенный у её ног.
Он бился в конвульсиях – мощные задние лапы царапали землю, когти вырывали с корнями траву. Хвост, длинный и мускулистый, бил по земле, как плеть, оставляя выдранные клочья дерна и вмятины в пыльной дорожке сада. Последний рывок – и всё. Глаза помутнели.
– Чёрт… – выдохнула Саманта и огляделась, держа оружие наготове.
Тишина. Только пчёлы по-прежнему жужжали, будто ничего не произошло.
Похоже, их было только двое. И это было невероятной удачей. Цератозавры, как и многие другие позднемеловые тероподы, охотились группами. Два – редкость. Обычно – не меньше пяти. А значит, она могла не успеть.
Сдержанно, без спешки, Саманта нажала кнопку выброса магазина. Пустая обойма упала в траву. Из кобуры на поясе она достала новую – защелкнула, взвела затвор. Металлический щелчок прозвучал как обещание: если придут ещё – она готова.
9-миллиметровые пули спасли ей жизнь. Но всё чаще Саманта задумывалась о чём-то посерьёзнее. «Пустынный орёл». Израильский полуавтоматический монстр,.50 калибра. Отдача такая, что сломает руку, если не держать правильно. Но если держишь – череп динозавра рассыпается, как глиняный горшок под молотом. Пуля пробивает не просто кость – она выносит всё, что за ней. Мозг, череп, воздух за затылком – всё одним взмахом.
И в мире, где за яблонями прячутся ящеры юрского периода, такая вещь – не роскошь. А вопрос выживания.
А всё началось с того, что какой-то гений, профессор физики по имени Эдмунд Вейс, решил поиграть с тем, с чем человечеству лучше было бы не связываться. Он экспериментировал с гравитационными полями, изучая нелокальные искривления пространства и теоретические «мягкие» окна между временными слоями. И однажды, в глубине подземной лаборатории под Цюрихом, он пробил туннель времени.
Это не был стабильный портал, не сверкающий вихрь с эффектами из кино. Это была цепь – энергетический узор, замкнутый на Земле. С одной стороны этой временной петли – 21 век, а с другой – триасовый период мезозойской эры, когда континенты были другими, климат – чужим, а животные – смертельно опасными.
Цепь была односторонней. Всё живое из триаса просачивалось в наше время, но не наоборот. По сути, это был временной водопад, в котором динозавры, ящеры и другие древние существа просто падали в будущее, не зная, где очутились, но неизменно следуя своим инстинктам: жрать, охотиться, выживать.
Когда о нарушении протоколов стало известно, к Вейсу приехала полиция. Но гений, как и любой человек, сыгравший с силами, которые он не до конца понимал, не хотел, чтобы его творение уничтожили. Он оказал сопротивление.
Они штурмовали лабораторию. Завязалась стрельба. Одна пуля попала в блок стабилизации поля. Установка вибрировала, вспыхнули разряды, но вместо того чтобы закрыться, туннель зафиксировался – навсегда.
И началось. Сначала думали – локальное ЧП. Потом – биологическая аномалия. Но когда первые динозавры появились одновременно в Цюрихе, Лос-Анджелесе, Лиме, Сеуле, Найроби, Москве и Саратове – стало ясно: это всемирная катастрофа. В горах, в сельской местности, в джунглях, на архипелагах, в мегаполисах и глухих деревнях – они падали с неба, из трещин реальности, выходили из ничего, ломая границы времени.
Цератозавры рыскали по парковкам торговых центров. Псевдозухии выползали на взлётные полосы аэропортов. Платинозавры топтали виноградники Франции.
Велоцерапторы вгрызались в пассажиров метро. Динозавры были везде.
Того горе-гения расстреляли на месте. Не осталось ни его тела, ни лаборатории. Только шипящие, мерцающие энергетические обломки, которые невозможно было ни демонтировать, ни проанализировать.
Лучшие умы планеты бились над решением. Страны объединились, чтобы найти выход. Сверхкомпьютеры, нейросети, эксперименты с антиматерией – всё впустую. Никто не знал, как закрыть петлю, особенно после смерти единственного человека, который её создал.
Армии мира, спецподразделения, отряды дронов, бронетехника – ничего не хватало. Потому что из триаса каждый день прибывали новые твари, и они плодились в своём времени, из которого всё ещё шёл поток в наше. Убить цератозавра здесь – не проблема. Проблема в том, что через час появится ещё один, а потом – десятки. А потом – группа таких, что уже и снаряды не помогают.
Некоторые города просто опустели. Люди уходили в горы, под землю, в арктические поселения. Динозавры не боялись холода, но перемещались хаотично – где-то было безопаснее, где-то – ад.
Мир больше не принадлежал людям. И, судя по тому, как развивались события, никогда уже не будет прежним.
Саманта облегчённо вздохнула: сегодня ей повезло. Она осталась жива. Но иллюзий не питала – даже после выстрелов, даже после того, как два хищника повалились в траву, ничего хорошего не началось. Два трупа размером с корову теперь валялись у её порога, и это означало только одно: начнётся гниение. Через день, максимум два, рои мух, плотоядные осы, мелкие жуки и прочая мерзость облепят плоть, кожа пойдет пузырями, а затем – смрад, и вместе с ним – новые твари. Трупный запах был магнитом. Его чувствовали не только падальщики, но и те, кто приходил за падальщиками. У Саманты не было никакого желания встречаться с ними.
– Придётся оттащить эти тела, – пробурчала она, глядя на двух исполосованных пулями цератозавров.
Сделать это самой – не вариант. И как встарь, когда приходилось убирать завалы после ураганов, она пошла к соседу Гаррису.
Гаррис был мужиком крепким, под шестьдесят, с ветвистыми руками и глубоко посаженными глазами под серыми бровями. Он не говорил много – предпочитал действовать. В прежние годы работал на ферме, потом на станции техобслуживания. В руках у него всё держалось – и ключ, и ружьё.
С тех пор как началось это вторжение из прошлого, он не сомневался: выживут только те, кто держится вместе. Соседи – это теперь как родные. Каждый день мог стать последним, и глупо было делить границы участка, когда за ними ходят ящеры.
Он не отказал. Кивнул молча и повёл свой трактор – старый, но надёжный «Джон-Дир», ещё довоенного выпуска. Зелёная кабина, потрёпанный кузов, местами заржавевшие петли, но двигатель – как швейцарские часы. Мотор заурчал, низко, с хрипотцой, будто сам трактор уже был живым и знал, что делает. Гаррис зацепил цепь, протянул трос, натянул…
Цератозавр медленно, с отвратительным скрипом шкуры по траве, пополз за трактором, оставляя после себя вмятины, канавы, вытоптанную траву, залитую густой, почти чёрной кровью. Почва мялась под тяжестью туш – земля, напитанная весенними дождями, не выдерживала. Второе тело – тяжелее, массивнее – цеплялось когтями за всё, что попадалось, но Гаррис не сбавил оборотов.
Они добрались до оврага, и два хищных трупа полетели вниз. В полёте перекрутились, а потом с глухим бух разбились о каменные выступы. Один сломал шею (хотя был уже мёртв), другой развалился на два куска, обнажив внутренности. Сегодня кому-то будет пир – и не факт, что только падальщикам.
Саманта поблагодарила Гарриса коротким кивком, тот только махнул рукой и покатил обратно. А женщина пошла в дом.
Телевизор работал тихо. Каналы теперь были другие – не развлекательные, а выживательные. Новости, ориентировка, климатическая сводка и сводка по биоморфам. По экрану бежала строка:
«…новые случаи нападения с участием Tanystropheus hydroides в окрестностях Женевского озера. Подтверждено появление Nothosaurus и Placodus в водах Эгейского моря. Океанические виды занимают устойчивые ниши…»
Комментатор говорил быстро и устало, словно врачи на пике пандемии.
Теперь животные из триасового периода водились в озёрах, в морях, в прибрежных заливах. Среди них – огромные мезозавры, хищные амфибии, способные дышать под водой и нападать из засады. Плезиозавры устраивали засады у берегов, переворачивали лодки и вытягивали шеи, как змеи, из воды, чтобы схватить жертву.
К ним добавились:
– Ихтиозавры – похожие на дельфинов, но с зубастыми пастями и злобным нравом;
– Mixosaurus – средние морские хищники, охотники стайного типа;
– Shastasaurus – гигант, длиной под 20 метров, пока замечен лишь в Тихом океане;
– Placodonts – медленные, но способные раскалывать панцири и кости челюстями;
– Thalattosaurs – полуводные ящеры, преследующие рыбу и иногда – пловцов.
Над экватором, особенно в Африке, летали птерозавры. Их крылья рассекали небо, но летали они тяжело. Плотность воздуха в 21 веке отличалась от той, к которой они были приспособлены. Поэтому поднимались низко, скользили вдоль термальных потоков, редко – выше деревьев, не атакуя с высоты, как хищные птицы, а налетая внезапно, со стороны, из-за угла, из-под крыши. И даже так – становились смертельно опасны.
Саманта выключила телевизор. Она знала одно: завтра будет новый день, и новые твари могут появиться прямо у её забора. Но пока она жива. И пока есть патроны – она не сдастся.
В это время из-за поворота на просёлочной дороге показался знакомый пыльный «Опель», с гулко дребезжащим глушителем. За рулём сидел Маттиас – ещё один сосед, человек с железной выдержкой, бывший военный, ныне – фермер. Его лицо было испещрено глубокими морщинами, глаза щурились даже в пасмурную погоду, а на правой скуле виднелся шрам, оставшийся после схватки с велоцираптором в прошлом году.
Маттиас был крепок, жилист, с руками, больше похожими на деревянные клешни, и походкой человека, привыкшего спать с одним глазом открытым. Он держал стадо коров – самое крупное в округе, но с приходом хищников его поголовье сильно поубавилось. Охранять стадо приходилось и днём, и ночью – особенно по ночам, когда хищники становились смелее. Помогали двое сыновей – Йонас и Марио, мальчишки-подростки с острыми лицами и ружьями наперевес, у которых детство закончилось в тот момент, когда цератозавр сожрал их пса.
Сам «Опель» был ещё довоенный дизель – грузовичок с открытым кузовом. На нём, прямо поверх брезентового тента, был закреплён германский MG-42, пулемёт времён Второй Мировой. Ремонтировался десятки раз, но всё ещё работал как часы. Скорострельность свыше 1200 выстрелов в минуту, и это делало его идеальным инструментом по вышибанию мозгов у терапоидов – особенно мелких и средних. Не так эффективен против крупных ящеров, но и у тех пули оставляли дырки, в которые можно было бы просунуть кулак.