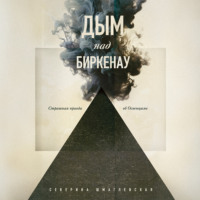Полная версия
Дым над Биркенау. Страшная правда об Освенциме
– Пошли!
Вооруженные лопатами, метлами, тачками, они идут убирать лагерь. До двух десятков больных скрывается ежедневно в этой группе, пользуясь тем, что Моника не только не бьет узниц, но и не заставляет их работать. Ее занятие состоит в том, что она неотрывно смотрит в сторону Blockführerstube[11] и, время от времени подходя к спрятавшимся от дождя женщинам, спокойно говорит им:
– Двигайтесь, пожалуйста, хоть немного, идет Oberaufseherin[12].
Своим поведением Моника доказала, что, будучи «властью», можно облегчить жизнь товарок, помогать им. К сожалению, очень скоро Монику заменили какой-то энергичной краковской проституткой, которая с необычайным удовольствием и знанием дела избивала подчиненных ей женщин.
Внутри лагеря оставляют лишь небольшую группу женщин. Большинство же направляется на так называемую Aussenarbeit[13].
Через ворота идут шеренги жалких изгоев. Идут навытяжку, четко вышагивая мимо старшей надзирательницы Мандель, грозной блондинки, которая, не моргнув глазом, выносит смертный приговор, мимо рапорт-фюрера Таубе, знаменитого тем, что от его умело рассчитанного удара кулаком в лицо падают даже самые крепкие. Мимо надзирательницы Дрекслер – на ее обтянутом кожей лице с дегенеративно выпирающими зубами так и застыло выражение ненависти. Мимо надзирательницы Хассе, предпочитающей сперва влепить затрещину, а потом уж разговаривать. Мимо старосты лагеря Буби. Это закоренелая немецкая уголовница, выродившаяся до такой степени, что по ее жестам, голосу, лицу, поведению никак не определишь, женщина это или мужчина.
Каждая узница старается избежать их взглядов, не привлечь к себе их внимания, быть лишь частичкой этой движущейся гусеницы, и ничем больше. В такой момент лучше оказаться посередине пятерки; палки эсэсовцев, поднятые для подсчета рядов, очень часто обрушиваются по любому поводу на головы идущих с краю.
По обе стороны ворот, будто у врат мифического подземного царства, воют, исходя слюной от ярости, и рвутся со сворок громадные псы, специально обученные бросаться на людей. Каждую колонну, в зависимости от ее численности, сопровождают от ворот несколько эсэсовцев с ручными пулеметами и собаками.
Рассветает. Солнца еще нет. Розовые полосы зари на небе. На деревьях и на траве серебрится иней. В дверях караульной будки у дороги стоит немецкий часовой, утопая в широченном тулупе. Он поднял меховой воротник, греет в нем уши, замерзшие в шапке-ушанке, бьет себя по бокам руками в больших рукавицах, резво притопывает громадными сапогами. Да, холодно в это октябрьское утро.
У женщин, шагающих без чулок, синеют ноги, коченеют ступни, с трудом волокущие деревянные колодки, дрожь пробирает сгорбленные спины, прикрытые в лучшем случае одним свитером. А ведь у многих и свитера нет, и они идут в тонких платьях с короткими рукавами, ощущая каждое дуновение ветра. Холодно и головам, остриженным наголо, ветер поднимает уголки платков, на немецкий манер завязанных под подбородком.
Восход солнца застает всех на марше к месту работы: с территории, прилежащей к самому городу и от него получившей название Освенцим, из всех ворот законспирированного Биркенау, что в трех километрах от Освенцима, выходят длинные колонны голодных и замерзших людей и направляются на работу – одни ближе, другие дальше, иные даже за несколько километров. Если дорога не слишком мучительна из-за дождя, жидкой или смерзшейся грязи, то пользуйся случаем – думай, пока можно.
Кто из идущих не начинал тогда дня с вопроса: «Сколько еще таких дней?» Время шло, не принося перемен, потом уже спрашивали: «Сколько недель?», «Сколько месяцев?». Однако миновали годы, и все так же восходящее солнце встречало колонны серо-полосатых фигур, шагавших по дороге на работу. Но у сердца не хватало уже отваги спрашивать: «Когда?»
Большая колонна полек направляется влево и останавливается у дальнего угла мужского лагеря, где позже был оборудован карантин для вновь прибывших. Там три начальника набирают нужное количество женщин – рабочей силы. Первая группа остается на месте у небольших вагонеток, другая идет дальше, к новым баракам, третья сворачивает влево по дороге и исчезает в лесу. Это еще то счастливое время, когда тебя не заставляют идти ежедневно в одной и той же колонне, и можно еще, освоившись с обстановкой, самому выбирать себе работу.
Работа на вагонетках имеет много преимуществ, прежде всего то, что время до вечера измеряется количеством нагруженных и перевезенных вагонеток. Кроме того, так как работать приходится на куче песка, под ногами нет грязи, пусть даже идет дождь со снегом и кругом растекаются лужи. Зато работающим здесь некуда скрыться от шквалистых порывов осеннего ветpa – с места работы ни под каким предлогом отлучаться нельзя. Даже если вконец онемели и побагровели руки, держащие лопату, насквозь промокли платье и белье и вода струйками стекает по спине. Можно не работать, потому что сами-то надзиратели укрылись от дождя, но уйти нельзя. Хорошо, когда дождевой шквал быстро проходит, а ветер продувает и сушит одежду на разгоряченных от работы телах. Куда хуже, если дождь не унимается до самого вечера – тогда приходится ночью спать на мокрой одежде, чтобы хоть немного просушить ее собственным телом.
В ненастные дни нужно суметь как-то отвлечься, чтобы быстрее шли часы от восхода солнца до вечера. Недалеко от вагонеток, через дорогу, стоит маленький домик. Глаза то и дело невольно останавливаются на нем – это ведь единственный здесь след человеческого существования. На многие километры вокруг лагеря выселили всех жителей, оставив пустынное безлюдье, утыканное таблицами с надписью: «Вход запрещен». И вот совсем рядом – дом. В мечтах, в химерах маленький домик обретает особое значение, становится первым укрытием на случай бегства. Присесть бы там на корточки, чтобы издали не заметили в окно, скинуть с себя полосатую одежду, уничтожить свой номер, пришитый на груди… Глаза безотчетно изучают местность вокруг домика, прикидывают расстояние от лагеря и дороги.
Потом домик снесли. На его месте возник добротный барак с окнами, где разместилась строительная контора. Не стало пристанища, где можно было бы укрыться на случай побега, но в то время никто уже и не помышлял о побеге…
Вторая группа занимается укладкой рельсов в новом лагере для эсэсовцев. Бараки, где сейчас идут отделочные работы, разгорожены на маленькие комнатки. В них есть полы и, главное, большие окна. К тому же туда проведена канализация. Однако заключенные недолго тешили себя надеждой, что смогут сносно жить в этих бараках. Увы, бараки предназначены под жилье для эсэсовцев, под конторы, лазарет, в них будут отдыхать возвращающиеся с фронта.
Начальник, руководитель работ, решил приспособить вагонетки для перевозки тяжестей на территории строительства. Значит, надо перетащить сюда рельсы, а это – тяжелейший труд. Уже соединенные шпалами, они лежат где-то около леса, поросшие мхом и травой, вдавленные в рыхлую почву.
– Ich brauch zwanzig Stück, zwanzig junge kräftig Weiber[14].
Нужно отвернуть гайки, соединяющие рельсы, стать между рельсами, приблизительно через две или три шпалы (в зависимости от длины отрезка, который надо нести), затем ухватить обе рельсины – и «Hoch!»[15]. Позвоночник изгибается дугой, руки напрягаются, будто натянутые струны, все невыносимей боль в них. Особенно тяжело высоким, но никому не приходит в голову подбирать для этой работы женщин одинакового роста. Свалится замертво одна из них – что ж, тысячи, десятки тысяч придут ей на смену, а потом многие из них так же вот надорвутся.
Высокая чешка, идущая посередине, вдруг отпускает рельсы и, подняв руки, кричит:
– Nemohu, nemohu![16]
Рывок – и дополнительная нагрузка еще больше оттягивают руки узниц, напрягают спину.
Кaпo, закоренелая уголовница, которой поручен надзор за политзаключенными, разражается бранью на грубом силезском диалекте и бьет увесистой палкой все еще идущую между рельсами чешку. В суматохе рельсы раскачиваются и, кажется, вот-вот оторвут руки. Дальше идти невозможно. Шествие останавливается. Тогда на помощь капо приходит молодой эсэсовец. Громадная серая овчарка бросается на чешку, опрокидывает на землю, рвет зубами ее тело. Начальник, отвернувшись, невозмутимо пережидает непредвиденную заминку. Женщины из последних сил держат рельс, вот уже несколько рук отпускают ношу – ржавое железо утыкается в песок. Однако капо ни на миг не забывает свою роль погонщицы. Подобно тупому кучеру, который стегает кнутом коренного в упряжке, пока тот рывком не сдвинется с места, она так бьет первую в ряду женщину, что сломанная палка со свистом падает на землю. Шествие снова медленно движется вперед. Взбунтовавшуюся чешку заставили нести рельсы вместе с остальными, хотя вся она избита, искусана собакой. Платье ее разодрано в клочья, тело обнажено, из ран струится по ногам кровь.
Второй группе вообще не везет. Работа здесь очень срочная, от нее зависит окончание строительства эсэсовского лагеря. Постоянная спешка и понукания нередко завершаются побоями. Поэтому женщины стараются сделать как можно больше, лучше и быстрее, лишь бы только избежать унизительных и угнетающих скандалов. Вот пять женщин толкают вагонетку, до краев нагруженную щебнем. Вагонетку полагается втолкнуть на поворотный круг, вывести на новую колею, а затем толкать уже в другом направлении. Но рельсы здесь уложены весьма примитивно, так как укладывали их сами узницы в спешке и без помощи специалистов. Сейчас кругом мокро, скользко, пути облеплены щебенкой. Должно быть, какой-то крупный камень попал под колеса, потому что на поворотном круге вагонетка, подталкиваемая плечами женщин, со скрежетом сходит с рельсов и, проехав немного по инерции, застревает в песке. Женщины растеряны. Хорошо еще, поблизости нет начальника. Все попытки втащить груз обратно напрасны, полную щебенки вагонетку невозможно даже сдвинуть, а ведь в любую минуту может подойти капо. Женщины тихонько зовут на помощь. Крадучись, пробираются к ним узницы, работающие на песчаном холме. Пугливо озираясь, подходят те, кто разравнивает щебень, и те, что уже отнесли рельсы и теперь возвращаются на свое место. Общее усилие плеч, спин, а также лопат, поддевших зарытые в песок колеса, – и груз стронулся с места. Страх придает женщинам силу. Еще толчок, одно колесо на рельсах. Издали бежит капо, она заметила отсутствие людей сразу на нескольких участках. Скорей! Еще рывок – и вагонетка со щебнем снова катит по рельсам. Эва Недзельская из Кракова вместе со всеми толкала вагонетку. Она бледная как смерть, на лбу проступили капельки пота, руки дрожат. Возможно, уже тогда у молоденькой Эвы начиналась чахотка, погубившая ее. Непосильный труд, хроническая простуда, голод способствовали развитию туберкулеза. Тогда, однако, никто об этом не знал. Бледное лицо Эвы, обрамленное красной в белый горошек косынкой, всегда приветливо улыбалось людям. Такой она и осталась в нашей памяти.
Группа, работающая в лесу, вызывает всеобщую зависть. Не так-то просто оказаться в ней. Лес! Тоска по его тишине, такой целительной после немолкнущего лагерного шума, тоска по минуте одиночества – ведь в лагере человек никогда не остается один, ни днем, ни ночью; тоска по скрипу гнущихся на ветру веток, по тихому свисту иволги – птицы лесных чащоб. Ради всего этого многие женщины постигли секрет особого построения в пятерки, такого, чтобы наверняка, безошибочно очутиться в «лесной» группе. Работа здесь легче, в лесу мостят дорогу. Мастер, силезец, не считает женщин полноценными работниками и не требует от них слишком многого. Кроме того, лес скрывает от суровых глаз эсэсовцев, и, стало быть, можно избежать понуканий и побоев. Здесь укладывают тяжелые камни, подбирая их по форме, засыпают щели щебнем и утрамбовывают готовую дорогу тяжелыми трамбовками.
Дорога! Куда она может вести? Иногда хорошо знать, куда ведет дорога в лесу. Но никто из узниц этого не знает, спрашивать же мастера небезопасно. Дорога идет с востока на запад, теряется в лесу, и никто не знает, где ее конец.
Вдруг в тиши, среди шума деревьев слышится надсадный гул автомобилей, проезжающих где-то в глубине леса, и сразу же многоголосый, полный отчаяния людской вопль, глохнущий вдали. Это крик протеста, предостережение тем, кто еще жив. Так кричат обреченные на смерть, и на этот раз ни у кого нет сомнений, что означает этот крик. Следом за первой – вторая машина, за ней – третья, и снова над лесом пронесся и замер крик. Женский крик. Все продумано до тонкостей. Кругом лес, и никто не видит, никто никогда не узнает и никогда не расскажет миру. Работающие на строительстве дороги женщины – это тени, если они и увидят что-нибудь сквозь чащу деревьев, все равно им отсюда не выйти. Часто эсэсовцы, глядя на них сузившимися в улыбке глазами, бесстрастно цедят сквозь зубы:
– So wie so Brzezinka, so wie so Krematorium[17].
(Этот лес называется Бжезинка, от него получила название та часть лагеря, где размещены крематории.)
Позже в Бжезинке возникли высокие крематории, по последнему слову техники оборудованные газовые камеры для массового уничтожения людей. Именно эта лесная дорога стала позже дорогой в крематорий. Пока что, однако, все делается на скорую руку. В гуще леса стоит дом с заделанными щелями, он до поры до времени служит газовой камерой.
Вправо от строящейся дороги открывается необычное зрелище. Языки пламени выбиваются из глубокой ямы, вокруг которой снуют заключенные. Сквозь ветви деревьев, особенно если подойти поближе, можно увидеть, как мужчины длинными шестами сталкивают с тележек обнаженные человеческие тела и бросают их в пламя. В клубах дыма мелькают фигуры мужчин и падающие с высоты, освещенные пламенем обнаженные трупы. Вскоре дым становится густым, темным и непрозрачным, он тяжело вползает под ветви деревьев, приближается и медленно обволакивает работающих на дороге женщин, вызывая отвращение и ужас. Чад сожженного человеческого тела, до самого конца сопутствующий всем лагерным дням и ночам, страшный, специфический запах забирается в рот, нос, горло.
В обеденный перерыв все три группы большой колонны полек собираются на лесной опушке, где раздают обед. В эти тяжелые времена хорошо хоть то, что котлы закрываются герметически и отвратительная похлебка из брюквы, приправленная селитрой, – будто манна небесная для окоченевших от холода людей – она горячая. Со временем это единственное ее достоинство исчезло, так как котлы пришли в негодность. Пока что, однако, ближе к полудню головы все чаще поворачиваются в ту сторону, откуда обычно появляется телега с котлами, люди считают минуты до того момента, когда наконец можно будет согреться. К сожалению, телега останавливается в полукилометре от места работы, и пятидесятилитровые котлы приходится тащить на себе по размякшей дороге. Обычно капо, не раздумывая, назначает нужное число работниц, и те покорно бредут по жидкой грязи.
Но не у всех узниц хватает сил на это. Вот выбор пал на щуплую, бледную женщину, только что вернувшуюся из больницы после тяжелого воспаления легких. Капо родом из Силезии, она прекрасно понимает по-польски и говорит на отвратительном жаргоне. Одна из заключенных, тоже назначенная нести котлы, просит капо заменить ту женщину здоровой.
Но в лагере существует странное смешение понятий: все слабое, хрупкое, беспомощное, больное преследуется, забивается, затаптывается. Это идет от предкрематорной селекции – там лишь физическая сила порой, правда временно, спасает от неминуемой смерти.
И вот капо одним толчком опрокидывает в грязь выздоравливающую и, окинув ее презрительным взглядом, несколько раз пинает ногой. Затем поворачивается к той, что осмелилась заступиться за слабую. Несколько ударов палкой по голове – и оглушенная женщина валится ничком между стоящими рядом товарками.
Обеденный перерыв длится час, по меньшей мере половину этого времени приходится стоять в очереди за супом. Суп считается отменным, если выловишь в нем несколько кусков картофеля или обрезок мясных консервов, нo это перепадает только тем, кому посчастливилось получить порцию со дна котла. Остальное время можно отдыхать. Можно умыться из узенькой канавки водой, такой чистой, что иные даже пьют ее. Можно улечься на желтеющей траве, но жалко терять время. Согретое похлебкой тело и ясный полуденный свет – такая удача выпадает не часто; надо поскорее сбросить часть одежды и заняться истреблением вшей. Этому занятию здесь отдают каждую секунду свободного времени.
Вместе с колонной полек обед на лесной опушке получает и колонна евреек из Бельгии и Франции. Еврейки ведут себя как обреченные. Полек смерть подстерегает на каждом шагу, но у них есть хоть какая-то надежда избежать ее, поэтому польки любой ценой пытаются выдержать, не сломаться. Еврейкам же известно, что впереди у них неотвратимая гибель, и они готовы приблизить свой конец, лишь бы миновать смерти в газовой камере.
В тот день, когда до самого полудня, не унимаясь, сек ледяной дождь со снегом, раздача обеда началась вовремя. Но миски мгновенно наполнились снегом, снег слепил глаза раздающей обед капо, ветер расплескивал похлебку. Тогда и случилось необычайное: всем разрешили перейти границу строящегося лагеря и укрыться под крышей деревянного барака. Это лагерь БII в. Тут закончилась раздача остывшего обеда. В оставшееся время женщины выжимают одежду, с которой струями течет вода, растирают друг другу спины. В глазах у многих тоска и страх. На этот раз никого не согрел суп, посиневшие тела дрожат от холода. У одной из бельгийских евреек, пятнадцатилетней девочки, вдруг начинается приступ лихорадки. Она лежит, вся промокшая, на земле, губы ее стиснуты, тело бьется в ознобе. На ней только платье и туфли. Если бы она съела хоть немного супа и не лежала вот так, почти час на мокрой земле, если бы она двигалась, растиралась, чтоб согреться, возможно, ее удалось бы спасти. Но в ней угасло уже всякое желание жить. Превозмогая приступ озноба, девочка почерневшими губами шепчет по-французски:
– Мама, смерть идет.
А смерть действительно приближалась – она была уже совсем рядом, но ей предшествовало страдание. Свисток, возвестивший окончание обеда, не заставил девочку сдвинуться с места. Не подействовала и палка капо. Лежащих принято считать в лагере саботажниками, и палка – единственное средство увещевания этих, подчас уже умирающих людей. Когда же наконец до сознания капо дошло, что это все-таки не саботаж, не упрямство и не лень, она приказала двум еврейкам бросить девочку на кучу мокрого гравия. Там ее кое-как усадили, подсыпав гравий под запрокинутую голову. Тело девочки, нежное и холеное, уже стало приобретать серый оттенок и безжизненно поникло, когда капо снова попыталась заставить девочку подняться. К вечеру на теле проступили сизые подтеки от ударов, и, прежде чем начальник оповестил свистком об окончании работы, девочка скончалась.
Если кто желает осмотреть лагерь в самом городе Освенциме, то ему – если у него здоровые ноги – лучше всего пристроиться с утра к колонне, которой велено таскать доски. Это смешанная польско-еврейская колонна. Причудливой погребальной процессией, длинная, печальная и однообразно серая, движется она между лагерями, перенося доски из склада в Освенциме ко вновь выстроенным баракам в Биркенау. Мимо будки часового на перекрестке, через короткий тоннель, прорезающий каменное здание (впоследствии там проложили рельсовый путь), оставляя слева женский лагерь и справа тогда еще не заселенные лагеря, движется по дороге шествие с досками. Возле обсаженной цветами Blockführerstube колонна сворачивает вправо и шагает по серо-белой аллее – по обе стороны ее через равные промежутки стоят бетонные столбы, ровные, одинаковые, густо усеянные белыми изоляторами. Не везде еще протянута колючая проволока и подключен ток, нагнувшись, можно вместе с досками проскользнуть под проволокой на территорию строящегося лагеря БIIд.
Когда взгляд твой повсюду натыкается на бараки, проволочные заграждения, строящиеся лагеря, мечта о бегстве перестает быть реальной, превращается в фикцию, способную вызвать лишь горькую улыбку сожаления. Портится осенняя погода, и иные мечты все чаще зарождаются во время работы в сердце окоченевшего от холода узника: он мечтает о теплом чистом одеяле, в которое можно было бы закутать продрогшее тело, возвратившись в лагерь, о работе на каком-нибудь складе, где крыша и стены защищают от дождя, мечтает о смене белья, о сухой обуви, о кружке горячего чая.
Капли воды еще дрожат на листьях, но ветер уже разогнал тучи и расчистил небо. Колонна возвращается с работы. После целого дня, проведенного под открытым небом, в нос ударяет зловоние лагеря. Отравленный воздух ощущается иногда уже за несколько километров, напоминая об открытых ямах-уборных, о смраде у больничных бараков, о специфическом дыхании крематориев. Ветер внезапными порывами нагоняет зловонные испарения и разносит их далеко вокруг. Со всех сторон, насколько хватает глаз, стекаются колонны, серыми змеями ползут по полевым дорогам, по зеленым тропинкам cреди лугов, по насыпям среди трясин. Это возвращаются с работы заключенные Освенцима. В объявшей землю предвечерней тишине идут они, неся на плечах умерших товарищей. Мужчин на работе гибнет значительно больше, чем женщин, – с ними здесь обращаются еще безжалостнее. Едва ли не каждую мужскую колонну замыкает печальное шествие – те же самые короткие носилки, на которых таскают гравий или камень, используются часто для переноса умерших. Иногда трупы везут на тачках. Часто видишь: скрипит и вязнет в мокром гравии тачка, ее с трудом толкает узник – верный товарищ умершего. С одного борта тачки безжизненно свисает голова убитого, с другой стороны раскачиваются от толчков его ноги. Когда нет носилок и тачек, заключенные несут умершего товарища вдвоем: один забрасывает себе на плечи его ноги, другой руки – и так они тащат изогнутое, безжизненное тело. В воротах оркестр громко играет немецкие марши, мелодии навсегда западают в сердце, неизменно вызывая в памяти картину шествия смерти.
К вечеру, когда узницы возвращаются с работы, женский лагерь выглядит совсем иначе, чем утром. Как будто днем здесь происходило нечто страшное и непонятное. На земле между бараками в разных позах лежат молодые женщины. Их тела посинели, лица искажены гримасой смерти, за почерневшими, раскрытыми губами – стиснутые зубы. Чтобы добраться до своего барака, нужно их обходить, перешагивать, перепрыгивать через них – такое множество тел лежит повсюду, преграждая дорогу. На заголенных, раздвинутых в предсмертной судороге ногах еще виден загар летних месяцев, проведенных на солнце, вдали от концентрационного лагеря.
На вечерней поверке опять бесконечно долго перегоняют тяжелобольных из барака в барак, выстраивают их, складывают умерших. Считают тех, кто еще жив, и тех, кому сегодняшний день принес освобождение. Вечерняя поверка начинается при заходящем солнце, а кончается в полной темноте. Миновал день – на один шаг стал короче неведомый путь, который еще предстоит пройти. В темных бараках, полных шума и говора, царит лихорадочное возбуждение, здесь идет борьба – за кружку теплого кофе, за сухой угол постели, за лоскут одеяла – борьба за существование.
На проволочных заграждениях всех лагерей зажигаются огни, очерчивая причудливую карту смерти. Где-то вдали, в цыганском, а может, в чешском лагере громко звенит гонг к отбою. Но тишина никогда не опускается на этот гудящий улей. Тысячи людей, тысячи будничных дел, преследующих одну цель: спасение жизни, – клубятся в темных бараках и вокруг них.
А в вышине, над гулом лагерной жизни, над линиями колючей проволоки, которая тихим звоном неустанно напоминает о смерти, взвивается в небо столбами алого пламени огонь из труб крематория и зыбким пятном полыхает в темноте, словно факел, зажженный от человеческих тел.
Глава вторая
Это всего лишь грипп
Кто уходит на работу, проводя весь день по ту сторону проволоки и возвращаясь поздно вечером на короткие часы отдыха, тот, конечно, испытывает сполна невзгоды лагерной жизни, но все же ему неведомы еще все круги этого ада.
Мысль твоя, спеша по своему пути, проносится мимо чего-то очень важного, точно так же как ноги, устремляясь к своей цели, перешагивают через лежащих на земле больных. Нужно во что бы то ни стало позаботиться о множестве вещей, чтобы как-то облегчить себе завтрашний день в поле. Уже в воротах лагеря на закате солнца ты мысленно планируешь во всех подробностях, чем следует заняться сегодня вечером, и мысль твоя перекидывает мост над действительностью. В лагере живут одним днем. В этом странствии к неведомой цели идешь, как слепой, ощупью, от предмета к предмету, от утра до вечера, всю энергию свою вкладывая в то, чтоб суметь прожить день. Раздобыть котелок для воды, заполучить собственную миску и ложку, кусок брюквы к хлебу на завтра, обмылок – вот проблемы, от решения которых зависит не только самочувствие заключенного, но и жизнь его. Проблемы эти целиком поглощают те считаные минуты, которые заключенный проводит в лагере (не считая сна и поверки).