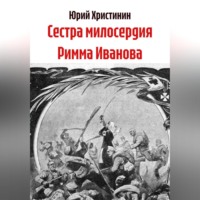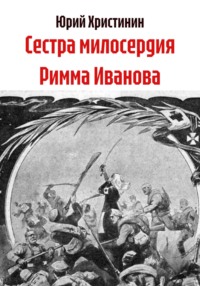Полная версия
У самого края
– Чего уж там, – вздохнула Субботина, надевая белый халат, – вы ведь все равно, как правило, этих следов не находите.
– Нет правил без исключений, – парируя, я, кажется, даже рассердился на ее остроту. – Дело в том, дорогая, что мы порою, в отличие от некоторых, имеем дело и с живыми людьми тоже.
Субботина нахмурилась, дернула носом и вошла в ванную. Но ей, конечно, пришлось подождать, пока двухметроворостый и сухопарый, словно гвоздь-«сотка», эксперт Железнов делал снимки места происшествия, а затем детализировал на отдельных кадрах элементы представшей перед нами картины. Вместе с группой за дело принимаюсь и я. Удостоверившись в том, что у входной в квартиру двери стоят сержанты, и, следовательно, никто лишний к нам не проникнет, я расставляю людей, постаравшись определить главные задачи каждого.
Отчасти все это, наверное, со стороны покажется махровым формализмом, но как прикажете иначе провести следственные действия, осуществляемые «в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела»? Ведь именно трактует наши задачи статья 178 Кодекса, а значит, я обязан безоговорочно подчиняться выработанным в течение многих десятилетий канонам осмотра места происшествия. А они, названные каноны, требуют, чтобы в подобном случае для обеспечения более полного охвата объекта, мы производили осмотр по спирали – от центра к границам исследования. Это – так называемый эксцентрический метод, имеющий ярко выраженный центр. Чаще всего – труп.
Я бы, конечно, так поступил и на сей раз. Но как быть, если этих центров два – один в ванной, а второй в комнате?
– Заприте двери в комнаты, – распорядился я. – Сержант, будьте добры, без моего ведома никого больше туда не впускать. Товарищ Железнов, вы закончили? Прошу учесть, что альбом с фотографиями нужен будет уже утром… А мы займемся пока мужчиной.
Я совсем было вступил в ванную, как на пороге появился прокурор.
– Ну, – спросил он недовольным голосом, – дела, вижу, идут?
Увидев перед собой Ивана Николаевича, я останавливаюсь: по закону Солодов имеет сейчас право взять руководство всеми следственными действиями в свои руки. Но старик, поняв мое промедление, только недовольно кашлянул:
– Давай, Андрей, действуй сам. Я со стороны посмотрю, вот тут постою, у окошечка, подумаю.
Он нередко поступал подобным образом. С одной стороны, это хорошо – доверяет прокурор уголовному розыску. А с другой – плохо, приходится рассчитывать на самого себя, ни за чью спину не спрячешься.
И я вошел в ванную… Через несколько мгновений к нам с Зайцевым присоединяет свои усилия Субботина. Выпустив воду, мы осторожно поворачиваем лицом кверху – это было не самое приятное из зрелищ!
Кровавое пятно на белом полотне рубашки находится слева, примерно на уровне четвертого ребра, почти под самой рукой. Предмет, которым была нанесена эта страшная рана, лежал здесь же, на дне ванны – это был самодельный финский нож с наборной рукояткой из желтой, зеленой и синей пластмассы, изготовленный, хотя и кустарным способом, но с достаточно высоким уровнем мастерства.
– Скорее всего, смерть наступила в результате удара ножом, – негромко говорит Субботина, – а утопление уже посмертно. Но пока об этом говорить с уверенностью рановато.
Зато о причинах смерти женщины она высказалась куда более категорично.
– Ее задушили, – Субботина указала на темно-коричневое пятно, растекшееся по всей окружности шеи. – Причем, скорее всего, сделали это просто руками…
Последний факт проливает некоторый свет на происхождение повреждений одежды, на необычное положение трупа.
Уже через пару часов я счел возможным отправить оба трупа в городской морг. Мы распахнули окна, и вечерний свежий воздух хлынул в комнаты, постепенно вытесняя удушливый запах, от которого лично у меня кружилась голова и постреливало в висках.
Ненадолго мы с Зайцевым вышли на лестничную клетку. Иван Николаевич присоединился к нам, достав из кармана порядком измятую пачку «Астры»:
– Угощайтесь.
Он всегда угощал нас своими дешевыми, «термоядерными» сигаретами, но я не помню случая, чтобы кто-нибудь взял предлагаемую ему от чистого сердца отраву, которую сам Солодов, впрочем, всем другим отравам на свете.
– Спасибо, – ответил я. – У меня свои, «Стюардесса».
Мы молча задымили.
– Ну, – спросил негромко Солодов. – Что думаешь?
Я пожал плечами:
– Рано думать, ничего ведь пока неизвестно. Одно несомненно – факт преступления перед нами.
– Да, – согласился прокурор, – это верно. Ну, раз уж ты на него волею судеб вышел, прошу тебя и заняться делом вместе с нашими следователями самым основательным образом. С твоим начальством я договорюсь, не беспокойся. Только смотри: здесь, сдается мне, немало сомнительных вещей, чтобы они тебя не ввели в заблуждение.
– Попробую, Иван Николаевич.
Солодов кивнул большой седой головой:
– Попробуй, мил друг, всенепременно попробуй. Главное – мелочей не упусти. Ну и мы со своей стороны, конечно, вовсю стараться будем…
Он уехал и увез с собой Субботину. А мы остались – продолжать работу, которой, судя по всему, в ближайшие часы конца не предвиделось.
На кухне мы обнаружили стоявшую на столе пустую бутылку из-под водки и два стакана. На тарелке – остатки рыбных дешевых консервов в томате, высохшие до степени подметки. В холодильнике еще полбутылки и кастрюля с супом.
Не менее старательно ползал молчаливый Железнов по полу, пытаясь высмотреть сохранившиеся следы возможного преступника, если таковые, разумеется, существовали в природе.
Но следы эти, как ни странно, на практике находятся гораздо реже, нежели в кинофильмах. В случаях же, когда сделать это все-таки удается, следователю легко быть умным. Узнав, к примеру, что длина обнаруженного следа равна двадцати семи сантиметрам, он умножает эту цифру на семь и с непередаваемым апломбом сообщает: «Рост преступника составляет сто восемьдесят девять сантиметров, либо что-то около этого». И все случайные зрители улыбаются с одобрением и восторгом: «И как это удалось определить современному детективу?!». Они не предполагают, что вся заслуга тут – в хорошем знании школьной таблицы умножения.
А вот мне почему-то всегда не везет! И сейчас по потной физиономии Железнова я прекрасно понимаю: опять двадцать пять! Опять – «реальных следов преступления не обнаружено».
Но Железнов продолжает неутомимо ползать уже по ковру, и вдруг понимаю, почему на брюках этого унылого неразговорчивого человека всегда образуются пузыри на коленях. Это, если только так можно выразиться, профессиональное заболевание его брюк…
– Продолжаем работу, – огорченно говорю я. – Давайте осматривать документы и вещи. Надо непременно установить, похищено ли что-нибудь из квартиры.
Время, кажется, уже перевалило за полночь, но нервы до предела напряжены и спать не хочется. Упаковав и приготовив для лабораторного исследования посуду на кухне, мы переходим в зал.
Зайцев в течение нескольких минут своим универсальным ключом открывает замки на шкафах, ящики письменного стола.
– Порядок! – говорит он. – Поехали дальше!
От статистического обследования мы постепенно переходим к динамическому – сдвигаем с места отдельные вещи, перекладываем предметы. Работаем как самые настоящие грузчики – буквально в поте лица.
В одном из ящиков стола я вижу небольшую шкатулку, которую и открываю. Пять золотых обручальных колец (откуда, скажите, у нас взялась эта мода – собирать золото «на черный день»? Ведь любая беда, даже всенародный голод не приходят сразу – с завтрашнего, скажем, дня. Сначала исчезает одно, потом другое). Свернутая вдвое пачка денег. Вместе с понятыми пересчитали – четыреста семьдесят пять рублей.
Понятые, кстати, два старика, убитые горем и растерянные. Ловлю себя снова на мысли: они не понимают, для чего нам в подобной неприятной ситуации понадобилось пересчитывать чьи-то деньги…
– Послушай, Анатолий, – спрашиваю я, – ящики все были на замках?
– Все до единого!
Это уже для меня странно. Если здесь имело место убийство, то преступник, наверное, попытался бы взять хоть что-либо из квартиры «на память» о своих жертвах. Ведь в шкатулке – золото, деньги. А, судя по всему, ящики никто даже не пытался вообще открыть…
К шести утра мы заканчиваем работу. Железнов молча собирает свое криминалистическое хозяйство, а мы с Зайцевым смотрим красными, как у белых кроликов, глазами друг на друга: мы не обнаружили в квартире ровно ничего сколько-нибудь достойного внимания.
Опечатать квартиру – дело одной минуты, и мы усаживаемся в машину, катим прямиком на работу.
– А что, Анатолий, – интересуюсь я, опять же единственно ради того, чтобы хоть что-нибудь говорить, – твой арабский коньяк с тобой?
Анатолий молча щелкает замком «дипломата» и протягивает мне пузатую бутылку с яркой этикеткой. Я беру ее в руки, разглядываю наклейку, даже зачем-то нюхаю металлическую крышку. И отдаю назад.
– Ну вот, – усмехается капитан. – Оба, значит, посмотрели, а пить так и не стали.
– Ничего, Толя, – успокаиваю я его. – Ты обязательно сохрани эту бутылку. Как только покончим с сегодняшним делом, так сразу ее и усидим. Всю усидим, до последней капли.
Зайцев кивает в знак своего полного согласия и снова прячет бутылку в «дипломат». В тишине машины громко щелкают два замка.
РАЗБИТАЯ ВЕРСИЯ
Когда я был еще мальчишкой и зачитывался знаменитым «Золотым теленком» Ильфа и Петрова, мне особенно запомнился там один эпизод. Помните, как толпа окружила в городе лжеслепого Паниковского? Над ним уже совсем была десница Закона, как Остап Бендер, обрядившись в милицейскую фуражку с гербом города Киева, решительно врезался в толпу.
– Вот этот? – сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину. – Этот самый, – радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. – Своими глазами видели. Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес: – Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели, записывайтесь! Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле при слове "свидетели" все правдолюбцы поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она разваливалась на глазах. – Где же свидетели? – повторил Остап. Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид.
Казалось бы, почему имело место подобное странное явление? Откуда, из каких темных и мутных перекрестков и перекатов истории пришла к нам боязнь быть свидетелем по делу, а то и просто дать показания, которые могут оказать реальную помощь следствию?
К сожалению, она откуда-то все-таки пришла и уходить назад почему-то не намерена, несмотря на то, что в правовом государстве, которое мы созидаем в поте лица своего, правовой статус свидетеля будет еще выше.
Но что уж греха таить! Один руководитель предприятия подозрительно косится на своего подчиненного, проходившего свидетелем по делу, и в его глазах так и светится невысказанное: «Откуда это ты, голубчик, видел в половине второго ночи пьяную драку на городской улице? Небось, и сам с дружками в каком притоне или подворотне пьянствовал, сам хорош, сам гусь лапчатый…»
А вот одна бабушка как-то сказала мне вполне честно и откровенно:
– И-и-и, милок, ничего-то я не помню, о чем ты меня пытать изволишь. А то и вспоминать не хочу, тоже правда. Еще чего, по своей стариковской тупости выложу, а они-то мне в бок ножичка и дадут, ножичка-то в бок…
Ладно, то была бабуся, и я ей вполне прощаю. Тем более, что в свое время она в гимназиях не обучалась. А вот как быть с теми, которые обучались? И даже не в старых гимназиях, а вполне современных и респектабельных институтах, университетах, академиях даже? Почему им приходится втолковывать прописные истины, чуть не на коленях умолять обещать, «гарантировать безопасность»? Да потому что есть еще среди нас люди, ко всему равнодушные и закостенелые.
Убили? Ну и что из того? Не меня ведь – знакомую… Обокрали? Ладно. Не меня же – соседа…
И вот передо мной – тип из этой самой породы. Наверное, у себя на работе он слывет человеком уважаемым и достойным всяческого доверия, пишет стенгазету и выступает на партийных собраниях. А вот передо мной он – неразговорчив, колюч и насторожен – человек, сам себя превративший в некое подобие ржаного, заплесневелого сухаря, который нипочем не размочить даже в крутом кипятке, ни за какие деньги не размочить!
– Значит, Василий Васильевич, – в который раз скучным голосом спрашиваю я, – несмотря на то, что вы живете прямо над квартирой Назаренко, и даже были в этот вечер в своей квартире, вы все-таки ничего не слышали?
– Не слышал, – сухо отвечает он. – Я в чужие дела нос совать не обучен. Так что не обессудьте, ничего я не знаю, ничего не ведаю.
– Но возможно вы видели, как кто-нибудь из супругов Назаренко пришел в тот вечер домой? Или наоборот, вышел из дому?
– Я ничего не видел. Ничего не знаю.
– А как жили между собой Назаренко?
– Не знаю.
– Говорят, Георгий Стефанович в последние годы злоупотреблял алкоголем?
– Не знаю. Ничего не знаю.
– А где вы работаете, Василий Васильевич?
– Ничего я не знаю, – автоматически отвечает он с нескрываемой неприязнью в голосе, но, вдумавшись задним числом в суть вопроса, спохватывается: – Извините, на шестнадцатой автобазе. Главбухом.
– Что ж, Василий Васильевич, – вздыхаю я, – идите, вы свободны. Откровенно говоря, не завидую я вашим коллегам.
– Это почему? – поворачивает он голову на тонкой шее.
– Не знаю. Ничего я не знаю.
Недоуменно пожав плечами, он выходит из кабинета участкового, где я временно обосновался. Он ушел, вполне уверенный, что избежал серьезных неприятностей, и что его наверняка хотели «втянуть» в какую-то скандальную историю.
Тоже мне типчик!
Бессонная ночь и поведение этого стареющего дурня приводят меня в раздражение, и я, чтобы успокоиться, поднимаюсь со стула, прохожу взад-вперед по кабинету.
Обычно я предпочитаю вести беседы со свидетелями в привычной для них обстановке – на работе, дома. Там люди, как правило, легче идут на разговор, быстрее раскрываются – в том, видно, им родные стены, как всегда, помогают. Но на сей раз я изменил своему правилу: апартаменты участкового находятся по соседству с домой, где имело место преступление. Тяжесть же его была столь огромной, что я и так рассчитывал на полное взаимопонимание со стороны собеседников.
Мой помощник – участковый уполномоченный лейтенант Васильков – оказался толковым парнем. Он быстро, в коротких и точных словах обрисовал мне всех, кто живет в одном подъезде с Назаренко, обеспечил их явку. И вот теперь я сижу за его столом…
Успокоившись немного, открываю дверь:
– Пожалуйста, следующий!
Входит уже знакомая мне Анна Ивановна. Под глазами у нее – синие круги страха. Но пришла она ко мне, насколько я понимаю, вовсе не для того, чтобы сообщить нечто новое: все, что знала, она выложила еще вчера в управлении. Сегодня же она поставила целью кое-что разузнать у меня.
– Ах, боже мой! – воскликнула она. – Неужели вы так и не найдете, кто убил Светочку?
– Во всяком случае мы очень постараемся сделать это, – холодно отвечаю я. – А теперь вспомните, пожалуйста, дорогая Анна Ивановна, ровно четыре дня тому назад, то есть седьмого августа, не слышали ли вы в квартире соседей каких-либо подозрительных, либо просто необычных звуков?
– Нет, не слышал, – скороговоркой отвечает она. – А как по-вашему, какой-такой подлец убил Светочку? Я лично думаю, что это сделал он сам, изверг Назаренко. Вечно, знаете ли, пьяный, как зюзя, омерзительная такая личность! Да еще и Светочку заставлял пить с собой за компанию, а у нее, знаете ли, такая больная печень…
Про печень и зюзю я уже слыхал и потому поднимаюсь с места, всем своим видом показываю Анне Ивановне, что считаю наше свидание оконченным.
– А что же все-таки будет тому, кто убил Светочку? – не понимает моего настроения, упрямо продолжая сидеть, посетительница. – Я бы повесила его прямо на базарной площади. А вы?
– Вполне солидарен с вами, – отвечаю я и протягиваю ей руку. – До свидания, Анна Ивановна, мы весьма благодарны вам за бдительность и помощь. Если понадобитесь, мы вас побеспокоим.
Она неохотно протягивает мне руку, поднимается со стула. Чувствую: мое поведение ей не нравится. Но в дверях она снова останавливается, открывает широко глаза:
– Боже мой! – патетически восклицает она. – А вдруг ее убил кто-нибудь из жильцов нашего дома? Как полагаете? Я бы вам очень рекомендовала учесть это вариант!
– Учтем, обязательно учтем, спасибо за хороший совет, – провожая, я даже слегка подталкиваю ее к двери, взяв под локоток. – Вы только не волнуйтесь, сделаем все, как надо. Следующий, пожалуйста!
Передо мной – невысокого роста мужчина с коротко подстриженными аккуратными седыми усиками и двумя рядами орденских планок на сером пиджаке.
– Александрович. Это – фамилия. А зовут Сергеем Петровичем, – отрывисто представляется он. – Знаю, молодой человек, отлично знаю, что вас интересует. Сам был четыре года народным заседателем. Готов незамедлительно сообщить вам сведения, которыми я располагаю.
– А вы ими располагаете?
– Да, располагаю, – скромно, но с гордостью в голосе произносит он, пожимая плечами. – Иначе я просто не стал бы отнимать у вас столь драгоценного времени. Итак, вас интересуют события вечера седьмого августа?
– Вы, кажется, угадали.
– В таком случае, хочу поставить вас в известность, что в интересующий вас вечер в квартире Назаренко была попойка.
– Откуда вы об этом знаете?
– Я живу аккуратным образом под ними, – усмехается Александрович, – хочешь-не хочешь, а принужден слушать то, что в их квартире происходит. Уши ватой, знаете ли, не приучен затыкать.
И слава богу, что не приучен! Хоть один что-то слышал… Я вопросительно смотрю на него. Мужчина устраивается на стуле поудобнее.
– Вы позволите, я произведу курение? – и, не дожидаясь моего разрешения, достает из кармана пачку старомодного «Казбека». – Не могу, поверите ли, отвыкнуть. Хотя сейчас в шестьдесят пять лет негрешно и отказаться от данной губительной привычки. Поверите ли, сердчишко начало пошаливать, давление прыгать… У вас с давлением, надеюсь, все нормально? Это хорошо, молодой человек.
Он с наслаждением закуривает, а я предусмотрительно подсовываю ему пепельницу.
– Так что же у них было?
– Да-да, – спохватывается он. – Что было? Попойка, молодой человек. Они шумели, ругались. Балконы у них и у меня были открыты, а я несколько раз выходил курить, и все, поверите ли, слышал. Она упрекала его в постоянном пьянстве, а он кричал, что скоро убьет ее.
– Не припомните, в каких именно выражениях?
– В каких? Позвольте, позвольте… Да, он кричал, что непременно убьет ее, и ему за это ничего не будет, так как он принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Потом… Ну, потом что-то не вполне цензурное… Глупости, словом.
– Глупости, – со вздохом соглашаюсь я, начиная понимать, что супруг, кажется, во всем случившемся невиновен. – Но почему же ничего не слышала их другая соседка, Анна Ивановна?
– Ха! – иронически усмехается Александрович. – И что эта уважаемая дама могла слышать? Для того, чтобы слышать, надо находиться, как минимум, неподалеку от места, где идет разговор. А все наши пенсионерки в погожие вечера вон за тем столиком, в дальнем углу двора юбки протирают, жир в задах наращивают, да нам, грешным, кости перемывают… В лото режутся до поздней ночи, а их кавалеры за другим столом «козла» забивают. Они на крышку даже лист железа приколотили, чтобы больше шума от каждого удара было.
– Жилец снизу тоже забивал «козла»? Ваш сосед?
– Все мы в одном подъезде – соседи… Но вообще-то он – из другой породы. Он ведь пока еще даже работает. И, по-моему, – Александрович доверительно наклоняется к моему уху, – по-моему, работает он не совсем благородно.
– Это в каком же смысле? По женской части слаб, что ли?
– Ворует! – убежденно восклицает Александрович, – наблюдая, какое впечатление его вывод произведет на меня. – Он всех знакомых талонами на бензин за полцены обеспечивает! Где он их берет, те талоны, как вы считаете? Не сам ведь печатает!
Я пожимаю плечами и делаю пометку в блокноте: не мешало бы, в самом деле, попросить ребят из службы БХСС, чтобы проверили подпольную хозяйственную деятельность главбуха.
– В тот вечер, кроме голосов самих супругов Назаренко, не слышали ли вы голосов, принадлежавших третьим лицам? Были ли, короче говоря, у ваших соседей гости?
– Не, – выдыхает с некоторым огорчением Александрович. – Чего не слыхал, того сочинять не стану. По-моему, они были вдвоем.
Оформив протокол, громко читаю его и даю Сергею Петровичу на подпись:
– Ознакомьтесь, пожалуйста.
– Зачем же? – удивляется он. – Вы читали – слушал я вас внимательно. Все так и было, как вы записали.
И ставит внизу размашистую огромную подпись. Я тут же невольно улыбаюсь: почему это у людей маленького роста всегда длиннющие, с удивительными хвостами и экзотическими росчерками подписи? Возможно, в этом сказывается их стремление к некоему самоутверждению, желание хоть в чем-то доказать свое несомненное превосходство над другими смертными.
– Следующий!
– Следующий!!
– Следующий!!!
На последний мой призыв входит сам лейтенант Васильков. Он смотрит на меня глазами, цвет которых целиком и полностью подтверждает справедливость носимой им фамилии, и говорит:
– Все, товарищ подполковник! Больше никого нет.
– Разве мы опросили всех, кто живет в одном подъезде с Назаренко?
– Всех взрослых, – подтверждает он. – Тринадцать квартир.
– А их в подъезде пятнадцать. По три на этаже. Опросили тринадцать. Где еще одна? – интересуюсь я, впрочем, без всякого энтузиазма.
– Ерунда, – отвечает Васильков, – для вящей убедительности даже рукой махнув. – Не представляет никакого интереса. На самом первом этаже живет гражданка Барварина. Она ничего не могла слышать или видеть.
– Старуха?
– Да нет, наоборот, только она сейчас на море укатила, – отвечает Васильков. – Уже несколько дней назад. Соседи говорят, что в Сочи, но точно этого никто не знает. Оттуда же я ее вытащить не могу?
Я киваю в знак согласия головой, складываю в папку бумаги, и чисто механически интересуюсь:
– А когда же она все-таки уехала?
– Дня четыре назад. Во всяком случае, до всех этих… событий.
– А что она за человек?
Участковый смеется:
– О, это человек из песни! Знаете, есть такая русская народная – «Молодая вдова в хуторочке живет»?
– Вдова? – вежливо поддерживаю я разговор с офицером. – И вправду молодая?
– И даже красивая. Тридцать два года, помоложе вас будет. Вышла лет семь назад замуж за одного отставного полковника, которому, разве что, в дочки годилась. Вселилась в эту его квартиру. Лет пяток назад возлюбленный супруг повелел ей долго жить, а сам отошел в лучший мир.
– Наверное, он сделал это, не имея на теле ни единого, свободного от рогов и рожек места, – смеюсь я.
– Это уж как пить дать. Тут сомневаться не приходится. Очень общительная дамочка.
– Жаль.
– А что ей было делать? – вскидывает ресницы Васильков. – С этим дедком чай по вечерам пить, да его воспоминания о Семене Буденном слушать, а самой по ночам холодный душ принимать, да? В девицах, будучи замужем, остаться?
– Не будьте циником, лейтенант, – зеваю я. – Впрочем, ты меня неправильно понял. Жаль, что она все-таки укатила. А то бы зашли в гости, познакомились.
Васильков смеется:
– Это можно, она гостям всегда рада. Даже мне. Как прикатит – сразу вам позвоню.
На том и кончился опрос свидетелей. Мало он мне дал, очень и очень мало!
– Почти ничего, – задумчиво подводит итог моей вылазке Иван Николаевич. – Что ж, так тоже бывает…
Он смотрит отсутствующим взглядом в угол кабинета, потом берет со стола пачку «Астры», протягивает мне:
– Одолжайся.
– Спасибо. У меня свои. «Стюардесса».
Мы молча дымим в течение какого-то неопределенного промежутка времени, а потом Солодов поднимается с кресла:
– Вот помню, – говорит он, – сразу после войны тоже довелось расследовать одно дело об убийстве. Женщину убили. С месяц, поверите ли, вертелся вокруг да около, пока…
Он глубоко затягивается и начинает кашлять. А я незаметно вздыхаю: опять начались воспоминания! Любит, ох как любит наш прокурор ссылаться на «дела давно минувших дней». Но что поделаешь, слушать надо!
– Пока, – успешно справившись за пару-тройку минут с приступом кашля, продолжает Иван Николаевич, – пока не установил, что из ее квартиры убийца все-таки взял одну-единственную речь.