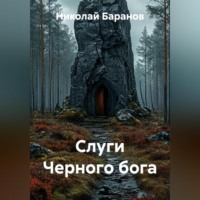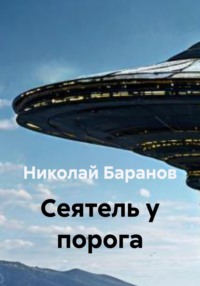Полная версия
Демиург местного значения
Атака оказалась самоубийственной, как стало понятно мгновение спустя. Атака на готовых к ней румийских пехотинцев, это не атака на них же с тыла на марше, как это было несколько минут назад. Метров за двадцать до строя, степняков встретил залп пилумов. Первые ряды всадников с грохотом доспехов, предсмертными воплями и диким конским ржанием рухнули на землю, взметывая в воздух рыхлый песок. Скачущие за ними, по большей части, сумели перемахнуть через сраженных товарищей, но плотный строй, при этом, неизбежно расстроился, да и скорость разбега основательно замедлилась. Поэтому до первой шеренги румийцев доскакала уже рыхлая кучка всадников числом чуть больше половины, от начавших атаку. Здесь их встретил плотная стена щитов с торчащими из-за них копьями. Степняки честно пытались пробить лошадьми эту стену, но, оставив на копьях еще десятка полтора своих товарищей, откатились назад. Остановились они рядом со мной и Хегни, с бессильным ужасом, следящими, за развернувшейся трагедией. Уцелело их не больше десятка.
Хулагу осадил своего пошатывающегося вороного прямо передо мной и быстро соскочил с седла. У жеребца, словно только этого и ждавшего, подогнулись ноги, он издал ржание, полное боли и упал на бок. Из двух глубоких ран на его груди, пузырясь, струились потоки крови. Вождь степняков обхватил голову умирающего коня и что-то зашептал ему в дрожащее ухо.
Атака, обошедшаяся степнякам так дорого, дала главное – время. Отступающие варанги и славы почти допятились до корабельных причалов. Бой теперь шел правее нас. Но из лощины показался еще один отряд пехоты, где-то в сотню человек, который бегом направился в нашу сторону. Легионеры, наступающие вдоль берега, так же перешли на бег. Пора было подумать о спасении оставшихся в живых степняков, ну и себя, любимого. Я оглянулся на реку, прикидывая, какой корабль для этого выбрать. У ближнего к нам причала покачивалось довольно крупное судно, на нем, пожалуй, должны были уместиться даже лошади. Но, самое главное, с корабля нам призывно махали какие-то люди, то ли, остававшийся на нем экипаж, то ли, спасшиеся из палаточного городка, беглецы. Разницы, в общем-то, никакой, главное – судно готово к отплытию. Тронув за плечо, стоявшего на коленях рядом с умирающим жеребцом, вождя кочевников, я сказал:
– Надо уходить, Хулагу. Быстро уходить.
Тот поднял голову. По щекам степняка текли слезы. Вытерев лицо рукавом, он кивнул, вынул из ножен на поясе кривой кинжал и быстро, с силой вонзил его вороному куда-то под ухо. Конь всхрапнул и судорожно вытянулся. Хулагу вскочил на ноги и скомандовал:
– Спешиться!
Степняки спрыгнули с лошадей в готовности выполнить следующую команду вождя. Тот вопросительно глянул на меня. Я показал на судно, с размахивающими руками, людьми. Хулагу кивнул, гаркнул команду и махнул рукой в сторону корабля. Степняки, не мешкая, двинулись в указанную сторону, ведя лошадей в поводу. Последний вел сразу двух коней, в одном из которых, я с удивлением опознал подаренного мне вчера вороного жеребца. Надо же, сберегли коняшку. Румийцы, которых мы, небезуспешно сдерживали, тем временем, уже приблизились на расстояние броска пилумов. Пора было ретироваться. Понимая, что первыми ни Хегни, ни Хулагу не побегут, пришлось возглавить драп. За спиной я с облегчением услышал топот двух пар ног. А то, в голову моим новым друзьям вполне могла прийти самоубийственная идея прикрыть отход посланника богов. Прогрохотав по доскам причала, мы перепрыгнули через борт, уже начинающего отваливать, корабля. Довольно сильное течение подхватило суденышко и, разворачивая его носом вперед, потащило за собой. Подбежавшие к берегу румийцы, издали крик ярости и разочарования.
– Пригнись! – рявкнул Хегни.
Укрывшись за бортом, я услышал частый стук, втыкающихся в него, метательных копий. Потом раздался вскрик боли и ржание нескольких, видимо, тоже раненых лошадей. Оглянувшись, я увидел вставшего на дыбы, пятящегося степного коня, с торчащим из бока копьем. Он допятился до борта, с диким ржанием превалился через него и, взметнув фонтан брызг, рухнул в воду. Вторая лошадь билась в агонии на палубном настиле. Досталось и молодому парню, из экипажа судна. Пилум попал ему в солнечное сплетение и тот, беззвучно открывая рот, корчился на палубе.
Второго залпа не последовало – течение унесло наш корабль уже достаточно далеко. Я высунулся из-за борта – посмотреть, как дела у варанго-славов. Человек десять из их отряда сдерживали у причала, наседающих легионеров, а остальные заканчивали посадку на судно, вроде драккара. Такие корабли я видел дома на картинках в исторических книжках. Осталось их, похоже, не более полусотни. Как только основная группа забралась на корабль, воины, сдерживавшие румийцев – кажется, это были варанги – одновременно развернулись, закинули щиты за спины и припустили, к начинающему отчаливать, кораблю. Трое не добежали, настигнутые пилумами. Остальные, перескочив через расширяющуюся полосу воды между судном и причалом, укрылись за высоким бортом. Драккар, подхваченный течением, понесло вслед за нашим судном. У преследователей, похоже, не осталось сил даже на крик разочарования. В след полетело только несколько копий, никого, вроде бы не задевших.
Нам пилумов можно было уже не опасаться. Я поднялся во весь рост и осмотрелся. Кораблик, на который погрузился Туробой с раненой Валькой несло течением метрах в ста впереди нас. Начинало светать. Ночь, которой, казалось, не будет конца, уходила, давая дорогу раннему утру. Маленькая желтая луна пропала – видимо, зашла. Голубая луна в предутренних сумерках поблекла и тоже клонилась к горизонту. Еще были видны самые яркие звезды. Корабль наш, вслед за речным руслом повернул направо и мне стал очень хорошо виден городок Святый, казавшийся теперь, почти родным. Городок горел. Горел весь. Румийцы, похоже, не поленились поджечь каждое здание. Языки пламени метались над гибнущим городом, сталкивались, выбрасывая в сереющее утреннее небо, рои искр, которые в горячих восходящих потоках воздуха взлетали, казалось, выше редких, розовеющих в лучах пока невидимого солнца, облаков.
Глава 13
Под копытами Воронка чавкала грязь. Черная, жирная. Вся почва вокруг Кийграда сплошной чернозем. Тот самый, образец которого хранится в моем мире в качестве эталона, кажется, в Париже. Вот только под дождем, да еще перемешанный тысячами ног и копыт этот самый чернозем превращается в налипающую на ноги в виде безобразных лаптей, тестообразную массу. А дождь лил, почти не переставая, пятый день. Местные старожилы говорят, что такое было в последний раз лет тридцать назад. Ну, правильно – еще только конец лета, даже не начало осени, а зарядили такие, типично осенние дожди. Да и южнее стольный град, привычной мне средней полосы России. Тем более, рановато для осени. Но дождь лил. Мелкий, промозглый, переходящий, периодически, в ливень.
Местный плащ, в который я пытался кутаться, почти не помогал. Промокшая одежда неприятно холодила спину. С капюшона, пришитого к плащу и наброшенного сейчас на голову, капали, разбиваясь о переднюю луку седла, крупные капли. Бр-р-р! Мерзость! Может попробовать разогнать эту серую пелену, закрывшую небо. Вдруг местные боги даровали мне и такую способность? А ну-ка! Я представил, как, появившийся откуда-то ветер, разметывает тоскливую небесную хмарь, открывая чистое голубое небо и еще теплое летнее солнце. Ветер не появился, облака остались на месте. М-да…. Здешняя погода мне явно неподвластна.
Ехал на дарённом Хулагу вороном жеребце. За прошедший месяц, мы с ним подружились (с жеребцом, в смысле, Хулагу уехал собирать степное войско нам в помощь), и я даже научился держаться в седле – благо, стремена здесь уже придумали. Держался, правда, не слишком уверенно. В том смысле, что особо резких движений старался не делать, галопом не скакать, про то, чтобы верхом повоевать, даже не думал. Туробой каждый день тренировал меня, но успехи пока были весьма скромными.
Ехал по главной улице лагеря ополченцев, собирающихся у Кийграда. Меня сопровождали десяток воинов из ближней дружины, Хегни – их командир, ну и, конечно, мой безмолвный и преданный друг-телохранитель – Туробой. Выбираться из теплого сухого жилья нам пришлось для торжественной встречи очередного крупного воинского контингента, прибывшего издалека – из самого северного славского княжества Новугородского. Со столицей, расположенной на реке Волхв и носящей до боли знакомое название – Новуград. Ну да я уже перестал удивляться таким совпадениям – Новуград, так Новуград. Москвы здесь нет, интересно? Не слышал. Наверное, еще рано для нее. Пока все окружающее сильно напоминало языческую Киевскую Русь.
Новуградцы у славов считались крутыми воинами. Чуть слабее кийградцев, как считали жители южной столицы. Считали ли так северяне, не знаю. Надо будет спросить. С ними шел довольно многочисленный отряд варангов-добровольцев. Большая редкость, надо сказать: местные викинги предпочитали выступать в качестве наемников, а в идеале – в качестве вольных пиратов. В крайнем случае, торговцев.
Платить этим добровольцам, конечно, все равно придется. Об этом мне намекнул Велимир, уцелевший в ту ночь, когда был сожжен, городок Святый и перебита куча народа. Остался жив и Лотар, хоть и получивший несколько ран. Не слишком тяжелых, впрочем. Под его команду я и предполагал отдать, прибывающих с Новуградцами, варангов. Под воеводу-слава они не пошли бы – невместно. Блин! Вообще, собирающееся ополчение войском назвать можно было весьма условно. Каждый князь, князек и князишка мнил себя охрененным полководцем, даже если приводил полсотни человек, причем, иногда кое-как вооруженных. Шли в подчинение к кому-то они весьма неохотно. Но и влившись в какой-либо отряд, периодически учиняли свары, которые приходилось разбирать мне лично. Для этого не хватало авторитета даже у Велимира. Не смотря на всю похвальбу, тогда на пиру, влияние его ограничивалось только княжеством царских славов. И влияние это было весьма относительным. Беспрекословно повиновались князю Кийград и его окрестности, отстоящие от столицы километров на семьдесят-сто. Справедливости ради надо сказать, что войско, им собранное, было пока самым многочисленным, хорошо вооруженным, а, главное, относительно дисциплинированным. Посмотрим, что из себя представляют знаменитые Новуградцы.
Остальные воинские контингенты, как я уже говорил, не радовали. Желание драться, конечно, было – этого не отнять. Видно румийцы достали местный народ конкретно. Но желания, сами понимаете, мало. Если дружины князей и бояр вооружены еще более или менее прилично, то отряды прочих добровольцев прибыли на войну кто с чем, некоторые просто с дубинами. У Велимира оказался припрятан от румийцев небольшой арсенал, но его хватило меньше чем на два дня. Кузницы работали день и ночь, выковывая оружие, но этого мало.
Обучены ратному делу пейзане, составлявшие более половины численности войска, были весьма слабо. У городских жителей дело обстояло получше. И с вооружением, и с ратными умениями: дважды в год в городах проводились, своего рода, учения, или воинские сборы. На случай осады. Да и в походы князья их периодически рекрутировали в качестве пехоты. Помимо этого, в ополчение вливались ватаги местного аналога казаков, сильно похожих на разбойников. Эти воевать умели. Да и вооружены были прекрасно. Вот только с дисциплиной у них совсем никак.
Боевое взаимодействие в войске – главное. А у нас с этим сплошная проблема. Каждая дружина, сама по себе, вполне боеспособное подразделение. И воины в ней, в общем, умелые. Но вот собранный из пяти таких дружин, полк действовал откровенно слабо – я проверял. В атаке он рассыпался на все те же, его составляющие дружины, которые действовали каждая сама по себе. А что уж говорить про действия нескольких полков, слепленных подобным же образом….
С пехотой полегче: необученность крестьян тут играла на руку. Они без возражений и амбиций выстраивались в ряды, пытаясь изобразить, что-то вроде местной разновидности фаланги. Такой строй здесь был изобретен давно и назывался просто и незатейливо – стена. Ребята честно старались, но получалось пока не очень – понятно, нужно время. Горожане, этой премудрости обучены. Кто лучше, кто хуже. Но их не очень много – пять с небольшим тысяч. Самых умелых из них я командировал в качестве учителей-командиров к крестьянам. Из оставшихся сформировал отборный пеший полк, в четыре с половиной тысячи бойцов. Численность крестьянской пехоты приближалась к двадцати тысячам. Из них сформировал еще четыре полка.
Кавалерии получилось, где-то пятнадцать тысяч, и была она сведена в четыре конных полка по три тысячи всадников в каждом, плюс три полка легкой конницы по тысяче человек, сформированных из казаков-разбойников. Их я предполагал использовать для разведки и в качестве этаких полупартизан для беспокоящих действий в тылу противника.
Ну, о боевых качествах этих полков уже сказано. Главная проблема – неуправляемость всей этой массы людей. Пока не удавалось организовать их даже здесь, в лагере: шатания кого попало, где придется; самовольные отлучки на несколько дней, иногда даже целых отрядов; нежелание учиться отрабатывать боевое взаимодействие; появились даже случаи грабежей окрестных жителей, хотя, снабжение Велимир организовал вполне приличное. Теперь я понимаю, как два потрепанных монгольских тумена Субедея и Джебэ в 1223 году на реке Калке разгромили наголову сто тысяч (если верить летописям) сборного войска южнорусских князей. Организованность, налаженное взаимодействие и дисциплина войск во все времена – превыше всего.
Я пока не делал резких движений – не до конца разобрался во всех тонкостях местной жизни, боялся наломать дров. Да и великий князь воспринимал все происходящее, как должное. Думалось, что притрется народ друг к другу, пообвыкнет, возникнет боевое братство, чувство локтя. Какое там! Теперь, спустя почти месяц после начала сбора ополчения, я начал понимать, что само собой все это безобразие не устаканится. Нужно принимать меры. Меры жесткие и непопулярные. И во что это выльется – только местным богам и известно. Но выходить против стальных легионов румийцев с этим, прости Господи, сбродом – чистое самоубийство. И для меня, и для войска.
Кстати, о румийцх. Кийград от них, понятно, уже очищен. Еще до нашего прибытия на тех двух лодьях (Туробоя с Волеславой пересадили к нам). Волной народного гнева. Было это, правда, не так уж сложно: почти весь гарнизон отправился с карательной миссией в Святый. Остававшиеся две центурии, поняв, что запахло жареным, построились в черепаху – прямоугольник, закрытый со всех сторон щитами, и ощетинившийся копьями. В таком строю, они промаршировали от Цитадели, или, по-другому – Горы, расположенной на высокой прибрежной возвышенности, через Подол до западных ворот, миновали их и ушли по Готской дороге на северо-запад. В городе местный народ атаковал их вяло – зачем, и так видно, что убираются восвояси. Да и лезть с дрекольем (нормальным оружием в начале восстания еще мало кто обзавелся) на эту железную черепаху – почти верная смерть. За городом румийцев совсем оставили в покое.
После такого вот, почти бескровного восстания, кийградцы пару дней праздновали обретение долгожданной свободы. Могли и дольше, но, к счастью, нашелся человек, прекративший вакханалию и подготовивший город к обороне: ожидалось возвращение от Святого румийского отряда – бывшего гарнизона Кийграда. Человеком этим оказалась супруга Велимира – Мирослава. Весьма харизматичная женщина. Ничем не уступающая, в этом смысле, мужу. Причем, красавица, красивая зрелой женской красотой. Похожая на Вальку, кстати. Или, правильнее сказать, Валька похожа на нее. На вид ей лет тридцать, но учитывая возраст дочки, реально должно было быть больше.
В общем, собранное в срочном порядке небольшое, но хорошо вооруженное из мужниных заначек воинское подразделение, быстро навело в городе порядок. Потом Мирослава мобилизовала наиболее боеспособных из жителей для круглосуточного дежурства. Предосторожности оказались не лишними: румийский гарнизон таки вернулся. Постоял полдня под стенами. Командиры его, теперь в качестве осаждающих, оценили высоту, и крепость этих самых стен, количество защитников и их решимость драться до конца. Потом посчитали свои силы. Было этих сил не слишком много. Во всяком случае, для штурма такого крупного города. Пообедав, румийцы свернули лагерь и убрались все по той же Готской дороге, по которой три дня назад ушли две сотни их соратников. А на следующее утро прибыли мы, изрядно пропетляв по извилистому руслу речки, на которой стоял град Святый и, поднявшись километров семьдесят вверх по течению Донепра к Кийграду.
Встретили нас радостно, хоть и сумбурно – не ждали, не готовились. Румийцы, прежде чем уйти, успели наврать, что расправились и со мной, и с великим князем. Так что уныние, воцарившееся в городе, сменилось буйной радостью по поводу появления уже похороненной, было, надежды нации в лице меня.
Прокуратор румийцев, руливший оккупированными славскими княжествами и сидевший вместе с не слабым войском в Лютеции, расположенной, как я уже говорил, в верховьях Донепра, судя по местным картам примерно на месте нашего Смоленска, спускать всего этого безобразия, естественно, не собирался. Шпионы Велимира доносили, что румийское войско вот-вот выступит из этого осиного гнезда в немалой силе.
В организованный мной «генштаб» нашего ополчения входили: ваш покорный слуга, великий князь царских славов Велимир, местный верховный жрец Осмомысл, великий князь вятичей Храбр, пять, считающихся удельными, но по факту, вполне независимых князей довольно крупных княжеств, десяток опытных воевод и мой Хегни на закуску. Так вот, «генштабисты» посчитали, противостоящие нам силы румийцев. Расклад получался не внушающим оптимизма. Шесть полнокровных легионов по шесть тысяч пехотинцев плюс по десять турм конницы в каждом легионе (еще триста шестьдесят человек). Итого, где-то тридцать восемь тысяч. Четыре отдельные алы тяжелой кавалерии по восемнадцать турм в каждой. Это еще две с половиной тысячи. Пятнадцать тысяч вспомогательного войска. Из них пять тысяч сарматской тяжелой конницы, пять тысяч тяжелой готской пехоты и пять тысяч легких конных герульских стрелков. Сколько получилось? Правильно: сорок одна тысяча пехоты и почти пятнадцать тысяч кавалерии. Подчеркну, прекрасно обученной и хорошо вооруженной пехоты и кавалерии, скованной железной дисциплиной. Еще к ним присоединился бывший Кийградский гарнизон, не понесший особо ощутимых потерь, в карательной операции в Святом. А это еще около полутора тысяч конницы и пехоты.
Что имели мы, я уже говорил: около двадцати пяти тысяч пехоты, двадцать тысяч из которой – только начавшие обучение, плохо вооруженные крестьяне и пятнадцать тысяч разношерстной конницы, состоящей из небольших отрядов, норовящих действовать в бою каждый сам по себе.
Народ, правда, продолжал прибывать. Новуградцы, встречать которых мы сейчас ехали, насчитывали в своих рядах, по имеющимся сведениям, тысяч пять хорошей пехоты и с тысячу конницы. Плюс около трех тысяч варангской пехоты. Если бы у нас был еще месяц, то численность нашего горе-войска могла достигнуть ста тысяч. Опять же Хулагу через пару недель должен был привести не менее пятнадцати тысяч степной конницы. Тогда был бы шанс взять противника, хотя бы числом. Но месяца у нас в распоряжении не имелось. Румийцы со дня на день должны были выступить, а может уже, и выступили. Вести от соглядатаев доходили с запозданием – радио в этом мире еще не изобрели. Ждать врагов здесь нельзя. На безлесной, относительно ровной местности, которую представлял собой ландшафт под Кийградом, нам ловить нечего – раздавят строем, выучкой и организованностью. Садиться в осаду с такой прорвой народа – вымрем с голоду. Запасов в городе мало, а собрать приличное их количество, опять-таки не хватит времени.
Нужно перехватывать румийцев на пути сюда, в неудобной для правильного боя местности, в идеале, напасть внезапно, из засады, когда войско будет на марше. Примерно так я и сформулировал задачу для своего «генштаба». Думали и спорили до хрипоты они целый день, а к вечеру пригласили ознакомиться с плодами своего творчества.
Румийцы не любили перемещать свои войска по рекам, в отличие от славов, или тех же варангов. Видимо, они считали, что сильные строем легионы на небольших речных судах становятся слишком уязвимыми для привычного к такому виду боя противника. Потому всегда двигались пешим порядком. Наверняка так они будут двигаться и в этот раз. Причем, маршрут их легко предугадать. Прямая дорога от Лютеции до Кийграда имелась только одна. Существовала она еще до румийского завоевания. Правда, в качестве, так называемого «зимника» – дороги, которой пользуются, в основном, зимой в качестве санного пути. Завоеватели довели ее до ума – спрямили, подсыпали, и даже вымостили. Снабдили паромными переправами водные преграды, построили почтовые станции. Шла дорога, судя по карте, почти точно с севера на юг, чуть отклоняясь к западу. Здешние румийцы, так же, как и римляне моего мира оказались, малость двинутыми на почве хороших дорог. Хотя, скорее тут имел место чистый прагматизм – для быстрой переброски войск и качественной почтовой связи в любое время года и в любую погоду нужна сеть дорог с твердым покрытием, вот и все.
Итак, единственный путь – эта самая дорога, называемая местными жителями Лютецкой. Две трети ее северного участка проходили по лесистой, местами болотистой местности. Именно там, по мнению «генштаба», и предполагалось встретить врага. Один из воевод, основательный такой мужчина, больше центнера весом, с лопатообразной черной с проседью бородой, обширной лысиной, хитрыми, спрятанными под густыми бровями, глазами, по имени Дубыня хорошо знал тамошние места и предложил конкретное место для засады. Находилось оно где-то на полпути к Лютеции. Чтобы успеть туда добраться раньше румийцев выступать нужно было еще вчера. Но мы ждали Новуградцев, а еще ночь им нужна для отдыха. Так что выйти получится только завтра с утра.
Наш, с позволения сказать, воинский лагерь располагался на берегу Донепра, сразу за укреплениями Посада, ниже по течению. Здесь же располагались причалы. Очень удобно – припасы доставлялись, в основном, по реке, далеко таскать не надо. Да и пополнение, по большей части, прибывало тем же водным путем. Сюда вскоре должны были прибыть и северяне. Паруса их судов на реке наблюдатели засекли уже с полчаса назад, о чем и сообщили. Вот для их встречи и пришлось выбираться под дождь. А что поделаешь – политИк.
Организацию торжественной встречи, как обычно, взяла на себя Валька. Сейчас она суетилась у причалов, инструктируя девиц, подносчиц хлеба-соли. Здесь, оказывается, тоже есть такой обычай, причем относятся к нему не в пример серьезнее, чем у нас. Есть в нем, как выяснилось, какой-то сакральный смысл. Я свой инструктаж уже получил. В общем, ничего нового – стандартная речь, таких произнесено немеряно, разбуди среди ночи, отбарабаню без запинки.
Со здоровьем у моей единственной выжившей жрицы, слава богам, все в порядке. Недаром воздаю славу – местные боги наградили меня еще одним неслабым ништяком, действующим, как и умение биться на мечах, по моему первому хотению. Чего, к сожалению, нельзя сказать про остальные, явленные при испытаниях, способности. Особенно жалко утерянные почему-то летательные навыки: как вспомню тот единственный полет – дух захватывает. Так вот, о ништяке. За три дня, которые мы добирались до столицы, Вальке нисколько не получшело, скорее, наоборот. Кровь из поврежденного легкого, правда, идти перестала, но повысилась температура, причем, судя по всему, весьма существенно. Появился кашель с кровавой мокротой, от еды девчонка отказывалась, только пила. Видимо, в поврежденное легкое проникла инфекция, вызвавшая пневмонию. Наверное, могли бы помочь антибиотики, только где их здесь взять? В общем, Валька таяла на глазах. Ее отец, Велимир совсем извелся, почти не отходя от дочери. Даже не думал, что в этом суровом средневековом владыке имеется столько любви и нежности. Я тоже, конечно, переживал: привык к ней заразе, что ли?
Уже когда мы вошли в Донепр, утром третьего дня плавания, отчаявшийся Великий Князь подошел ко мне и прерывающимся голосом попросил сделать, хоть что-нибудь. На мое, вроде бы резонное недоумение, Велимир попытался встать передо мной на колени и предложил обратиться за помощью к богам. Ведь я же их посланник, как ни как. Железный, надо сказать довод. Подумалось: а пуркуа бы, собственно, и не па? Как говаривал один мой знакомый знаток французского из прежней жизни. Что я теряю, кроме авторитета, в случае неудачи? А Вальку, все же жальче, чем авторитет.
Сказано – сделано. Я, как всякий, уважающий себя врачеватель, помыл руки забортной водой, вытер их услужливо протянутым кем-то рушником и решительно вошел в полотняный шалашик, расположенный в середине нашей ладьи, позади мачты и, служащий каютой, для единственной среди нас женщины. Валька была в сознании, но выглядела откровенно плохо: на щеках выступил нездоровый лихорадочный румянец, лицо похудело, черты его заострились, дышала тяжело, а в груди при каждом вздохе что-то клокотало и хрипело. Черт! Ближайшую ночь, похоже, моя боевая подруга не переживет. Ладно, приступим. Знать, только бы еще как? Я опустился на колени перед низким ложем и взял в ладони ее руку, лежащую на груди. Рука была горячей. Очень. Валентина судорожно вцепилась в мою кисть, словно ища помощи, и с видимым трудом прошептала: