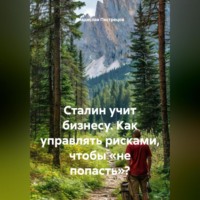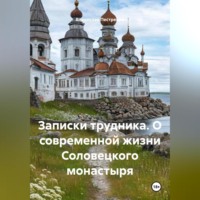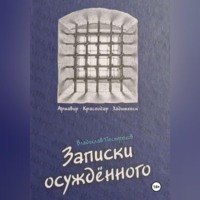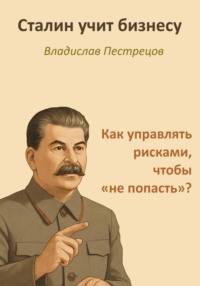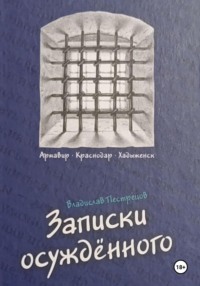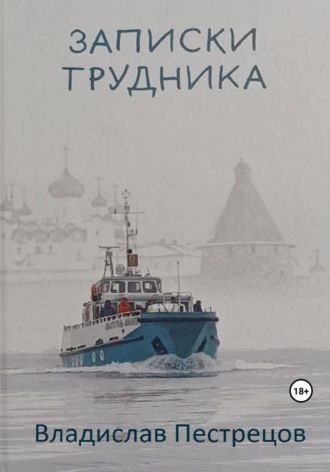
Полная версия
Записки трудника. О современной жизни Соловецкого монастыря
«Если не можете быть святыми, будьте хотя бы вежливыми»
Емилиан СимонопетритскийКонечно же, не жадничать, делиться посылками, и тем съестным, чем благословляют трапезарии. Здесь в обители конфеты, шоколад, сладости ценятся также как валюта в миру. Почему-то в монастыре их ешь с особым удовольствием и больше чем дома. Золотое правило: сначала надо подумать и только потом что-либо сказать, предложить, спросить или сделать. Монастырь – это место святое, и поэтому, если что-то сделаешь не так, не отнесешься к ближнему с любовью – бесы тут как тут. Они раздуют мнимую обиду как воздушный шар, столкнут братию между собой. Обиды здесь тонкие, на духовном уровне, из-за таких вот мелочей, потом думаешь: «А из-за чего, собственно, возникла обида на брата?» Что он спросонья не ответил на твое приветствие? Или он включил по своей забывчивости электрический чайник, когда ты отдыхал? Или сделал тебе легкое замечание по растопке печки? Не дал почитать свою книгу? Или у него, относительно тебя скользнуло по неосторожности слово? Отстаивает свое мнение? И вот такие мелочи раздувает враг в обиду. Если поддаться такой обиде, то братия перестают приветствовать, замечать друг друга. В первую очередь это тяжело для себя самого, уходит молитвенный настрой и внутренний мир.
Батюшки наши говорят, что если ты на кого-то держишь зло, то Богом не принимаются твои молитвы, посты и бдения. Даже исповедь и причастие твое пред лицом Творца – не чисты. Пока искренне не примиришься с братом, тебя оставляет мир в душе, и обмануть самого себя не получается, потому что совесть тебя обличает. Расскажу о себе, а не о других: – ох как тяжело потом смиряться и просить прощение! Потом молишься о спасении этого брата – не день, и не два, а бывало, по 2–3 месяца ежедневно в утренних и вечерних своих молитвах, исповедуешься в осуждении – тоже многажды. И только потом эта темная туча уходит из сердца. Я говорю о действительно искреннем примирении, а не о внешнем, когда «прощаешь» только на словах. Зная свою обидчивость и вспыльчивость, зная как тяжело вырывать это жало осуждения и обиды. Как-то раз я сознательно пошел на другой менее болезненный грех вместо возможного конфликта с братом по келии. Дело было так: Когда мой сокелейник с какой-то женщиной с мира обсуждал цвет мебели по телефону – не 15 минут, не 30 минут, не даже 50 минут, а целых час сорок – я понял что «закипаю». Волна гнева прихлынула к моему лицу, и сердце застучало учащенно. Я убогий понял, что сделать замечание брату с любовью – не смогу. Тогда чтобы избежать большего греха, я выбрал меньший грех – спустился на первый этаж, к себе на склад и «заел» свой стресс, выпил 2 кружки чаю со сладостями и конфетами. Также открыл баночку минтаевой икры. Потом вернулся и лег спать, не сделав замечание товарищу. Да, чревоугодие и тайноедение – это плохо, но этим я избежал конфликта с ближним. Поэтому лучше смиряться и уступать, так как обиды оставляют шрамы на сердце.
Психологические проблемы в миру решаются проще, там действует враг человеческий топорно и грубо, без «хирургического пинцета и скальпеля». По послушанию, я как-то поехал на одну стройку снимать размеры оконных проемов. Работали мастера с города. Вдруг слышу отборный, трехэтажный мат в адрес коллеги, коллега – тоже не лыком шит – отвечает в том же духе. Крича друг на друга минут пять, я смог разобрать среди сквернословия только одно, поддающееся цензуре слово. И это слово было «ж…». А через полчаса эти двое мирно беседовали в курилке и смеялись. Ну, уж если очень тяжелый конфликт – выпьют они после работы пузырь «водовки», и останутся друзьями. А в монастыре конфликты деликатны, это не ругань. Тем более не драки, а раздражительность и искание дополнительных несуществующих недостатков в брате.
В монастырь приезжают в основном искренние, любящие Бога не на словах, а на деле, смиренные и кроткие люди. Или приезжают такие как я – «сбитые летчики», у которых обитель это последний шанс, но таких меньшинство. Вот представьте – у вас семья, работа, дети, родственники – много неотложных дел и забот. Вам дают отпуск 15–20 дней. Что делает нормальный человек? Он отдыхает, едет к родственникам, занимается домашним хозяйством, дачей, или сидит дома – «зависает» в сети, смотрит телевизор, пьет с друзьями пиво, ходит на рыбалку. А сюда приезжают «ненормальные» – в лучшем смысле этого слова. Люди встают утром в 5 часов, ложатся вечером в 10–11 часов, и все это время келейные молитвы, храм, послушания с перерывом на трапезы. Работают самоотверженно, на совесть, во Славу Бога, не курят и, тем более, не пьют спиртное. Соблюдают распорядок дня, постятся. Если захочешь узнать человека, надо понаблюдать как он ест. За все время пребывания в монастыре, я не видел, чтобы кто-то на трапезе взял себе сразу два лакомых куска: рыбы, масла, бутербродов с икрой, которые благословляются по двунадесятым праздникам, или набрал себе салата не подумав о ближнем. Кушают все молча, со смирением, слушая чтение жития святых. С молитвою садятся за обеденный стол, с молитвою и встают после приема пищи, или как здесь называют, после трапезы. Некоторые трудники не говорят дома никому, что едут в монастырь, не говорят из-за своего смирения, а всем сообщают, что мол едут к родственникам или в пансионат отдыха. Знаю лично супругов, которые приезжают постоянно потрудиться уже в течение 12 лет, и приезжают на 2–3 летних месяца. Вот так эти люди скромно и незаметно для других несут свой подвиг. Не секрет, что миряне, особенно молодежь «подвизаются», теряя свое здоровье, на несколько иных городских ночных бдениях. И, к сожалению, все эти увеселительные «службы» на дискотеках, в клубах представляет им исконный враг человечества – дьявол. Один батюшка на проповеди рассказал следующий анекдот. Читатель, наверное, сразу напрягся, думает: «Хм, где батюшка, а где анекдоты, как такое может быть?» И, тем не менее, автор «записок» эту историю расскажет:
Некий человек умер. Предстал он перед Господом. Бог посмотрел на его жизнь – человек как человек. Плохого много не сделал, да и хорошего тоже, жил рассеяно, в Храм не ходил, редко, невнимательно молился… Господь и спрашивает его по своему милосердию:
– Ну что, человече, куда тебя направить – в ад или рай?
А тот отвечает:
– А можно мне посмотреть и то и другое?
– Ладно, смотри.
Ангелы берут душу усопшего и показывают Рай: – красота, покой, мир, все Славят Бога, благоухание и благолепие. Потом душу спускают в Ад. И он видит: длинный стол, уставленный всевозможными яствами, коньяк, водка, музыка, много девчонок, все курят и хохочут, идет «дым коромыслом». Опять душа человека предстоит перед Творцом. Создатель спрашивает:
– Что, видел?
– Видел.
– Что выбираешь?
Мужик отвечает:
– Мне и Рай понравился, но в Аду как-то веселее…
Господь говорит:
– Ну что же дело твое, твой выбор.
Душа оказывается в аду. И там начинаются мучения. Бесы хватают его, сажают в котел. Начинают издеваться. А человек завопил:
– Стойте, стойте, а где стол, где выпивка, где девочки, где «дым коромыслом»!!??
И старший бес отвечает:
– А это у нас реклама такая.
Избави Бог нас немощных от таких «ночных бдений» и такой рекламы.
У наших монастырских трудников считается плохим тоном часто пропускать службы и не молиться. И дело даже не в отце настоятеле и не в отце благочинном, который всемерно поддерживают дисциплину и молитвенный дух. Дело в совести каждого. На себе испытывал: Когда я выполнял «всенощное Афонское бдение с поклоном на всю кровать» и ленился встать на утреннюю службу, становилось необыкновенно стыдно. Совесть жгла меня пока я, кряхтя, все-таки не вставал и не шел одеваться.
А вообще на Соловках очень хорошо:
Зима у нас отличная, начинаются первые снегопады в октябре, заканчиваются в мае. С середины ноября и до середины января стоят прекрасные зимние дни. «Дни» – это сказано несколько преувеличено: – до 10 утра и после 15 часов ходишь с фонариком. Солнышко иногда показывается на горизонте с 12 до 13 часов – как же мы ему радуемся. Зато ночью бывают красивейшие северные сияния. Лето иногда тоже бывает – месяц – полтора, но правда, не каждый год. Лично я видел падающий снег 18 июня. В июне само-собой всегда топим печки. На море можно купаться, взяв благословение у отца благочинного – сколько угодно, сколько хошь, правда вода в нем не прогревается выше четырех градусов. Зато летний день у нас вместительный – вмещает в себя около пяти месяцев. Бывает, созерцаешь купола кремля, освещенные солнцем в два часа ночи.
Встаем мы в 5 часов утра, ложимся спать в 22–23 часа, службы каждый день утром и вечером, в остальное время – различные послушания и келейная молитва. На все надо брать благословение, в том числе и на прогулки по природе. В субботу работаем до обеда, а в воскресенье – выходной день с утренней литургией с 9 часов до, примерно, 12 дня. После обеда, в выходной можно прогуляться, порыбачить или поспать до вечерней службы. В общем, ребята – жизнь здесь – сплошная благодать и радость!!! Да, забыл! На некоторых скитах – еще благодатней! Там вообще как таковых выходных дней нет – только послушания и молитва. Бывает, стоишь зимой в Храме и согреваешься… земными поклонами. Помещение трудно протопить и на ночных службах с 23 до 330 утра столбик ртутного термометра не поднимается выше 5–7 градусов.
Кто-то может подумать: «Да что-то зело сурово у вас как-то. От себя могу только сказать – здесь вечная Пасха, в душе твоей – «Христос Воскресе!», и трудности превращаются в радость. В Соловецком монастыре встречаются Небо и Земля! Уж простите меня убогого за высокие слова. Здесь человек оказывается среди единомышленников, среди искренне верующей братии. Встречаются такие уникальные, чистые души, что ими любуешься и славишь Бога, что он еще не оставил такую «закваску», таких молитвенников и подвижников. Здесь нет мирской суеты, здесь человек лечит свою душу!
Пушлахта
Это легендарное послушание. Счастливчики могут на него попасть, только один раз в год, когда монастырь летом заготавливает дрова на зиму. Отбирают туда наиболее крепких и спортивных людей до 40 лет, и только добровольцев. Меня благословили случайно, потому что не хватало людей.
К этому времени я за месяц несколько окреп, но все равно имел еще красноватого оттенка нос и выпирающее пузо, хотя несколько и сдувшееся – результат физических послушаний и отжимания на руках.
Позвольте благословенные, чуть поподробней рассказать о моей физкультуре. Наверняка в монастырь поедут и «сбитые летчики» с пошатнувшимся от стрессов здоровьем. И укрепить им мышцы будет необходимо.
Отжимание – это универсальное силовое упражнение, и им легко заниматься в любых бытовых условиях и в удобное время. Нет необходимости в тренажерах и спортзалах. Отжимание много времени не занимает – в совокупности в день минут 15, не больше, легко регулировать постепенное увеличение нагрузок изо дня в день. Так что я рекомендую. За 30 дней после приезда, я уже отжимался по 50 раз за подход и общее количество отжиманий довел до 400 (С подоконника 70 см от пола). Лучше всего конечно делать земные поклоны с молитвой, но это для истинно смиренных подвижников, так как земные поклоны не должны совершаться без должного состояния духа, к этим поклонам надо дорасти духовно, и выполнять с любовью и кротостью, и главное, по благословению духовника. Еще раз простите за отступление от рассказа.
И так меня еще раз предупредили. Что будет нелегко и в суровых условиях, но я все же рискнул поехать, и не пожалел. Уже потом, на следующий год, я говорил здравицы этому послушанию, всемерно делал рекламу этому послушанию для новых трудников.
– Вот только там – настоящее мужское послушание во Славу Бога!
– Вы еще такого не испытывали!
– Машина времени! Возвращаешься на 500 лет назад!
– Поезжайте, и даже когда будете умирать, пушлахта будет стоять у вас перед глазами!
…И все в том же духе. Благодаря, наверное, моим восторженным воспоминаниям, на следующий год недостатка в желающих поехать туда не было, да еще выбирали, кому ехать. И я не кривил душой, помимо работы на грани своих тогдашних физических сил, я ощутил в этом путешествии необыкновенную радость. Старшим у нас был благодатный иеромонах отец Зосима, он со своим родным братом, теперешним духовником братии, отцом Германом, стояли у истоков возрождения монастыря в конце 80-х годов прошлого века. На это послушание он ездит по благословению Наместника обители, каждый год.
Погрузились мы на монастырский кораблик. Погода стояла теплая, небо ясное, ко мне еще раз подошел наш разводящий по работам, инок N, человек высокой духовной жизни, сын известного человека в стране и спросил:
– Точно ли я смогу поехать, смогу ли я выполнить тяжелое послушание?
И я ответил:
– Да, отче!
Пушлахта находится примерно в 120 километрах к востоку от нашего архипелага, в очень глухом месте, где сохранились еще традиции и предания беломорских поморов. Шли мы к этой деревеньке по морю часов десять. Сначала вся братия находилась на палубе, пообедав, мы все наблюдали резвящихся на водной глади нерп и белух. Блик солнца искрился на темно-синей, ультрамариновой акватории моря. Некоторые кормили чаек оставшимся после обеда хлебом, и их гвалт еще долго нас сопровождал.
Маленький кораблик слегка покачивало, и он шел ровно и уверенно. Белые ночи были в самом зените. Часов в 9 вечера, я от мерного покачивания катерка часто заморгал глазами, начал зевать и захотелось отдохнуть в горизонтальном положении – попросту поспать. Выделили мне… – ну даже и не знаю, как эту щель назвать… Под палубой отсек 70 см × 1,5 метра, высотой 60 см, где нельзя было даже присесть. Можно добавить, что надо мной на полу палубы расположились ночевать другие трудники, так что мой входной люк был застлан матрасами, и я даже при желании не смог бы подняться наверх. Короче, людям, страдающим клаустрофобией, здесь не понравилось бы.
Я подремал и попросился на воздух, разбудив спящего брата наверху. Выбрался на палубу – была полночь, и я замер в восхищении от увиденного пейзажа! Благословенные! Я исколесил всю Россию, и был в 24 странах мира – от необитаемых островов в Индийском океане до Парижа, от Африки до Скандинавских стран, – меня трудно удивить. Но такое я увидел первый раз в своей жизни. Это было как продолжение сна… Представьте – вокруг лилово-сиреневая бездна, из-за туманности не видно горизонта. Мы как бы невесомо зависли в мареве красивейшего заката. Ты стоишь на борту волшебного корабля и будто летишь и растворяешься в лиловом океане фантастического мира. Время остановилось, и ты не знаешь где мы – на земле или в раю, или на какой-то волшебной, далекой планете. Оторваться от зрелища невозможно. Сам собой открывается рот и, не помня ничего на свете, забываешься в этом сиреневом блаженстве.
Прибыли на место в 2 часа ночи, нас отвезли ночевать. От усталости, и от пережитого мной сиреневого видения, я быстро уснул. Ночлег нам с братиями отвели в большой светлой комнате, помещение находилось в «тутошнем» одноэтажном деревянном здании – в центре поселка. Сия избушка была построена в 60–70 годах прошлого столетия. Помимо гостевой нашей комнаты здесь находились еще и кабинет главы деревеньки, продуктовая лавка, закуток под почту. «Удобства» на улице. А так как было начало июля – комариное время, то рекомендовалось ходить в эти «удобства» с «насекомоотпугивающим» средством. Возле этого центра, в 20 метрах бил фонтаном источник с природной, минеральной водой. Вода была с некоторым специфическим вкусом. Братия этой водой умывалась, чистила зубы, мы ее пили и набирали ее для чая. Утром по пробуждению совместно помолились. Каждый по очереди вычитывал одну из молитв в утреннем правиле. Потом нас отвезли к деревянной пристани, к нашему кораблику, как впоследствии оказалось – к нашему неизменному месту трапезы.
Деревня расположена на берегу Беломорской губы, в первозданном девственном месте, вокруг леса где на 150 километров нет других поселений. Надо сказать, что люди здесь уникальные. Вот мы все говорим о себе – мы русские. А каждого «копни», даже не углубляясь в родословную, и окажется, что отец наполовину мордвин, а бабушка с Украины, и прадедушка – татарин. Здесь же люди – русские в настоящем смысле этого слова, в связи с обособленностью и удаленностью поселения. Деревня эта с историей, ей уже 300 лет. Поколений 10–12 местных жителей рождается без примесей других народов. Попадаются среди аборигенов блондины с голубыми – васильковыми глазами, они разговаривают на своем каком-то местном диалекте, скороговоркой, и с непривычки смысл сказанного не всегда понимаешь и переспрашиваешь. Летом число жителей примерно человек двести пятьдесят, на зиму остаются в четыре – пять раз меньше. Дом в центре с землей стоит около 700 тысяч рублей. Дикие животные особенно не заморачиваются с обходом поселка. Мы кормили с рук в самой деревне лису. Крупный лось проплыл вдоль нашей пристани. Стая диких гусей пролетела от нас в 20 метрах. Каждое утро наши трудники приносили повару по ведру рыбы. Эх, за обе щеки, как говориться мы вкушали жаренную красную рыбу, треску, камбалу. Повар баловал нас и ухой. Как выглядела сама деревня? – Откройте журнал по фито дизайну, и вы увидите Пушлахту! И это не преувеличение. Лично я засомневался, что все увиденное выросло просто так – по дикому. Но местные говорили: «Что ты, братик! Да никто ничего не сажал, само выросло». Представьте, – стелящийся по земле кустообразный можжевельник окаймляет красивые большие глыбы гранита, и все это на фоне березок и сосен, среди цветника и многотравья. Думаю, что только профессионал – специалист мог так подобрать композицию, посадочного материала и выдержать пропорции. Вдобавок ко всему этому великолепию – такие фито композиции гармонично вписываются к бревенчатым срубам и загородам, подернутых патиной седины…
Местное начальство нам выделило «Газон», который возил поленья от места распиловки стволов сосен к причалу. Какого он был года выпуска, я затрудняюсь сказать, похоже, он был ровесником сталинских репрессий. Древний антиквариат, с которого сыпалось все. И вот в течение шести благословенных дней мы возили на пристань поленья и ими загружали наш кораблик. После полной загрузки он уходил на Соловки и приходил новый катер с понтоном.
Так как я в последние годы тяжелей портфеля ничего не поднимал, у меня быстро выступила испарина. Появилось учащенное дыхание и высунутый от усталости язык. И в первый же день я оступился, и моя нога попала в щель между причалом и понтоном, от ушиба она опухла в области колена. Сразу возник помысел – мол, пора «валить» назад в монастырь – поподвижничал и хватит. Но как-то стало стыдно уезжать, остался, хотя меня и отговаривали. К тому же приехал отец Порфирий, наш Наместник Обители, и я, вдохновленный его присутствием, больше не помышлял ретироваться. Утром, по пробуждении, все оставшиеся пять дней – у меня болело все. Для того чтобы подняться с кровати на работу, я просыпался на полчаса раньше общего подъема. Сначала открывался один глаз, через 3 минуты другой, с величайшим трудом, я как-то умудрялся раскачаться и сползти с кровати на четвереньках – на этот финт у меня уходило минут десять. Минут через 15 я уже мог принять вертикальное положение и идти умываться.
Братия меня на работе оберегала, тяжелые поленья они грузили сами, а мне давали более легкую работу. Как это мне было необычно, что кто-то искренно сочувствует и заботиться обо мне. Именно в Пушлахте я и начал по-настоящему возрождаться духовно, оттаивать душой. Вечером мы ходили на местную речушку купаться, водичка была чистейшая и студёная, и после трудного рабочего дня буквально возрождала нас.
К шестому дню послушания меня силы стали оставлять, да и ребята уже не так энергичны, как в первые дни. Нам всем подавал пример отец Зосима. Несмотря на возраст и перенесенную несколько лет назад операцию, он был бодр и радостен. Братия старалась оберегать его от какой либо работы, но это нам не удавалось, батюшка всегда рвался в эпицентр работы, и помимо своего руководства и ценных советов, умудрялся еще и работать с нами физически.
Перед отплытием на архипелаг он еще отслужил литию по усопшему в начале двадцатых годов прошлого века священнику местной церкви, при социализме превращенную в клуб и сейчас закрытую. Перед отплытием все думали, какая будет погода на море. Легенды ходили, что иногда трудники отсюда добирались до монастыря не за 10 часов, а за 30. К тому же последние 25 часов были на пустой желудок, так как содержимое его из-за качки на море быстро извергалось вон из организма. И организмы были несколько вялого вида, и лица были несколько бледного оттенка… Но нам благоволил Господь, мы пришли назад даже не за 10 часов, а за 8, по прекрасной погоде.
И вот я, как Том Сойер при покраске забора, рекламировал это послушание:
– Да это «жесть»!
– Да ты не выдержишь, сбежишь!
– Если ты читал книгу «Моя жизнь со старцем» Ефрема Филофейского, и возгорелся желанием пожить в подвиге – тебе там самое место.
И люди стали сами напрашиваться на это послушание. Желающих было больше чем надо. За пять рабочих дней через руки семерых человек (с учетом, что поленья нужно было загружать на машину, а потом выгрузить на понтон – платформу, сложив аккуратно), т. е. объем увеличивается в два раза, прошло примерно около четырехсот кубических метров дров. И я это путешествие всегда вспоминаю с радостью и теплотой в сердце!
Саватьевский скит
На нашем архипелаге, отделенном морем от материка издревле строились «пустыни» – скиты – места эти были как подразделения большого монастыря. Устав в скитах более строг, чем в общежительной обители, здесь собирались подвижники очень строгой жизни, они вели, как правило, затворнический или полу затворнический образ жизни. Простите меня за сравнение – но это как спецназ в армии. Не многие выдерживают такой суровый подвиг.
Само слово «скит» произошло от названия Скитской (Нитрийской) пустыни, в которой в эпоху расцвета египетского монашества IV–VII веков подвигались самые строгие отшельники, первым из которых был Макарий Египетский.
В мое пребывание в монастыре действовало семь скитов, разбросанных по островам архипелага, плюс к ним Макарьевская пустынь, в которой расположен ботанический сад. Я вкратце их перечислю: два на острове Анзере (Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты), один на острове Большая Муксалма (Сергиевский скит), четыре на острове Большой Соловецкий (Савватиева пустынь, Филиппова пустынь, Свято-Вознесенский скит на секирной горе, Исаковский скит). Я, грешный, наиболее часто благословлялся пожить на 5–7 дней в три из них – Сергиевский на Муксалме, Савватьевский и Исаковский скиты.
Зимой на Сергиевский скит я не ходил. О нем расскажу чуть позже. Мое любимое пристанище – баня в это время года трудно досягаема. Она чуть ли не до второго этажа бывает занесена снегом, и чтобы пройти эти 200 метров от главного корпуса скита, надо часа полтора времени, так как сугробы соответствующие. К тому же есть сложности с дровами для печки. Поэтому зимой там живет в подвиге только один монах – отец Моисей. Годами этот достойный монах стяжал благодетель нестяжательности и аскетичной жизни. Его быт даже монахи в монастыре называют суровым.
Когда наш архипелаг сковывался льдами Белого моря, застывали в ледяном панцире все 800 озер, я старался примерно раз в месяц благословляться в Савватьевский скит, а позже уже и в Исаковский.
Путь в Савватьево не близкий, зимой пешком – 4–5 часов ходьбы, примерно около 15 километров. Эта самая удаленная пустынь на Большом Соловецком острове. Именно на этом месте несли свой подвиг наши преподобные Савватий и Герман. Они впервые направились вглубь острова вдоль ручья, обрели здесь поляну на берегу озера, защищенную от холодных ветров. Поставив крест и устроив келию, они основали на острове первую монашескую пустынь, названную впоследствии Савватиева. Здесь преподобные прожили с1429 по 1436 год – семь годков. Автор не будет пересказывать их житие, лучше благословенному читателю прочесть о их святой жизни в многочисленных книгах и путеводителях по Соловкам.
Примечательна пустынь еще и тем, что с 1923 года в Савватиево было размещено подразделение СЛОНа для содержания около 250 политических заключенных. Поясню что СЛОН переводится как Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь были произведены первые расстрелы. В двадцатых, тридцатых годах – конечно на их могилах никто никаких крестов не ставил. Зато им поставил кресты – Сам Господь Бог. Вы наверное уже знаете, что на острове Анзер выросла березка – именно на Голгофо-Распятском ските, и именно в шаговой доступности от церкви Распятия Господня – Чудо Божие! Она выросла в виде геометрически правильного креста, ее я описывать не берусь, лучше купите открытку с фотографией этого чуда и вы убедитесь, что форма ствола дерева и ветвей – сверхъестественны. Но некоторые не знают, что еще есть дерево – крест на Соловках. Тоже в шаговой доступности, но уже другой церкви во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии в Савватиевском скиту. Это большое хвойное дерево, выросшее на месте расстрела заключенных. Крест – не такой явный как на березе, но он тоже геометрически правильный. В застойные времена при Советской власти – скит окончательно обветшал, остались лишь развалины. Но Господь милостив – послал сюда истинного подвижника на восстановление пустыни – отца Иакова (Макеева). Конечно, отцу Иакову была оказана поддержка из монастыря и патриархии, отец Наместник, отец Благочинный, мой батюшка, отец Нестор – всегда благоволили скиту. Даже наш Святейший Патриарх Кирилл – взял на особую заметку воссоздание комплекса. Но подвиг отца Иакова – неоспорим. Второе десятилетие он живет в полузатворье и молясь, ежедневно работает, работает, и еще раз работает. Из дней образуются недели, из неделей – месяцы, потом годы и десятилетия. Трудится этот монах самоотверженно, не покладая рук. Летом он на себя берет еще и бремя спасения душ детей-подростков из неблагополучных семей. До двухсот юношей приезжают с наставниками к нему потрудиться и обрести веру.