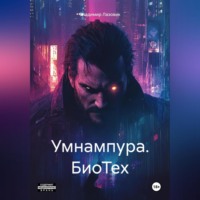Полная версия
На полу, на сгибе у стены, сидела маленькая девочка лет шести. Она была в смешной пижаме с динозаврами и, прикусив язык от усердия, пыталась приладить крошечный пластмассовый меч к руке игрушечного рыцаря. Увидев Катю, она не испугалась, а просто подняла на нее свои огромные, серьезные серые глаза.
– Он не хочет воевать, – пожаловалась она тихим, ясным голоском.
Катя невольно улыбнулась. Это была первая улыбка за последние сутки, и она почувствовала, как на мгновение треснула ледяная корка, сковавшая ее лицо.
– Может, он устал? – так же тихо ответила она, присаживаясь на корточки.
– Может, – согласилась девочка. – Меня Сашка зовут. А вас?
– Катя.
– А почему вы не спите, тетя Катя?
В этот момент из ближайшего отсека высунулась пожилая женщина в платке, ее лицо было добрым и измятым сном.
– Сашенька, я же просила тебя сидеть тихо! Не мешай людям. Извините, пожалуйста, – обратилась она к Кате. – Непоседа моя.
– Ничего страшного, – сказала Катя, поднимаясь.
– Едем к родителям, – вздохнула бабушка, в ее голосе слышалась усталость долгой дороги. – Из самого Питера трясемся. Они у нее в командировках вечно, а нас вот по бабушкам отправляют.
Сашка, услышав это, тут же вставила:
– Бабушка, а мы скоро приедем?
– Скоро, моя хорошая, скоро. Спи давай.
– Я не хочу спать, – упрямо надула губы девочка и снова повернулась к Кате, доверительно прошептав: – Я смотрю на лес. Он бежит за нами и никак не может догнать.
Эта простая детская фраза почему-то заставила Катю поежиться. Она посмотрела в окно, на мелькающие черные стволы. Лес и правда будто бы бежал за поездом.
– Спокойной ночи, Сашка, – сказала Катя и, кивнув бабушке, пошла обратно к своему месту.
Она снова забралась на свою полку. Краткий разговор с ребенком оставил странное послевкусие. Это было как короткий глоток свежего воздуха в душной комнате. Но слова девочки о бегущем лесе не выходили из головы. Катя закрыла глаза, и под мерный стук колес перед ее внутренним взором снова и снова вставала бесконечная, темная, бегущая за поездом стена деревьев.
Ее место на верхней полке больше не казалось убежищем. Оно стало камерой пыток, где единственным истязанием были ее собственные мысли. Образ маленькой Сашки и ее бабушки, их тихий разговор, их общая усталость от долгой дороги – все это, как ключ, повернутый в старом, ржавом замке, открыло дверь в прошлое, которую Катя так старательно держала запертой.
Волна воспоминаний нахлынула, теплая и болезненная одновременно. Ей снова шесть лет. Маленькая, курносая, с двумя тугими косичками. Она лежит в своей кровати в бабушкином доме, укрытая тяжелым лоскутным одеялом. За окном воет вьюга, рисуя на стеклах причудливые, морозные узоры. В комнате пахнет сушеными травами и теплым деревом от растопленной печки. Бабушка Клава сидит рядом на скрипучем стуле, ее руки, пахнущие хлебом и мятой, гладят Катю по волосам. И она поет. Негромко, чуть в нос, выводя странную, не совсем детскую мелодию. Это была не просто колыбельная. Это была какая-то старая, дремучая песня, похожая на считалочку, с неправильным, сбивающимся ритмом, который идеально ложился на завывания ветра за окном.
Слова всплыли в памяти Кати сами собой, непрошено, будто они всегда жили там, в самом темном уголке ее сознания, и просто ждали своего часа.
«Изморозь по окнам веет…»
Она прошептала первую строчку почти беззвучно, одними губами. Мелодия родилась сама, тягучая и заунывная. Она помнила ее. Помнила, как бабушка объясняла ей, что это очень старая песня, «чтобы всякая нечисть к дому не липла». Катя тогда смеялась, дергая бабушку за фартук, и не верила ни в какую нечисть.
«…и ничто нас не согреет…»
Катя поежилась, хотя в вагоне было тепло. Слова звучали пророчески. Ее действительно ничто не могло согреть. Ледяной холод вины поселился внутри, и от него не было спасения ни под одеялом, ни в этом теплом, натопленном вагоне.
Она перевернулась на другой бок, пытаясь отогнать наваждение. Но песня не уходила. Она крутилась в голове, как заевшая пластинка, подстраиваясь под мерный стук колес. Тук-тук. Тук-тук.
«…те, кто верит дуракам…»
«Дуракам», – мысленно повторила Катя. Она сама была такой дурой. Верила в свой успех, в карьеру, в то, что всегда успеет, что всегда будет «потом». Она верила в ложь, которую сама себе и придумала.
Последняя строчка пришла с новой волной воспоминаний. Бабушка всегда пела ее тише, почти шепотом, и ее глаза в этот момент становились серьезными и строгими.
«…их всех съест Баба-Яга».
Катя напевала эти слова про себя, и от них по коже пробежал холодок, не связанный ни с горем, ни с виной. Это был другой страх. Первобытный, детский, забытый. Тот самый, который она испытывала тогда, в шесть лет, слушая эту колыбельную и представляя себе страшную старуху, которая бродит по заснеженному лесу за окном.
Она не знала, почему вспомнила эту песню именно сейчас. Возможно, из-за разговора с Сашкой и ее бабушкой. Возможно, из-за чувства вины. А может, из-за этого бесконечного, черного леса, который бежал за окном поезда, не отставая ни на шаг. Она лежала в темноте, на своей верхней полке, и тихо напевала про себя жуткую колыбельную из детства, пытаясь этим успокоить боль, не понимая, что на самом деле делает нечто совершенно иное.
Она перевернулась на спину, и ее взгляд уперся в багажную полку над головой. Что-то было не так. Угол ее чемодана был приоткрыт, и из щели торчал белый, зазубренный краешек. Гребень. Катя была уверена, что застегнула молнию до конца. Она помнила этот резкий щелчок замка. Но вот он, торчит, будто специально поджидая ее взгляда.
Легкая дрожь раздражения прошла по телу. Даже вещи перестали ее слушаться. Она приподнялась, протянула руку и вытащила гребень из плена чемодана. Он лег в ладонь, знакомый и чужой одновременно. Кость была гладкой, отполированной сотнями, если не тысячами прикосновений, но при этом удивительно легкой. Поверхность была испещрена сетью тончайших трещинок, как старый фарфор. Катя провела пальцем по одному из зубцов. Он был острым, а его кончик крошился под легким нажимом, оставляя на подушечке пальца белый, пыльный след, похожий на меловую крошку. Этим гребнем, казалось, можно было рисовать на темной поверхности, как мелком.
Она поднесла его ближе к лицу, рассматривая в тусклом свете аварийной лампочки. Резная птица на рукоятке смотрела на нее пустыми глазницами. От гребня не исходило ни тепла, ни холода, он был абсолютно нейтрален, просто старый, ветхий кусок кости. Просто вещь.
Катя уже собиралась засунуть его под подушку, чтобы не потерялся, когда поезд слегка качнуло на стрелках. Ее взгляд невольно метнулся к окну. На долю секунды, на одно биение сердца, игра света и тени сложилась в кошмарный образ. В черном стекле, на фоне проносящегося леса, отразилось не ее лицо.
Там, за ее плечом, сидела старуха. Не бабушка Клава, с ее добрыми морщинками и мягкой улыбкой. Это было нечто другое. Лицо – высохшее, сморщенное, как печеное яблоко, с глубоко запавшими глазницами, из которых смотрела черная пустота. Безгубый рот был провален внутрь. Длинный, крючковатый нос почти касался острого подбородка. На голове – темный платок, из-под которого выбивались редкие седые космы. Образ был настолько четким, настолько реальным, что Катя почувствовала на затылке ее смрадное, ледяное дыхание.
Она резко вздрогнула, едва не вскрикнув, и обернулась.
Никого.
Позади была лишь стена вагона и темный проход. Она снова посмотрела в окно. Теперь там отражалось только ее собственное, перекошенное от ужаса лицо. Бледная кожа, огромные, испуганные глаза и огненный ореол растрепанных волос. Никакой старухи не было.
Сердце колотилось где-то в горле, бешено, оглушительно. Катя судорожно сглотнула. Галлюцинация. Просто игра света, отражений, наложившаяся на усталость и стресс. Конечно. Что еще это могло быть? Мозг, измученный горем, начал играть с ней злые шутки.
Она сделала несколько глубоких, прерывистых вдохов, пытаясь успокоиться. Руки мелко дрожали. Она посмотрела на гребень, который все еще сжимала в руке. Старая, безобидная вещь. Катя аккуратно положила его на узкую полочку у стены, рядом с подушкой. Подальше от себя, но так, чтобы он был на виду. Просто чтобы убедиться, что он больше никуда не «убежит» из чемодана. Она снова легла, отвернувшись от окна, и натянула одеяло до самого подбородка. Но чувство, что за ее спиной, в непроглядной тьме за стеклом, кто-то пристально смотрит, не проходило.
Тишину, которую Катя так отчаянно пыталась вернуть, разорвали неровные, шаркающие шаги в проходе. Кто-то шел от тамбура, тяжело опираясь на стены и поручни, и бормотал что-то себе под нос. Шаги остановились прямо напротив ее отсека.
– Да, Ален, да, я… да, я в поезде, – голос был молодым, но уже с характерной пьяной хрипотцой, слова произносились чуть растянуто. – Нормально все, чего ты? Сказал же, еду.
Катя приоткрыла глаза и посмотрела вниз через щель между своей полкой и стеной. В проходе, покачиваясь в такт движению вагона, стоял парень. На вид ему было лет двадцать. Короткая, почти ежиком стрижка открывала затылок с нелепой белой полоской незагоревшей кожи – след от фуражки. На нем были выцветшие армейские штаны и простая черная футболка, из-под которой виднелись острые, худые ключицы. Лицо у парня было простое, курносое, с упрямо сжатыми губами, но сейчас оно было раскрасневшимся от выпитого, а глаза блестели лихорадочным, нездоровым огнем. Он держал телефон у уха, а в другой руке сжимал наполовину пустую пластиковую бутылку с коньяком. Дешевым, судя по этикетке.
– Да не пьяный я! – возмутился он слишком громко, заставляя кого-то в соседнем купе недовольно заворочаться. – Устал просто. Год, Ален, год! Имею я право расслабиться? Я к тебе еду, дуреха. Подарок везу.
Он на мгновение замолчал, слушая ответ, и его лицо смягчилось. Упрямство ушло, сменившись почти детской, тоскливой нежностью.
– Я тоже скучал. Очень. Все, давай, а то связь плохая. Завтра буду. Целую.
Он сбросил вызов и шумно выдохнул, отхлебывая прямо из горла. Затем его взгляд, блуждающий и несфокусированный, наткнулся на Катю, которая смотрела на него сверху. Он неловко ухмыльнулся, пытаясь выглядеть бравым и уверенным в себе, но пьяная слабость делала его взгляд уязвимым.
– С праздничком, – пробормотал он, приподнимая бутылку в качестве тоста. – Дембель. Виталий.
Катя молча кивнула.
– А вы чего не спите? – его язык слегка заплетался. – Дорога дальняя, дорога трудная. Мне вот до моей… еще полдня трястись. Ждет, поди. Год ждала.
Он говорил это больше себе, чем ей, пытаясь убедить самого себя. В его пьяной браваде сквозила отчаянная потребность в том, чтобы все было хорошо, чтобы его действительно ждали, чтобы этот год в сапогах не прошел зря. Он снова качнулся, чуть не упав, и, оперевшись о стену, побрел дальше по вагону, в сторону туалета, оставляя за собой терпкий запах алкоголя и несбывшихся надежд. Катя смотрела ему вслед. Еще одна душа, запертая в этой несущейся сквозь ночь железной коробке.
Не успел Виталий скрыться в конце вагона, как из соседнего отсека, откуда ранее доносилось недовольное ворочанье, показалась крупная фигура. Мужчина двигался с медленной, уверенной грацией большого, сильного животного. Он был высок, под два метра ростом, и даже в узком проходе вагона держался так прямо, что казался еще выше. Широкие плечи почти касались стен.
На вид ему было около пятидесяти. Седина лишь слегка тронула его густые, темные волосы на висках, придавая ему благородства. Лицо было словно высечено из камня: мощная, квадратно очерченная челюсть, прямой, почти греческий нос и высокий лоб. Он был из тех мужчин, которых называют «породистыми» – красивый, статный, с врожденным чувством собственного достоинства. На нем была дорогая, идеально отглаженная рубашка-поло и хорошо сидящие брюки, что резко контрастировало с общей атмосферой плацкарта.
Однако вся эта внушительная внешность была перечеркнута выражением лица. Оно было недовольным, брезгливым, словно он оказался в этом вагоне по какой-то чудовищной ошибке и теперь вынужден терпеть общество низших существ. Тонкие губы были плотно сжаты, а в темных, глубоко посаженных глазах застыло холодное раздражение.
– Никакого уважения, – пробормотал он вполголоса, но так, чтобы его услышали. Голос у него был низкий, с бархатными, рокочущими нотками. – Орут, пьянствуют. Не вагон, а балаган.
Он бросил быстрый, оценивающий взгляд на Катю, скользнул по ее растрепанным волосам, по простой одежде и задержался на ее верхней полке с едва заметным презрением. В его взгляде читалось все: и осуждение пьяного дембеля, и молчаливый упрек всем, кто нарушал его покой. Он не повышал голоса, не вступал в прямую конфронтацию, но от всей его фигуры исходила аура власти и уверенности, что мир должен подстраиваться под него, а не наоборот.
Мужчина прошел дальше по коридору, направляясь к титану с кипятком. Его походка была твердой, не зависящей от качки поезда. Он был как богатырь из старых сказок, сильный и несокрушимый, но богатырь, который попал не в чисто поле на битву со змеем, а в тесный, душный вагон, и это унизительное обстоятельство приводило его в тихое бешенство. Катя проводила его взглядом, чувствуя себя маленькой и незаметной. В этом вагоне, как оказалось, был свой царь, и его величество было очень недовольно.
Тишина, наконец, вернулась. Дембель где-то затих, а недовольный "богатырь" скрылся в своем отсеке. В животе у Кати заурчало – пусто и требовательно. Она не ела со вчерашнего обеда в офисной столовой, и теперь организм настойчиво напоминал о себе.
Она снова потянулась к своему чемодану. На самом дне, под слоем черной траурной одежды, лежал ее «стратегический запас» на случай долгой дороги. Брикет лапши быстрого приготовления в шуршащей упаковке и небольшой пластиковый контейнер. Еда холостяцкой жизни, быстрая, простая и не требующая никаких усилий. Сейчас это казалось единственно верным решением.
Катя сползла со своей полки, сунула ноги в тапочки и, прижимая к себе контейнер и пакет, пошла по длинному коридору. Вагон жил своей ночной жизнью. Кто-то тихо разговаривал за задернутой шторкой, где-то плакал ребенок, а откуда-то доносился запах вареных яиц и копченой курицы – вечный, неистребимый дух российских поездов.
Она дошла до купе проводницы. Титан, похожий на серебряный самовар из будущего, тихо гудел, выпуская струйку пара. Самой женщины не было видно. Катя взяла контейнер, подставила его под массивный кран и с усилием повернула тугой вентиль. Тонкая, обжигающе горячая струя кипятка с шипением ударила в пластиковое дно. Она налила воды до середины, засыпала сухую, хрустящую лапшу, высыпала содержимое пакетиков с приправами и маслом и плотно закрыла крышку.
Прислонившись к стене рядом с титаном, она ждала, пока лапша заварится. Контейнер приятно грел озябшие ладони. В этот момент, стоя в полумраке у горячего титана, Катя остро почувствовала, насколько же этот вагон был срезом целого мира. Всего за несколько минут она увидела столько разных, не пересекающихся вселенных, запертых в одном железном ящике.
Вот пьяненький дембель Виталий, худой, потерянный мальчишка, который заливает коньяком свой страх перед будущим и отчаянно верит, что его год ожидания не был напрасным. Его мир – это тоска по девушке, армейские воспоминания и надежда на простое человеческое счастье.
А вот статный, красивый мужчина, чей мир, очевидно, состоит из дорогих костюмов, важных встреч и полетов бизнес-классом. Он попал сюда по ошибке, и все вокруг – люди, запахи, звуки – оскорбляет его чувство прекрасного. Его реальность – это порядок, статус и презрение ко всему, что не соответствует его высоким стандартам.
Маленькая Сашка с ее игрушечным рыцарем и бегущим за поездом лесом. Ее мир – волшебный, полный динозавров и говорящих деревьев, где самое страшное – это скука, а самое желанное – поскорее увидеть родителей.
И она сама, Катя. Бухгалтер с алыми волосами, бегущая от своего прошлого и одновременно к нему. Ее мир только что рухнул, превратившись в руины из цифр, отчетов и одного непрощенного, пропущенного звонка.
Все они, такие разные, несовместимые, были заперты вместе, в одной стальной трубе, несущейся сквозь непроглядную сибирскую ночь. Каждый со своим горем, своей надеждой, своим раздражением. Просто попутчики. Просто временные соседи. Катя открыла контейнер. Густой пар с запахом куриного бульона ударил в лицо. Она подцепила вилкой скользкую лапшу и начала есть, глядя в темный проход вагона. Какой же разный народ, однако.
Лапша была горячей, соленой и абсолютно безвкусной, но она выполнила свою главную функцию – заполнила пустоту в желудке и немного согрела изнутри. Катя сполоснула контейнер под тонкой струйкой воды в туалете, вытерла его бумажным полотенцем и побрела обратно к своему месту.
Поднявшись на полку, она села, обхватив колени руками. Нужно было попытаться уснуть. Она провела рукой по волосам, чтобы убрать их с лица, и пальцы застряли в густой, спутавшейся массе. За день в офисе, дорогу и бессонную ночь ее алые пряди превратились в один сплошной, непокорный колтун. Ощущение было неприятным, добавляя к общему состоянию разбитости еще и физический дискомфорт.
Нужна расческа. Катя принялась методично обшаривать свою сумку, затем карманы тренча, потом снова сумку. Тщетно. Обычной пластиковой массажной щетки, ее верной спутницы, нигде не было. Похоже, в спешке и панике она просто забыла ее дома. Единственным, что могло ей сейчас помочь, был тот самый старый костяной гребень, одиноко лежавший на полочке у стены.
Она взяла его. Гребень казался чужеродным в ее руке, древним инструментом, не предназначенным для современных окрашенных волос. Но выбора не было. Катя распустила волосы, которые тяжелой, спутанной волной упали ей на плечи, и осторожно, с самого кончика, начала их прочесывать.
Зубцы гребня с трудом входили в пряди, цеплялись за узелки. И с каждым движением, с каждым тихим треском распутывающегося волоса, в ее памяти что-то щелкало. Это было почти физическое ощущение – как будто прикосновение старой кости к ее волосам замыкало какую-то цепь, ведущую прямо в детство. Она снова видела теплые, морщинистые руки бабушки Клавы, которые точно так же, терпеливо и нежно, распутывали ее детские косички. И она слышала ее голос. Тихий, напевный, выводящий ту самую мелодию.
Сначала Катя начала напевать машинально, про себя. Слова и мотив всплывали сами, без всяких усилий.
«Изморозь по окнам веет…»
Она провела гребнем по длинной пряди, и та, наконец, поддалась, рассыпавшись по плечу гладким алым шелком. Стало легче. И она, сама не заметив как, начала напевать вслух. Тихо, почти шепотом, чтобы никто не услышал. Голос был хриплым и неуверенным, но мелодия была той самой.
«…и ничто нас не согреет…»
Стук колес подхватил ритм, стал аккомпанементом. Тук-тук. Тук-тук. В этом действии – расчесывании волос старым гребнем и напевании забытой песни – было что-то гипнотическое, успокаивающее. Боль отступила на задний план, уступая место вязкой, туманной ностальгии.
«…те, кто верит дуракам…»
Гребень шел уже легче, плавно скользя от корней до самых кончиков. Она закрыла глаза, полностью погрузившись в этот маленький ритуал, созданный из скорби, памяти и усталости.
«…их всех съест Баба-Яга».
Последняя строчка прозвучала в наступившей тишине вагона особенно отчетливо. И в то же мгновение, когда звук ее голоса затих, свет в вагоне моргнул. Не просто мигнул, а погас на целую секунду, погрузив все в абсолютную, чернильную тьму, а затем вспыхнул снова, но уже каким-то больным, желтушным светом.
Катя открыла глаза, инстинктивно вздрогнув. Первая мысль была о тоннеле или мосте. Но, выглянув в окно, она увидела, что ничего не изменилось. Поезд по-прежнему мчался по бескрайней, ровной, как стол, темной степи. Никаких переходов, никаких опор. Просто ровное, черное пространство до самого горизонта.
Стук колес тоже изменился. Он стал глуше, тяжелее, будто поезд внезапно сошел с гладких рельсов на неровную, вязкую почву.
Странно.
Катя пожала плечами, списав все на скачок напряжения в старой проводке. Она положила гребень рядом с собой и откинулась на подушку. Но чувство покоя, которое она испытала всего минуту назад, испарилось без следа. Его место заняла новая, холодная, беспричинная тревога.
Глава 3. Огни в степи
Сон был тонким, как лед на первой луже. Он не приносил отдыха, а лишь набрасывал на реальность полупрозрачное, тревожное покрывало. Катя проваливалась в него, но тут же выныривала обратно, разбуженная то резким покачиванием вагона, то собственным прерывистым вздохом. Она лежала, уставившись в темноту, и слушала. Слушала, как изменился звук поезда.
Это был уже не тот мерный, убаюкивающий перестук. Теперь колеса издавали тяжелый, вязкий, утробный звук. Тух-тух. Тух-тух. Будто поезд ехал не по стальным рельсам, а продирался сквозь что-то густое и податливое, как торф или ил. Этот звук давил, нагнетал необъяснимую тоску.
Катя повернула голову к окну, вглядываясь в непроглядную черноту степи. И тогда она увидела его в первый раз.
Это не был свет от фонаря или далекого дома. Это была просто точка. Маленькая, как раскаленный докрасна уголек, она вспыхнула на мгновение где-то далеко в поле, на уровне ее глаз, и тут же исчезла, будто ее сдуло ветром. Катя моргнула. Показалось. Конечно, показалось. Отражение какой-нибудь лампочки внутри вагона, искаженное стеклом. Она закрыла глаза, пытаясь заставить себя расслабиться.
Тух-тух. Тух-тух. Тяжелый, неотвратимый ритм.
Она снова открыла глаза, не в силах сопротивляться желанию смотреть в окно. Пустота. Чернота. И вдруг – снова. На этот раз две точки, рядом друг с другом, как пара крошечных, раскаленных бусин. Они промелькнули мимо с бешеной скоростью поезда и погасли. Они были ниже, чем в первый раз, почти у самой земли.
Сердце пропустило удар. Катя села на своей полке, чувствуя, как по спине пробегает холод. Что это было? Фары? Нет, не тот цвет, не та форма. Сигнальные огни на путях? Но они бы светили постоянно, а не вспыхивали на долю секунды. Животные? Чьи глаза могли светиться таким багровым, неестественным огнем?
Ее рациональный мозг, ее верный, натренированный годами бухгалтерской работы союзник, тут же подбросил объяснение. Усталость. Ты не спала почти двое суток. Ты пережила сильнейший стресс. Твоя психика на пределе. Это просто зрительные галлюцинации, фантомы, порожденные горем и истощением. Это так называемые фосфены. Логично. Разумно. Успокаивающе.
Она почти поверила в это. Почти заставила себя лечь обратно. Но ее взгляд был прикован к стеклу. Она ждала. И через несколько минут ожидания, которые показались вечностью, они появились снова. На этот раз целый рой. Десятки маленьких, пронзительных красных точек вспыхнули в темноте, рассыпанные по степи, как брошенная пригоршня рубинов. Они не двигались, а просто висели в воздухе, провожая поезд своими огненными, немигающими взглядами, прежде чем раствориться в ночи.
Дыхание застряло в горле. Это не были фосфены. Это не было игрой света. Она видела их так же ясно, как свою собственную руку перед лицом. Они были там, снаружи. В этой пустой, безлюдной степи. И они смотрели.
Катя вжалась в стену вагона, отводя взгляд от окна. Она обхватила колени руками, пытаясь унять мелкую, противную дрожь. Спи. Нужно просто уснуть. Это все неправда. Это не может быть правдой. Это просто нервы. Просто невыспанность. Она повторяла это про себя как мантру, как заклинание против того, что видело ее сознание. Но глубоко внутри, под слоями логики и рациональных объяснений, уже прорастал ледяной, первобытный ужас. Ужас от понимания, что мир за окном перестал подчиняться привычным законам, и она – единственная, кто это заметил.
Катя заставила себя отвернуться от окна. Хватит. Не смотреть туда. Сосредоточиться на том, что внутри, на привычном, на реальном. Она обвела взглядом вагон, пытаясь зацепиться за обыденные детали. И тут же поняла, что что-то изменилось не только снаружи.
Свет. Он был другим. Привычный, почти стерильный белый свет люминесцентных ламп исчез. Вместо него вагон заливало тусклое, болезненное желтое сияние. Оно было похоже на свет от старой, пыльной лампочки накаливания, но еще более неприятное, вязкое. Оно искажало цвета, делая серый пластик стен зеленоватым, а красную обивку сидений – грязно-бурой. Лица спящих пассажиров в этом свете казались восковыми, неживыми. Это был свет цвета застарелой мочи, болезненный и тревожный.