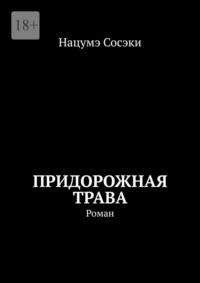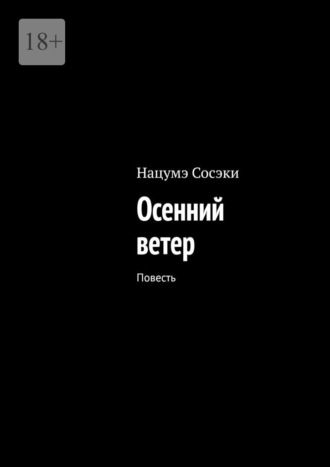
Полная версия
Осенний ветер. Повесть

Осенний ветер
Повесть
Нацумэ Сосэки
Переводчик Pavel Sokolov
© Нацумэ Сосэки, 2025
© Pavel Sokolov, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-6809-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие переводчика
В мире, где ветер перемен сметает устоявшиеся порядки, а человеческие души колеблются между традицией и новизной, Нацумэ Сосэки разворачивает тонкую психологическую драму. «Осенний ветер» (1907) – это не просто история о молодых интеллигентах эпохи Мэйдзи, но глубокое исследование одиночества, отчуждения и мучительного поиска себя в стремительно меняющемся обществе.
Главный герой, Дойя-сэнсэй, – человек, отвернувшийся от мира, презирающий его фальшь, но при этом не находящий в себе сил для подлинного бунта. Его внутренний конфликт, размышления о долге, любви и свободе становятся зеркалом, в котором отражаются противоречия той бурной эпохи. Сосэки, с присущим ему мастерством, показывает, как социальные условности давят на личность, а попытки сохранить духовную независимость оборачиваются новыми формами порабощения.
Эта книга стала первой, которую классик написал после ухода с профессорской должности в Токийском университете. Метания главного героя, бросившего преподавание, – это во многом чувства самого Нацумэ Сосэки. При этом многие критики считают, что это одно из самых моралистических и добрых произведений автора.
«Осенний ветер» – это не только повесть о японском обществе начала XX века, но и вневременное произведение о вечном стремлении человека к гармонии, которую так трудно обрести в мире, где всё преходяще, как осенний ветер.
Пусть каждый читатель найдет в этой книге что-то своё – будь то горькая правда о человеческой природе или тихая надежда на то, что даже в самых тёмных душах теплится свет.
Павел СоколовI
Сираи Дойя – литератор.
Окончив университет восемь лет назад, он сменил два-три провинциальных училища, а прошлой весной беззаботно вернулся в Токио. «Сменил» – слово, подходящее для странствующего актёра, а «беззаботно» можно понять и как «не заботясь о мнении Сораи». Применимость этих определений к поступкам Дойя – ручаться не берётся даже автор. Если ухватиться за конец запутанной веревки, перед глазами окажется всего лишь прядь. Но за этой единственной прядью могут скрываться десятки, двадцать слоёв переплетённых причин. Даже когда дикие гуси улетают на север, а ласточки возвращаются на юг, у самих птиц наверняка найдётся достойное объяснение.
Первым местом его назначения был где-то в Этиго. Этиго славится нефтью. В нескольких кварталах от школы, где он преподавал, находилась крупная нефтяная компания. Более чем на две трети благополучие городка зависело от этой фирмы. Для местных жителей она значила куда больше, чем несколько средних школ. Чиновники предприятия были джентльменами – в том смысле, что обладали деньгами. Учителя же, будучи бедны, казались людям низшими созданиями. Когда эти последние сталкивались с толстосумами-нефтяниками, исход был очевиден для всех. Однажды на собрании Дойя выступил с речью на тему «Деньги и нравственность», где объяснил, почему богатство и добродетель не всегда идут рука об руку, и в скрытой форме осудил высокомерие бонз из компании, а также пагубную склонность молодёжи слепо поклоняться «всемогущему золоту и серебру» без собственных убеждений.
Боссы-нефтяники назвали его наглецом. Местная газета написала, что бездарный учитель изливает высокомерные жалобы. Даже коллеги сочли его поступок глупостью, ставящей под угрозу положение всей школы. Директор объяснил ему отношения между городом и компанией и увещевал, что спровоцировать бурю на ровном месте – не лучшая тактика. Даже ученики, на которых Дойя возлагал последние надежды, услышав мнение родителей, стали называть его глупым преподом, не знающим своего места. И Дойя беззаботно покинул Этиго.
Следующей остановкой стал Кюсю. Если исключить северную часть с её промышленностью, Кюсю – чистый лист. Тот, кто не вдыхает чёрный воздух, пропитанным угольной пылью, не считается человеком. У того, кто выставляет бледное лицо из-под потрёпанного пиджака и толкует о «таком-то мире», «таком-то обществе» или «будущих гражданах», не производя ничего, что можно было бы обменять хотя бы на одну монету, нет права на существование. Если таких существ и терпят, то лишь по милости дельцов. Откуда берутся те жалкие бумажки, что позволяют болтливым учёным и учителям, словно фонографы, влачить жалкое существование? Миллиарды богатств сыплются, как пыль, стоит лишь хлопнуть в ладоши, а эти учёные, литераторы и прочие учителя довольствуются тем, что слизывают последние крупицы.
Порицать деньги, живя за их счёт, – всё равно что оскорблять родителей, давших тебе жизнь. Если презираешь дельцов, создающих эти капиталы, – попробуй прожить без них! Смог бы умереть? Или сдался бы, не сумев? «Давай проверим», – сказали ему, вышвырнув за порог. И Дойя снова беззаботно покинул Кюсю.
В третий раз он оказался в глуши региона Тюгоку. Нравы здесь не были столь воинственно меркантильными. Но местные жители безмерно важничали, называя уроженцев других префектур «иностранцами». Если бы только называли! Но они ещё и пускали в ход всевозможные уловки, чтобы подчинить этих «иностранцев». На банкетах – подтрунивали, на собраниях – язвили, в газетах – писали колкости, подстрекали учеников дразнить. И всё это без всякой причины – просто потому, что «иностранцы» не желали ассимилироваться.
Ассимиляция, конечно, важный элемент общества. Французский учёный Габриель Тард даже утверждал, что общество – это подражание. Возможно, ассимиляция и вправду важна. И Дойя понимал её важность – более того, получив высшее образование и обладая широким взглядом на социум, он ценил его пользу больше, чем обыватели. Вопрос лишь в том, вливаться ли в высшее или в низшее общество. Слепая ассимиляция без понимания этого вопроса бесполезна для мира и недостойна для личности.
Однажды школу посетил бывший даймё. Бывший даймё – это господин, аристократ. Для местных – почти божество. Когда это божество вошло в класс Дойя, тот не обратил внимания и продолжил урок. Божество, разумеется, тоже не соизволило поздороваться. После этого начались осложнения.
Класс – священное место. Учитель, стоящий за кафедрой, подобен самураю, облачённому в доспехи на поле битвы. Никакой аристократ или бывший даймё не вправе прерывать урок – такова была позиция Дойя. Из-за этой позиции он снова беззаботно покинул место службы. Говорят, на прощание местные жители в глаза называли его упрямым глупцом. А он, слыша эти насмешки и оскорбления, всё так же беззаботно ушёл.
Трижды беззаботно покидая школы, Дойя беззаботно вернулся в столицу – и не подавал признаков движения. Токио – самое трудное для жизни место в Японии. Даже с провинциальным жалованьем прожить здесь непросто. А уж бросить преподавание и остаться с пустыми руками – это, если не считать стояния на столбе, метод, не заслуживающий похвалы.
У Дойя есть жена. Раз есть супруга – есть и обязанность её содержать. Можно смириться с собственным голоданием, но оставлять жену без куска хлеба – не выход. Да и задолго до трудных времен жена уже начала роптать.
Когда он впервые покинул Этиго, он объяснил супруге всю ситуацию. Тогда она сказала: «Вы совершенно правы», – и тут же начала усердно собирать вещи. Когда он уходил из Кюсю, тоже рассказал ей всё. На этот раз та лишь пробормотала: «Опять?» – и больше не раскрывала рта. А покидая Тюгоку, уже встретила его наставительными словами: «С вашим упрямством вам нигде не угнездиться». За семь лет три скитания – и с каждым разом жена всё больше отдалялась от него.
Отдалялась ли она из-за скитаний или из-за потери доходов? Что, если бы с каждым переездом жалованье росло? Продолжала бы она бормотать: «С вашим упрямством…»? Стань он доктором или профессором – повторяла бы она ту же фразу? Узнать её мысли можно было только спросив.
Если бы жена, услышав, как пустое имя её мужа-доктора или профессора пустым эхом разносится по свету, вдруг изменила своё отношение, то её нельзя было бы назвать его истинной спутницей. Супруга, меняющая оценку мужа в зависимости от того, как мир обращается с ним утром и вечером, – такая же, как все. Ничем не отличающаяся от той, что была до замужества, до того, как узнала его имя. А значит, для мужа она – чужая. Если в понимании супруга она не изменилась с момента свадьбы – значит, в этом отношении она и не жена вовсе.
Мир полон таких «не-жён». Думал ли Дойя, что его спутница – из их числа? Осознать, что тебя не принимает мир – тяжело, но ещё тяжелее понять, что даже жена, живущая с тобой бок о бок, тебя не понимает.
Мир полон таких жён, говорил я. И, несмотря на это, все живут в согласии. Тем, кому везёт, нет нужды разбирать женскую психологию до такой степени. Изучать эпидермис нужно лишь когда болеешь кожной болезнью. Разглядывать грязь под микроскопом, будучи здоровым, – всё равно что искать повод махать ложкой для удобрений. Но когда удача изменяет и судьба стремительно катится в пропасть, даже между мужем и женой возникает напряжение. Рвутся и родственные узы. Понимаешь, что прекрасное – лишь тонкая плёнка, прикрывающая кровь. Насколько это понял Дойя – неизвестно.
Он трижды уходил не потому, что любил попадать в безвыходные положения. И уж тем более не затем, чтобы обрекать ни в чём не повинную жену на страдания. Просто мир не принимал его – что поделаешь? Если мир не принимает, почему бы не попытаться заставить его принять? Потому что в тот миг, когда он попытался бы, Дойя перестал бы существовать. Он был уверен, что как личность стоит выше толпы. И чем выше над ней, тем больше его долг – вести низших за собой. Сознательно опускаться ниже, получив образование, – всё равно что зарыть сокровища, добытые этим знанием, под полом. Если не делиться своей личностью с другими, все усилия, потраченные на её становление, окажутся напрасными – как если бы её и не было.
Преподавая английский, историю, иногда даже этику, он учил искусствам, накопленным в процессе воспитания личности. Если бы он учился лишь ради них, достаточно было бы открывать книгу в классе. Листать тома, чтобы заработать на хлеб, – в теории то же самое, что канатоходцу ходить по канату, а фокуснику – крутить тарелки. Но учёба – не канатоходство и не тарелки. Искусства – второстепенны. Цель – становление человека. Цель – воспитать стойкого мужа, различающего большое и малое, знающего меру важности, ясно видящего добро и зло, понимающего границы между ними, безошибочно судящего о мудрости и глупости, истине и лжи, правде и кривде.
Так думал Дойя. Потому, не считая зазорным продавать искусства для пропитания, он глубоко презирал отступление от основ познания. Если мир не принимал его за приверженность этим основам – он не чувствовал ни стыда, ни слабости. Оскорбления вроде «упрямого глупца» оставались для него столь же непонятными, как если бы их разглядывали под лупой на ладони в летний день.
Трижды становился он учителем – и трижды был гоним. После каждого изгнания он считал, что совершил нечто более великое, чем получение докторской степени. Доктор, возможно, и велик – но это всего лишь звание за искусство. Немногим лучше, чем когда богач жертвует на строительство корабля и получает младший пятый ранг. Дойя же был изгоняем за то, что был слишком высок. «Праведник – благороднейшее из творений Господа», – говорил западный поэт. «Хранящий истину дороже богов», – повторял про себя Дойя после каждого изгнания. Вот только жена ни разу не слышала этих слов от него. Да и услышав – не поняла бы.
Не понимая, она роптала на мужа ещё до того, как им грозила голодная смерть. Не то чтобы Дойя не сочувствовал недовольной супруге. Просто, в отличие от обычных мужей, он не менял свой путь ради её благосклонности.
Мир называет его просто «человеком». Женись – и станешь «мужем». Общайся – и станешь «другом». Веди за собой – и станешь «старшим братом», следуй за другим – и станешь «младшим». В обществе можешь стать «просветителем». В школе – непременно «учителем». Но называют просто «человеком». Если мир удовлетворяется этим – он прост. Жена живёт в этом простом мире. В её мире нет Дойя-учёного, Дойя-идеалиста, уж тем более Дойя, хранящего истину и противостоящего толпе. То, что муж теряет репутацию везде, куда ни ступит, она приписывает его некомпетентности. А то, что он бросает работу за работой – его собственным прихотям.
После трёх таких «прихотей» и возвращения в Токио Дойя заявил, что больше не поедет в провинцию. И признался жене, что больше не будет преподавать. Разочаровавшись в школах, он понял: чтобы исправить разочаровавшее его общество, нужно взяться за перо. До сих пор он считал, что, куда бы ни забросила его судьба и чем бы ни занимался, стоит лишь ему оставаться прямым – и всё кривое сломается, как сухие стебли.
«Я не жажду славы. Не стремлюсь к авторитету. Достаточно лишь силой своей личности открыть глаза молодёжи, формирующей будущую нацию, и показать им на собственном примере, как выбирать между добром и злом», – так он думал и более шести лет действовал соответственно – чтобы в итоге потерпеть полное поражение.
«Нет в мире недобрых людей», – гласит пословица. Поспешно предположив, что сочувствие собирается там, где есть правда, высота и понимание сути вещей, он год за годом, раз за разом ждал – и вся его жизнь оказалась ошибкой. Мир не столь возвышен, не столь проницателен, как он думал. Сочувствие – лишь тень, следующая за сильными и богатыми.
Не поняв этого, Дойя одним прыжком ринулся в провинцию – словно спешил построить прочный дом на неподготовленной земле. Едва начав – тут же сталкивался с ветрами и дождями, разрушавшими всё. Пока не выровняешь землю, не укротишь стихии – не будет покоя. А сделать мир пригодным для жизни – задача истинных мужей.
Тому, у кого нет ни денег, ни влияния, но кто стремится к делу, достойному истинного мужа, не обойтись без пера. Не обойтись без помощи языка. Не обойтись без выжимания из мозгов мудрости для блага других. Мозги высохнут, язык воспалится, перья будут ломаться один за другим – а если мир не внемлет, на этом всё и закончится.
Но даже истинный муж не может трудиться без пищи. Пусть он сам готов терпеть голод – но едва ли жена согласится на такое. В её глазах муж, неспособный обеспечить её, – преступник.
Весной этого года, приехав в Токио и остановившись в дешёвой гостинице в районе Сиба, Дойя и его жена завели такой разговор:
– Вы говорите, бросите преподавание. А чем тогда будете заниматься?
– Пока ничего конкретного. Но как-нибудь устроимся.
– «Как-нибудь устроимся» – это же всё равно что ловить облака!
– Ну да. Не то чтобы у меня был чёткий план.
– Как можно быть таким беспечным! Вам-то хорошо – вы мужчина. Но попробуйте поставить себя на моё место…
– Я же сказал: больше не поеду в провинцию и не буду учителем.
– Решайте, как знаете. Но если не будет жалованья – что тогда?
– Если не будет жалованья – будут другие деньги. И ладно.
– «Другие деньги»? Конечно, ладно…
– Ну и хорошо.
– «Хорошо»? То есть у вас уже есть деньги?
– Ну… Думаю, будут.
– Каким образом?
– Пока обдумываю. Нельзя же сразу всё решить.
– Вот поэтому я и беспокоюсь. Мало сказать «остаёмся в Токио» – надо же и подумать, как жить!
– Ты слишком много беспокоишься – это плохо.
– Ещё бы не беспокоиться! Везде, куда ни поедете, вы не уживаетесь и бросаете работу. Если я слишком беспокойная – то вы уж слишком вспыльчивый!
– Может, и так. Но моя вспыльчивость… Ладно, неважно. Как-нибудь прокормимся в Токио.
– Может, сходить к вашему брату и попросить помощи?
– Хм, можно. Но он не из тех, кто станет о ком-то заботиться.
– Вот потому-то у вас всё и плохо – вы всё решаете сами! А вчера он ведь так тепло обо всём расспрашивал.
– Вчера? Да, он говорил о помощи…
– Разве это плохо?
– Плохо. Говорить-то он хорошо умеет… Но не стоит на него полагаться.
– Почему?
– Поймёшь со временем.
– Тогда может к друзьям обратиться? С завтрашнего дня начать искать работу?
– Какие у меня друзья? Однокурсники все разъехались.
– А Адачи, что каждый год присылает новогодние открытки? Он ведь в столице и прекрасно устроился.
– Адачи? Да, он профессор.
– Вот видите! Вам бы только важничать – потому люди вас и недолюбливают. «Профессор» – разве не прекрасно быть университетским преподавателем?
– Думаешь? Ну ладно, схожу к Адачи, попрошу. Но если удастся заработать денег иначе – к нему идти не обязательно.
– Опять за своё! Ну и упрямый же вы!
– Да, я очень упрям.
II
Осеннее солнце, приближаясь к зениту, казалось, пронизывало даже череп сквозь шляпу, наполняя голову каким-то ощущением ясности. Все свободные скамейки в парке были, разумеется, заняты – ведь они и были для этого созданы. Такаянаги уже третий раз обходил Хибия в поисках свободного местечка. Не найдя после трёх кругов ни одной скамьи, которая бы любезно приняла его, он направился к главным воротам. В этот момент с противоположной стороны в парк быстрым шагом вошёл молодой человек его лет и окликнул:
– Эй!
– Эй! – так же непринуждённо ответил Такаянаги.
– Где ты пропадал? – спросил юноша.
– Вот кругами хожу, хотел присесть, но всё занято. Ничего не поделаешь – свободные места всегда расхватывают первыми. Народ нынче прозорлив, – ответил Такаянаги.
– Погода хорошая, вот и народу много. Эй, взгляни-ка на ту женщину – она обходит бамбуковую рощицу и направляется к фонтану.
– Какую?.. Ту, в кимоно? Ты её знаешь?
– Да нет.
– Тогда зачем на неё смотреть?
– Цвет кимоно.
– Что-то очень нарядное.
– На фоне бамбука этот цвет выглядит особенно ярко. И только в такое прозрачное осеннее солнце он раскрывается полностью.
– Ты так думаешь?
– «Ты так думаешь?» – передразнил его собеседник. – Разве ты не чувствуешь того же?
– Не особенно. Хотя красиво – это да.
– Одной красоты мало. Ты же собираешься стать писателем, верно?
– Ну да.
– Тогда тебе нужно быть чуть восприимчивее.
– Да ладно, можно и без этого. У меня и так хватает чутких мест.
– Ха-ха-ха! Ну, если ты так уверен в себе, то и ладно. Кстати, раз уж мы встретились, давай ещё немного прогуляемся.
– Нет уж, бродить мне совсем неохота. Если сейчас же не сяду на трамвай, то опоздаю к обеду.
– Давай я угощу тебя обедом.
– Э-э… В другой раз.
– Почему? Не хочешь?
– Нет, просто… Неудобно постоянно принимать твоё угощение.
– Ха-ха, ну что за церемонии! Пошли! – И, не дав опомниться, юноша потащил Такаянаги в европейский ресторан в центре парка, где они устроились на втором этаже, у окна с хорошим видом.
Пока ждали заказ, Такаянаги, подперев бледное лицо руками, устало смотрел на улицу. Его спутник же вполголоса бормотал: «Как просторно… Должно быть, процветают… Что за странное место для рекламы „Саппоро“…» – а потом, засунув руку в карман брюк, вдруг громко воскликнул:
– Чёрт, забыл купить сигарет!
– Возьми мои, – Такаянаги швырнул на белую скатерть пачку «Сикисима».
В этот момент официантка принесла заказ. Закурить не успели.
– Это же бочковое пиво! Эй, давай выпьем за что-нибудь! – Юноша сделал большой глоток, и янтарная жидкость вспенилась.
– За что будем пить? – спросил Такаянаги, отхлебнув.
– За окончание университета.
– Сейчас? Так поздно?
Такаянаги опустил бокал, едва пригубив.
– Университет заканчивают только раз в жизни, так что праздновать можно сколько угодно.
– Раз только раз в жизни – можно и не праздновать.
– Прямо моя противоположность… Эй, девушка, что это за жаркое? Лосось? Попробуй-ка, – он брызнул жёлтым соком из апельсина прямо на хрустящую корочку, – капни вот тут…
Сок, словно осенний дождь, тут же впитался в масло.
– Вот как надо есть? А я думал, это просто украшение.
У подножия рекламного плаката с зеркалом и пивом «Саппоро» двое мужчин, развалившихся за столом, вдруг громко расхохотались. Такаянаги, держа в руках апельсин, недовольно посмотрел на них. Те и не думали смущаться.
– Да я пойду! В любое время! Хе-хе-хе… Пойдём сегодня! Какой ты нетерпеливый! Ха-ха-ха!
– Хе-хе-хе… Вообще-то я как раз собирался тебя позвать… А? Ха-ха-ха! Да нет, не так уж и… Ха-ха-ха! Ну, в общем, ты понимаешь… Совсем невмоготу! Хе-хе-хе, а-ха-ха-ха-ха!
Лица, красные, как глиняные горшки, отражались в рекламном зеркале, то расплываясь, то сжимаясь, то вытягиваясь – будто безобразничали нарочно. Такаянаги бросил на них странный взгляд и перевёл глаза на своего спутника.
– Торгаши, – тихо сказал тот.
– Делец, что ли? – так же тихо ответил Такаянаги, окончательно забросив апельсин.
Вскоре «глиняные горшки», расплатившись и подразнив официантку, с шумом, будто купили весь второй этаж, удалились.
– Эй, Накано…
– М-м? – рот юноши был полон кусочков курицы.
– Как ты думаешь, что эти типы себе воображают?
– Да ничего. Просто живут, как умеют.
– Завидую. Хотел бы я… Хотя нет, не стоит.
– Если тебе такое завидно – дело плохо. Наверное, поэтому ты и не хочешь праздновать выпускной. Давай ещё выпьем!
– Не им завидую, а их беззаботности. Сколько ни учись, а если потом только и делать, что гоняться за куском хлеба – какой толк от диплома?
– Не знаю… Я вот безумно рад. Вся жизнь впереди! Если сейчас падать духом – ничего не выйдет.
– Вся жизнь впереди, а перспектив никаких – вот и тошно.
– Почему? Не надо так пессимистично! Всё получится. Я тоже полон решимости – давай вместе! Поедим европейской кухни… О, бифштекс подали. Это уже последнее. Говорят, непрожаренный бифштекс лучше усваивается. Посмотрим… – Накано взял нож и разрезал толстый кусок мяса посередине.
– Ого, совсем красный! Посмотри-ка, кровь идёт!
Такаянаги ничего не ответил и принялся жевать кровавый бифштекс. Как ни крути, а легко усвояемым он не выглядел.
Когда жалуешься на свою судьбу, а собеседник, не дослушав, отделывается поверхностными утешениями – это неприятно. Не поймёшь: то ли он тебя не понял, то ли просто вежливо сочувствует. Разглядывая кровь в бифштексе, Такаянаги подумал: «Почему у него такие грубые чувства?». Накано всегда поступал так – стоило тебе начать раскрывать душу, как тот обливал тебя водой. Если бы он был просто невнимательным или холодным человеком, можно было бы заранее приготовиться к такому приёму, и его холодность не казалась бы обидной. Будь Накано таким – Такаянаги не чувствовал бы себя столь уязвлённым. Но в его глазах Накано Коити был прекрасным, умным, чутким и рассудительным юношей. Почему же у такого человека была такая дурная привычка – понять было трудно.
Они учились в одной школе, в одном общежитии, сидели за одной партой, слушали лекции одних профессоров на одном факультете и окончили университет в одно лето. Выпускников их года можно было пересчитать по пальцам, но ближе этих двоих не было никого.
Такаянаги – молчаливый, нелюдимый, пессимист и циник, как о нём говорили. Накано – великодушный, обходительный, одарённый юноша с тонким вкусом. Их внезапная дружба казалась окружающим странной – словно кто-то сшил лицевую сторону ткани с изнанкой.
Когда в мире есть лишь один близкий человек, и другого такого не найти, эта персона становится и родителем, и братом, и возлюбленным. Для Такаянаги Накано был больше чем просто другом. И потому особенно обидно было, что тот не выслушивал его жалобы до конца – словно попасть под ливень по дороге и вернуться, не дойдя до цели. А поверхностные утешения обижали ещё больше – как если бы гнойник, который просили вскрыть, лишь слегка погладили ватой, вызывая зуд.
Но такие мысли были несправедливы со стороны Такаянаги. Упрекать куклу за то, что она не танцует, как гейша, – удел тех, кто не понимает природы кукол. Накано родился в богатой знатной семье, вырос в тепле и уюте, а невзгоды жизни наблюдал лишь сквозь стеклянные двери веранды, сидя у камина. Он разбирался в узорах на шёлке, понимал изысканность золотых ширм, восхищался блеском серебряных подсвечников. Живая женская красота тоже не оставляла его равнодушным. Он знал родительскую любовь, братскую привязанность, дружескую верность – уж конечно он не был бесчувственным болваном. Просто на его половине земного шара всегда светило солнце. И лишь на уроках географии тот узнал, что если ткнуть ногой в землю, то на другой стороне окажется тёмная половина. Может, он и замечал её иногда на прогулках, но вряд ли когда-либо чувствовал её мрак всем существом. Такаянаги же жил как раз в этой тёмной части света. И если не считать того, что подошвы их ног соприкасались через землю, между ними не было ничего общего. Лицевая и изнаночная сторона ткани соединялись лишь тонкой ниткой, едва державшейся в игольном ушке. Выдерни её – и между префектурами Кагосима и Сайтама вновь лягут сотни миль. Жаловаться на зубную боль тому, у кого никогда не болели зубы, – всё равно что идти к стоматологу. А если тебе ещё и скажут: «Да не так уж и больно!» – вряд ли сочтёшь это утешением.