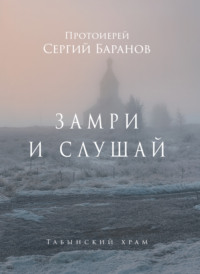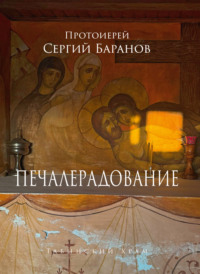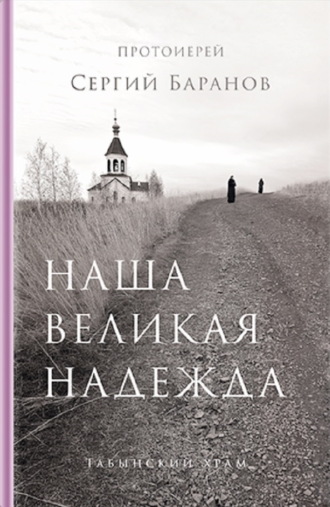
Полная версия
Наша великая надежда
В XIV веке у святителя, афонского монаха Григория Паламы состоялся спор с учёным мужем Варлаамом, который имел великолепное образование, но не обладал реальным духовным опытом переживания благодати. Варлаам услышал от афонитов, как они творят Иисусову молитву, что они видят нетварный Свет Божий, и начал насмехаться над ними, ёрничать и говорить, что либо это иллюзия Света, либо просто тварный свет, который воспринимается разгорячённой душой монаха. Григорий Палама выходит с Афона и доказывает, что нетварный Свет – это действительно свет Божества. Бог проявляет Себя в форме света. Проявляет Себя в формате Тела и Крови Христовых на литургии. Он входит в форму Своим содержанием и через неё наполняет Своим содержанием нас. Входит в формат иконы, которая становится не просто изображением Бога, а наполняется благодатью. Для нас иконы – это окно в духовный мир.
Благодать Божия может наполнять и формат слова. Одному оптинскому старцу духовное чадо жаловалось, что не понимает Псалтырь. «Ты читай, читай, в ней не только информация, но и благодать Божия. Также Бог своими энергиями может наполнять имя Своё: Иисусе, Иисусе… Я говорю сейчас это опытно. Потому что, когда человек пытается говорить Иисусову молитву долго, искренне, упорно, со временем он ловит себя на том, что Иисус из формата слова переходит в Саму Личность. Ты уже переживаешь не имя Божие, а Его Самого».
Как мы принимаем причастие? Какой богослов может объяснить это таинство во всей полноте? Он дойдет до кощунства. В какой-то момент замолчит и скажет: «Слушайте, это таинство». Мы наполняемся благодати Божией через таинства Церкви, через молитву. Для святых отцов молитва была таким состоянием.
Праздник Крещения по-другому ещё называется Богоявлением. И это название мне ближе, потому что богословски глубже. Это не просто Крещение Господа. Богоявление говорит о том, что Господь явил Себя человечеству. И опять же внешнее может кого-то остановить и не пустить в глубину: Бог явился во плоти. Для некоторых этим всё и заканчивается.
А я бы хотел пойти немножко глубже, сокровенней, торжественней, величественней. Богоявление – это не просто Бог явил Себя во плоти. Бог явил Себя в Своей сути. Что это значит? В этот момент Он в очередной раз подчеркивает глубину Своей сути: Бог есть Любовь.
В чём смысл фразы «Бог есть Любовь»? На Богоявление после службы освящают воду, великую агиасму. Для священника и хора существует чин освящения воды, в конце которого есть сноска, как инструкция: «Этой святой водой священник потом кропит всех и всё». В расшифровке «всё» говорится, что он кропит даже сараи, скотину и скаредные места. Господь в Своей любви к человечеству готов смириться и пойти в самые грязные места.
Может быть, кто-то читал житие Порфирия Кавсокаливита. Он приходит в один дом и говорит: «С праздником Богоявления! Я пришел вам всё тут освятить и покропить». И вдруг женщина, открывшая ему дверь, с сарказмом замечает: «Священник, куда ты? Это публичный дом». Тогда отец Порфирий отвечает: «Для Господа нет преград нигде. Мы кропим сегодня всех и всё освящаем. Но не просто бросаем в землю, заранее понимая, что не будет всходов, мы бросаем везде и всё в надежде, что благодать Божия даже на сухой земле даст росток и плод». Он зашёл и покропил всех этих бедных девушек, несмотря ни на что, вопреки всему. Такова суть праздника Богоявления, которую через святого преподобного Порфирия явил Господь.
Обычно православные очень ревностно соблюдают: вот этому можно, а этому нельзя. И вдруг в чинопоследовании великой агиасмы мы читаем: «Всем можно, всё можно». Но это не для того, чтобы люди расслабились и подумали, что можно жить беспутной жизнью, и добрый Бог всех спасёт. Нет, это кощунство. Речь идёт о том, что Господь готов снизойти в самый низ, в самую грязь, не гнушаясь, не брезгуя, взять за руку и потянуть к свету.
Как мало, к сожалению, мы говорим об этой сути праздника Богоявления. Чаще – о чуде святой воды, что она освящается, и достойные причащаются её достойно. Оказывается, она даже для недостойных. Единственное достоинство – это признать своё ничтожество: «Господи, я в самом-самом-самом-самом низу!»
Помните прокажённого: «В самом низу я лежу, Господи, если хочешь, можешь меня исцелить» (Мф. 8: 2). Как прокажённые отличаются от надутых фарисеев, законников, которые молятся Богу в храме и говорят: «Я всё исполнил, всё до мелочи, я чист, я великолепен, я достоин». Как прокажённые отличаются! Посмотрите, какие слова: «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить». Всё в Твоей воле, всё в Твоих руках. Я – ничтожество (извините меня за такое слово), я – просто ниже канализации, срам я. Если хочешь, можешь меня исцелить. Ты позови меня, и я пойду. Вот и всё спасение. Не в долгих молитвах, не в коленопреклонениях, не в жестоких постах, не в хождении в храм. Вот в этом вся суть: «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить».
Знаете, что я сейчас слышу от Господа? «Деточка, хочу». И это очень, очень укрепляет.
* * *В Евангелии рассказывается, что Господь пришёл в отечество Своё и там «не совершил многих чудес по невежестве их» (Мф. 13: 58). И дальше такая фраза: «Нет пророка в своём отечестве». В ежедневных бытовых отношениях люди видят обычные человеческие проявления личности. Если эта личность далеко, от неё приходят только какие-то чрезвычайные новости. Кто будет говорить об обыденных вещах? А когда люди живут близко друг к другу, они видят самые обычные человеческие проявления. Господь был Совершенный Бог и Совершенный Человек. И Он вошёл в человечество со всеми нюансами, деталями. Обратите внимание, насколько глубоко Он входит: присутствует на свадьбе, общается с мытарями, блудницами, сидит с ними за одним столом. Это очень искушало фарисеев и законников.
Умирает Лазарь – Он плачет по-человечески. Для «очень духовных людей» это слабость. Господь входит в эту слабость человеческую, кроме греха, настолько глубоко, что в Гефсиманском саду Он молится Отцу Небесному: «Да минует Меня чаша сия» (Мф. 26: 39). Это обычный человеческий страх перед великой болью, скорбью. Господь и в это входит.
Бестолковые люди, которые совершенно не понимают этих вещей, мотуг даже осудить Господа: «Бог – и вдруг проявляет слабость?!» Чаще всего такие рассуждения позволяют себе те, у кого, наверное, никогда ничего не болело. Они даже не понимают, на какую скорбь идёт Господь, на какую страсть. У них в жизни всё было ровно, гладко, весело. Поэтому они не могут понять Бога, Который с Креста кричит: «Или, Или! Лама савахфани?» – «Боже мой, Боже мой, почему Ты Меня оставил?» (Мф. 27: 46). Что это? Недоверие Богу Отцу? Помните, как в общине Иосифа Исихаста у молодого Ефрема заболел зуб, а Иосиф ему: «Терпи». Арсений подходит и говорит: «Иосиф, да у тебя зубы никогда не болели, ты не можешь его понять, отпусти ты его к врачу».
В своём отечестве люди видят Господа через призму обыденных, ежедневных ситуаций, поэтому у них нет веры к Нему, они видят в Нём человека, в котором присутствуют слабость, боязнь скорби. Всё естественно, Господь сознательно так идёт. Он не становится иллюзией человека, а рождается человеком в полной мере, кроме греха. Поэтому люди, которые смотрят на земное и не видят небесного, искушаются.
Обратите внимание: Иисус выбирает двенадцать апостолов, и один среди них – Иуда. Разве Господь не прозорливец? Когда Он выбирает апостолов, разве не видит, что один из них – человек, который предаст Его? Конечно, видит. Это в сознательном Промысле Божием. Господь не просто его выбирает, Он наделяет его духовными дарами, как и всех других апостолов. Иуда наверняка так же исцеляет, изгоняет бесов, творит чудеса. И с самого начала Бог видит, что это Иуда, и сознательно выбирает его среди двенадцати. Он входит в Промысл Божий.
Благодать божия
Вспоминается евангельская история, как отец умирающей дочери Иаир попросил Господа, чтобы Он спас её. Но ещё до того, как Господь пришёл в дом Наира, на пути Его встретилась женщина, много лет страдавшая кровоточивою болезнью. Обошла всех врачей, истратила на них всё, что имела, но нигде не смогла получить исцеление. И она решила: подойду сзади, прикоснусь к Нему и исцелюсь. Это не о том, что она так решила, поверила, и поэтому так и произошло. Это не иллюзия и не абстракция какая-то, а очень объективно, бытийно. Господь произносит очень точные слова: «Я чувствовал силу, от Меня исшедшую» (Лк. 8: 46). Женщина через это прикосновение получает от Господа силу, которая её исцеляет. В среде православных это называется благодатью.
Святые отцы приняли определение этой силы ещё от языческих философов и называли её в православном богословии энергией Божества. Энергия – это сила. Учёные понимают это слово как энергию, реальную силу. Не иллюзия: просто я поверил, и что-то произошло.
У Господа есть постоянное желание отдавать человеку Свою энергию жизни. Но большая часть людей закрыта к её принятию. А эта бедная, исстрадавшаяся женщина, у которой не осталось надежд ни на кого и ни на что, принимает. Когда уже нет надежд ни на кого и ни на что, остаётся единственная надежда – на Бога. Тот, кто в жизни скорбел, может подтвердить: «Да! Ничего больше – только Бог». Эти люди, которые открываются Богу через скорбь и возлагают свою великую надежду на Него, принимают с Его стороны реальную бытийную энергию, силу, благодать.
И она не только врачует. Дальше Господь идёт и не успевает к дочери Иаира. Двенадцатилетняя девочка умирает. И Он говорит отцу странные для окружающих слова: «Не бойся, не умерла она, но спит». И те люди, которые уже констатировали факт смерти, начинают смеяться, ёрничать: «Да мы же видели, что она умерла». Господь входит и воскрешает её, в мёртвое тело передаёт Свою энергию, Свою благодать, Свою жизнь. Христос и есть жизнь. Каждый из нас без Него – смерть. Чем мы живём? Какой-то внутренней энергией. Бедные наивные учёные думают, что это всего лишь химические процессы, которые бурлят внутри наших клеток и вырабатывают энергию. А где все эти учёные потом оказываются? На кладбище. Будь ты профессор, академик, что ты понимаешь в бытии, в смысле жизни, что откуда течёт и куда перетекает? Человек – это не химические процессы, которые перетекают в физические и источают энергию. Это нечто другое: в него Господь вдохнул жизнь. И человек стал вдруг моргать, улыбаться, передвигаться в пространстве.
Есть такая восточная притча. У китайского мастера фарфоровых кукол были куклы, достойные только императорского двора. Настолько они были мистически великолепны. Его ученик в мельчайших подробностях перенял всё его искусство. Делает куклу, а она всё равно отличается от работ мастера. Ученик приходит к нему и спрашивает: «Мастер, что я ещё не сделал, что нужно сделать?» Мастер взял эту куклу и говорит: «Нужно вдохнуть в неё энергию».
Это восточная притча, а по большому счёту – бытие человека. Каждый из нас – всего лишь материальная кукла. И чтобы она заморгала, заулыбалась, чтобы у неё в голове начались процессы, которые рождают мысли, творчество, в эту куклу нужно вдунуть дыхание Божие.
Как царь Давид говорил в Псалтыри: «Рече безумец в сердце своём: «несть Бог» (Пс. 13:1). Эти безумцы умирают и уходят в никуда. То, что Господь дал этой бедной, страдающей женщине, которая ни от одного врача не могла получить, то, что Он дал умершей дочери Иаира, – это энергия Божества. «Энергия» – слишком физически звучит, и для нас непривычно. Хотя святые отцы этим словом богословски пользуются. Я бы назвал это не «энергией», а «самой жизнью». Вот это и есть жизнь: дыхание Духа Святого, Который всё оживляет, исцеляет.
Но нужно быть восприимчивым к Его принятию. Нет на земле человека, в сторону которого Господь бы не дышал, согревая его. Но кто-то принимает, кто-то не способен на это, а кто-то даже и не хочет: «Не надо мне». Ну, не надо, так не надо. «Царствие Небесное» тебе не скажешь, «вечная память» – может быть. Но и то, какая вечная память? В третьем поколении уже забудут тебя, ты же не Пушкин и не Достоевский, чтобы тебя в четвёртом и пятом поколении помнили. В третьем уже забудут. Вот меня сейчас спроси о прадедах, и я уже не назову их имён…
Всё в Боге. Смысл, жизнь, радость, здоровье – в Нём. А иногда, знаете, даже здоровья не нужно, лишь бы быть в Боге. Потому что человек, у которого всё хорошо, начинает забывать Его как источник. Такое здоровье и благополучие не нужно. Лучше быть в скорби, но с Богом, чем в радости, но без Господа. Потом эта радость рассыплется, обессмыслится.
В день Святой Пятидесятницы на апостолов чудесным образом обильно сошёл Святой Дух. Я подчеркиваю это слово – обильно! Потому что отчасти Святой Дух был знаком и ветхозаветному человеку. Всё-таки ветхозаветные пророки говорили не от своего ума, а от Святого Духа. И вообще всё в этом мире живёт и движется Духом Святым. Но в день Пятидесятницы произошло чрезвычайное событие: человек вместил обильную благодать, благодать той меры, которую не знало ещё человечество.
Её вмещают апостолы, по большей части необразованные, неталантливые, неглубокие люди, чтобы в контрасте с их посредственностью ярче была выражена чрезвычайность этого явления. Ведь если бы это были какие-то особенные люди, можно было бы подумать, что это они прозвучали, но благодать действует через наипростейших, наиобыкновеннейших.
Человечество такого никогда не видело, а потому не понимает этого события. Люди, которые наблюдали в Иерусалиме проявление через апостолов благодати Духа Святого, говорили: «Они напились вина, они пьяные». А почему законники так подумали? Апостолы делали какие-то непристойные вещи? Как-то неадекватно себя вели? Да ни в коем случае! Они были чрезвычайно непонятны. Они были иными в этот момент. Поэтому законники и говорят, что они пьяные, какие-то странные, совершенно другие.
Вслед за ними апостола Павла, уникального человека, который не был на Пятидесятнице и не видел Христа при жизни, посещает благодать Духа Святого именно в момент, когда он выпросил документ, чтобы разыскивать с ним христиан и предавать их мучениям, казням. И опять благодать действует в том, кто по человеческим меркам недостоин этого.
Недостойному даётся благодать, потому что он её не осквернит своей самостью, не припишет всё себе самому, как сейчас это делают люди, увлекающиеся восточными течениями. Они всё время раскрывают в себе свои собственные внутренние резервы, раскапывают свою драгоценность. Да какую там драгоценность раскапывать? Там у нас смрад. Что там копаться? И чем глубже копаешь, чем смраднее и смраднее. Ты словно зловонную яму открываешь.
Благодать приходит к извергу, который вроде бы недостоин. И он понимает, что он – изверг. Этот человек приходит к мудрецам в Афинский Ареопаг и начинает им говорить настолько странные вещи, что эти философы отмахиваются: «Павел, приходи в другой раз. Ты чудной, сумасшедший. Ну, что ты нам говоришь? Мы переполнены знаниями, не бытийным, а философским опытом. Что ты нам нового пытаешься открыть? Ты говоришь безумные вещи».
Апостолы – «пьяные», Павел – «безумный». Благодать настолько инородна разуму этого мира, что он её не может вместить, понять, наивно смеётся над ней, иронизирует. Он психует, сердится на неё, гонит до убийства, до мучений, она его раздражает своей непонятностью. С одной стороны, – непонятность, а с другой – они интуитивно чувствуют в ней какую-то чрезвычайную силу. С одной стороны, не могут вместить, с другой – понимают, что проигрывают перед ней, она злит их и заставляет воевать.
Если благодать Божия становится понятной, то перестает быть благодатью. Это мудрость века сего, насколько бы она тонка и изощрённа ни была. В связи со своей чрезвычайной надмирностью и высотой она не может быть понята интеллектом, разумом. Она просто живётся бытийно. Святые переставали грести в сторону мудрости. Они в восторге поднимали вёсла и просто плыли по течению, куда несла их благодать. Пока ты потеешь, прилагаешь усилия, строишь свои планы, определяешь себе цель, ты всё время плывёшь не туда. Покорись благодати, пусть она тебя ведет: Господи, не как я хочу, а как Ты. Я не хочу называться сыном, другом, пусть я буду рабом.
Я обратил внимание на то, что во многих нецерковных людях есть этот стержень гордости: «Как я могу быть рабом Божиим?» Рабом Божиим не в смысле животного страха перед Ним, а в смысле любви к Нему. Эта любовь не земного плана. В земном плане мы понимаем друг друга, осязаем, определяем, очерчиваем, а это любовь к сверхъестественному. Ты понимаешь и не понимаешь, любишь и не вмещаешь, алчешь и не наполняешься.
Все гимны преподобного Симеона Нового Богослова полны этими антиномиями: «вижу и не вижу», «черпаю и не наполняюсь», «жажду и не насыщаюсь». В связи со своей надмирностью, чрезвычайностью благодать Божия не вмещается в границы, не очерчивается, не определяется и в то же время живётся. Мир привык к логике, к тому, что надо всё разложить по полочкам, и вдруг ему говорят о невместимом и вместимом, о непознаваемом и переживаемом. Мир так не привык, он сердится, психует и мстит. Чтобы вместить премудрость Божию, нужно стать безумным в формате этого мира. Но это не всем понятно, и поэтому многих раздражает.
* * *Апостол Павел сказал: «Я потрудился больше всех апостолов». Давайте свежим взглядом посмотрим на его слова. По-христиански разве можно так говорить? Это же гордо, а никто гордый не войдёт в Царствие Небесное. Как же тогда апостол может произносить столь дерзкие слова? Ведь это очень опасно! Через искушение гордостью он может прямо в ад отправиться. Но Павел продолжает так: «Но всё, что я сделал – это благодать Божия» (1 Кор. 15: ю).
И сразу становится всё безопасно. Благодать Божия – это не от себя, это не то, что ты сам решил и людям озвучил. Она осеняет тебя как откровение, устраивает твою жизнь очень мудро и приводит в безопасность.
Дальше апостол говорит о себе такую деликатную вещь: «Мне дан ангел сатанин, чтобы мучить меня. Я много раз просил у Бога, чтобы Он его отнял». И Господь ему ответил: «Терпи. Довлеет тебе благодать Моя». Всё в Его благодати. Терпи! Это терпение даёт тебе крепость смирения, осознание, что всё, что ты имеешь, – великий дар слова, великий дар рассуждения, благодати, – это всё благодать Его (2 Кор. 12: 7–9). Ты сам по себе ничто. Потрудился больше других апостолов, но, если не особенно Его благодатью, то всё, что ты сделал, с тобой и умрёт.
В Евангелии есть такой момент – подходит к Господу юноша и спрашивает: «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись?» И Он ему отвечает, что надо соблюдать заповеди: любить ближнего, не красть, не прелюбодействовать, почитать отца и мать. И этот юноша говорит: «Господи, да я всё исполнил! Во всей полноте исполнил закон Божий». И тогда Господь произносит: «Хочешь быть совершенным, оставь имение своё и следуй за Мной» (Мф. 19: 16–22). А у него было большое имение. Ушёл смущённый, не смог этого понести.
Многие в земном разрезе оценивают его имение как дома, богатства, земли, рабов, драгоценности, а святые отцы смотрят глубже. В чём же его имение? Оно не только земное, это и духовные дары, и духовные достижения, труды. Всё, чего ты достиг в духовной жизни, – научился молитве, послушанию, бдению, соблюдаешь пост, раздаёшь милостыню, – становится твоим духовным имением. И вдруг даже в этом духовном плане Господь может сказать: «Оставь имение своё и следуй за Мной». То есть, если не можешь пожертвовать всем духовным, которое ты приобрёл, то останешься всего лишь со своим мнением и никогда не достигнешь совершенства.
Почему апостол Павел может говорить, казалось бы, такие гордые и дерзкие слова и оставаться апостолом Павлом? Потому что понимает: всё, что он имеет – это ангел, который его мучает. Всё остальное, доброе – от Бога, принимается в Царствие Небесное как труды, как заслуга. Можно жить церковной жизнью долго, искренне, пятьдесят лет ходить в храм, ни одной службы не пропускать, читать Псалтирь, раздавать имение – всё то, что сделал тот юноша, – а, смотрите, Господь ему говорит: «Ничего-то ты ещё не доделал». Если ты всё делал через свою самость: «моё доброе сердце так желало, мой разум, который понял, что мне нужно спасаться, так говорил», – это всё твоё. Попробуй отдать, когда ты приобретал это пятьдесят лет! Приобретал молитву, науку послушания, отдавания, смирения! Но это всего лишь твоё. А когда ты готов всё это отдать, Бог начинает тебя спасать. И это даже для человека, ходившего десятки лет в храм, может быть, служившего литургию, становится откровением, чем-то новым, совершенно неведомым. Когда ты вдруг начинаешь спасаться благодатью Божией, а не своей искренностью, мужеством, усердием, терпением. Всё это перед благодатью Божией рушится, но она – это чудо. Никто не может понять дерзких слов апостола Павла. Он мог это сказать – никто из нас не может.
Помните, когда тот юноша отошёл в печали, апостолы в недоумении спросили у Господа: «Так кто же может спастись, если этот чистейший девственник, который даёт милостыню, исполняет законы, ходит в храм, читает Священное Писание, молится, почитает родителей, вдруг от Тебя отходит печальный, потому что Ты говоришь, что ничего он не сделал?» И тогда Господь произносит ключевую для всех христиан фразу: «Человекам это невозможно».
Ты хоть лоб разбей, хоть всё земное имение раздай, человекам это невозможно, всё возможно только Богу (Мф. 19: 26). К этому нужно прийти через разочарование в самом себе. Вот когда ангел сатанин замучает тебя до той точки, что ты закричишь: «Всё, я ничто, Иисусе, Иисусе! Всё, я лежу мёртвый! Подойди, подыми меня!» – с этого момента начинается христианство. Для кого-то через тридцать, для кого-то через пятьдесят лет, а для кого-то, к сожалению, так и не начнётся. Помрёт он христианином, соблюдавшим заповеди Божии, почитавшим отца и мать, раздававшим имение, но не докончившим чего-то главного, не понявшим, что всё – в Благодати Божией. Всё наше – красиво, как цветок: распустился, порадовал глаз, завял, высох, осыпался, и нет его.
Смотрите, какими были великие апостолы. Иисус идёт на распятие, а они: «Господи, можно спросить? Даруй нам, чтобы мы могли сесть один по правую руку от Тебя, а другой по левую в Царствии Небесном?» (Мк. 10: 37). Это какое безумие надо иметь, чтобы, когда твой отец идёт на смерть, разбираться, кому достанется машина, а кому – квартира? Вот какими были апостолы! Думаете, они стали великими апостолами через переосмысление жизни после распятия Христова? Да никто ничего не может осмыслить! В день Пятидесятницы Господь их освятил Духом Святым, и вдруг с ними что-то произошло.
Никто не может спастись, никто не свят, только Бог. «Человекам это невозможно, Богу возможно всё». Но, чтобы прийти в это состояние, нужно пережить точку глубокого смирения, переосмысления самого себя и своих дел. Господи, спасай Ты меня, я уже наспасался! Иисусе сладчайший, спаси нас!
Пища духовная. О молитве
Человек Богом так премудро устроен: его физиология для поддержания жизни постоянно требует питания. Наша плоть нуждается в воздухе, и поэтому мы всё время дышим. Должны употреблять пищу, иначе умрём. Но как интересно устроен наш ум! Он тоже постоянно требует пищи, информации, чтобы её переваривать, чтобы жить. Иначе он начинает голодать.
Если ум не получает информации, он просто перестаёт существовать, его бытие не имеет смысла. И поэтому постоянно поедает и поедает информацию, всё время чем-то интересуется. Есть такое выражение – «пытливый ум». Это его естество – быть пытливым. Можно ещё сказать, что наше обоняние требует постоянной информации. Оно хочет ощущать запахи. Вообще вся психосоматика человека постоянно нуждается в пище. Физиология требует физиологической пищи, душа – духовной. Ум постоянно потребляет эту пищу и не насыщается. Иначе, если его остановить, он начинает скучать и умирать, человек испытывает дискомфорт.
Все мы понимаем, чем питается наш ум, но мало кто живёт духовную пищу. Мы не живём её и не понимаем. Нашему уму иногда интереснее получать информацию в формате этого мира, а когда мы открываем Псалтирь или Евангелие, он начинает скучать, потому что не переваривает эту информацию, так как она другого плана, иной природы, а ум настроен на земное. У него нет опыта переваривания пищи духовной. Он пытается насладиться информацией в Псалтири, но, если её читать просто земным умом, она становится не очень-то и богатой. Примерно одно и то же. А если ты её прочитал сто, тысячу раз, она перестаёт тебя удивлять, удовлетворять твоё любопытство. Это я говорю о Псалтири, в которой сто пятьдесят псалмов.
А если взять Иисусову молитву, в ней всего несколько слов: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» Если мы их воспринимаем как внешнюю информацию, скоро они станут для нас обыденными, банальными, примитивными, потом – скучными или даже ненавистными, если мы не поняли, не уловили, что в этих словах присутствует не только рассудочная информация, а есть информация подтекста, Духа. Она слышится не в логической литературной форме, а живётся через впечатление, которое даёт молитва.