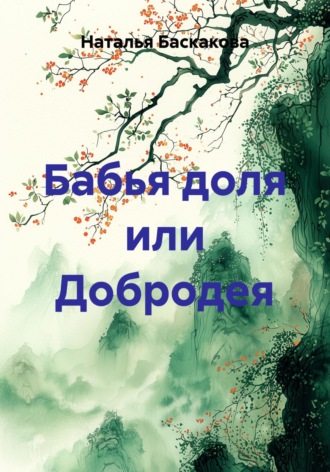
Полная версия
Бабья доля или Добродея

Наталья Баскакова
Бабья доля или Добродея
Автор: Баскакова Наталья Александровна
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Лауреат премии Губернатора Челябинской области 2005 года.
В 1989 году окончила Ленинградскую ордена «Знак Почёта» высшую профсоюзную школу культуры.
Проводит большую работу с детьми и педагогами по проблемам изучения краеведения и аутентичной народной культуры на Южном Урале.
Является автором многих статей, опубликованных в газетах: «Деловой Урал» – статьи «Играет свадьбы Аркаим» и «Фольклор и псевдонародность»; «Южноуральская панорама» – статья «Боль моя, любовь моя милая деревня».
Публикуется в качестве соавтора в коллективных сборниках научных статей: – «Русская свадьба» серии «Этнография и фольклор Южного Урала» – статья «Русские свадебные обряды горно-лесной зоны Южного Урала»; «Мужчина и женщина в народной культуре» статья «Похоронный обряд на горно-заводском Урале»; «Проблемы культурного образовании» – статья «Уроки добра и совести в школе этнографии и фольклора». Является автором-составителем сборников «Этнолингвистический словарь услышанных и записанных слов в Челябинской области», «Народная мудрость гласит…», «Пою моё Отечество».
Повесть «Бабья доля» написана об одинокой женщине, которая взяла во время Великой Отечественной войны и воспитала четырёх сирот. В основу легли реальные события.
Вместо пролога
Дарья подошла к покосившимся кладбищенским воротам, перекрестилась и с каким-то особым трепетом открыла их.
Что за чувство охватывает, когда оказываешься на кладбище, вообще, и тем более, на своём, деревенском. Скорее всего, трепет от того, что именно здесь покоится столько человеческих тел. А ведь все они когда-то были людьми, каждый из них со своей судьбой, со своими привычками, со своими потребностями, со своим характером. Каждый из них, жил, любил, трудился, рожал детей, способствовал продолжению вечной жизни. И вот, что от них – земных людей осталось – холмики, некоторые украшены искусственными цветами, венками и гирляндами, некоторые живыми цветами, высаженными в цветниках, а некоторые заросшие высокой травой. А над холмиками возвышаются кресты вперемешку с небольшими металлическими обелисками и мраморными памятниками, которые как судьба говорят сами за себя. Повествуют они о том человеке, который вечным сном спит в «пуховой» земляной постели.
В мягком шуршании травы, в тихом шелесте листьев деревьев, поющем жужжании пчёл как будто слышится нескончаемый рассказ о тех людях, которые покоятся в кладбищенской ограде.
Могильные холмики, сгрудившись воедино, создают небольшие семейные обособления: вот семейство Харевых, в средине отец с матерью, обнимаемые многочисленными детьми, в разное время отправившихся в мир иной. Красивые это были люди, красивые не только обличием, но и своей душой. Отличались они в деревне неподкупной кроткостью, чистотой и добропорядочностью.
Неподалёку от них ещё одно семейство Лузиных. Подумать только, почти весь род покинул белый свет. Жили небогато, но зато доброта в доме Лузиных была превыше всего.
А вот надгробие Ивана Михайловича Логунова – известного пчеловода. Традиция древнего медового промысла укоренилась в семье уже более трехста лет. Почётный человек в деревне был Иван Михайлович, а почему? Да потому что честностью своей и добродушием увенчал он себя и перед ровесниками, и перед потомками. Фронтовик. В мирной же жизни постоянно заведовал колхозными, а затем совхозными складами. Но, тем не менее, всё его богатство от государственных складов составляла увесистая связка амбарных ключей.
Дарья тяжело вздохнула: вся деревня, с которой она была связана в прошлом, и в настоящем, переселилась на кладбищенский двор
Дарье они с детства до боли знакомы. Потому-то каждый раз она как бы приходит не на кладбище, а в гости сразу ко всей родной деревне.
Но почему, почему так дорого это место? Какая крепкая и невидимая нить связывает её с этой деревней, в которой её предки вначале были
пришлыми чужаками, и только лишь потом многое изменилось в лучшую сторону.
Родовые корни Шлемовых зацепились совсем в другой стороне.
Дарья прошла к могиле, где покоится прах дорогих, близких и родных людей, с которых всё и началось. Женщина поправила тёмно-каштановые волосы, и тёмно-синие глаза её заблестели каким-то особым блеском, может от слёз, а может от чувства благодарности к памяти тех людей, которые смотрят с эмалевой фотографии, прикреплённой на мраморном памятнике, словно два голубка с поднебесья. Это её бабушка и дедушка.
Как это ни удивительно, но именно эта фотография может рассказать о внутреннем характере совершенно разных в своём мировоззрении и мироощущении, в своих поступках и отношениях к жизненным ситуациям людей.
Бабушка Александра, с улыбчивым лицом, по-русски накинутым на плечи платком, наклонила голову на плечо единственного и любимого человека. Блаженство захлестнуло её без остатка. И дед, как бы смущаясь этих нежностей, немного развернувшись полуоборотом, смотрит вдаль.
Дарья медленно наклонилась над могильным холмиком, погладила землю рукой, а затем прикоснулась к памятнику:
– Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, мои любимые, как вам тут вместе? Вот и опять я к вам пришла. У нас всё хорошо. Но, как бы ни сложилась наша жизнь, мы всегда помним о вас. Да и как можно забыть, ведь это целая история.
Дорогой мой дед, на твоих сказках я выросла. Смотрю на жизнь, люблю свой край твоей любовью. Удивляюсь твоей стойкости, проявляемой в любой жизненной ситуации. Как бы мне перенять хоть чуточку твоей скромности, хоть часть твоего аналитического ума.
Бабушка, милая моя, я всю жизнь буду восхищаться тобой, и помнить тебя. Ты для меня являешься воистину фольклорной академией. Вся народная мудрость: песни и пословицы с поговорками, и народная медицина, и притчи – всё было сконцентрировано в тебе одной. Твои высоконравственные чувства по отношению совсем к незнакомым людям были нормой жизни. Но, самое главное, меня удивляет, и до сих пор я не могу найти ответа на свой извечный вопрос: откуда в тебе было столько терпения, тебя обижали, а ты в ответ, только улыбалась, на тебя наваливались, казалось бы, непревзойдённые трудности, а ты унынию предпочитала юмор, вокруг тебя было столько сплетен, а ты старалась жить по правде.
Ты была маститым народным педагогом, имея неофициально два
класса образования, а официально – не одного (жизнь так распорядилась). Лелей тебя величала вся деревня, но ведь лёлей называют крёстную-мать или очень уважаемую женщину.
Откуда в тебе были развиты материнские чувства? Биологической матерью тебе так и не суждено было стать, но в глазах и в душах неродных детей ты и мачехой не стала . Тебя уже нет более тридцати лет, а для своих (приёмных) детей ты до сих пор – мама. Откуда всё это?
Глава первая
Старый колодезный журавль жалостливо скрипел под напором холодного ветра. Не только этот унылый скрип, но и внезапно опустевший большой деревенский двор с вековым тополем, пятистенный дом с резными наличниками и дубовыми воротами – всё, что совсем недавно было до слёз родным – стало не его.
Хмурое, осеннее холодное небо, печальный крик улетающих журавлей, промозглая погода – всё это наводило такую тоску на старика, что порой на когда-то голубые, а сейчас подслеповатые, выцветшие от времени и видавшие виды глаза, то и дело, накатывали непрошеные слёзы.
Стыдясь своей душевной слабости, Трофим раздражённо покрикивал на жену Агафью и дочь Катерину, укладывающих последние пожитки на телегу:
– Ково копаетесь, как коровы, подёт дожж, а то гляди и снег повалит, и будет тогда ни санна, ни тележна. Проворней робить надо.
Сам же всячески оттягивал тот роковой час, когда навсегда покинет родной двор: то для чего-то наводил порядок в стайках, то лез на голубницу,* чтобы проверить, не осталось ли чего, то поправлял сбрую у лошади, то по скрипучей лестнице поднимался на повети**. А в голове у Трофима проносилась вся его нелёгкая крестьянская жизнь с её радостными и горькими днями. Да и как не вспомнить? Здесь в родном селе Крутоярово
он бегал босоногим низкорослым мальчишкой, с ободранными от недетского труда руками.
В Крутоярово жили крестьяне, в основном потомки переселённых из Пермской губернии Кунгурского уезда, которых так их и называли – «кунгуряки» и «кунгурячки». Они были православные, но как-то склонялись к староверам. Потому и книги старославянские были и в разговор примешивали старославянские слова. Строго соблюдали посты и все праздники.
В отношении пищи можно сказать следующее: в постные дни к числу постных кушаний кроме рыбных, относились щи из толстых яшных круп, густая каша из тонких яшных круп, пироги с горохом, грибами или как кунгуряки говорят – губами (отсюда пошло местное название грибного супа – губница), пироги с калиной, черёмухой, маком и другими сушёными ягодами; гороховый и овсяной кисели с конопляным маслом, кулага. Соленье: капуста, огурцы, грибы (грузди, белянки, рыжики).
_________________
* чердак (диалект)
** сеновал(диалект)
Вместо десерта весной крестьяне по сей день едят кислицу, растущую на лугах и пашне. Хлеб кислый не ели, а пекли ситники вместо калачей (белых пшеничных хлебов). В домах небогатых пекли малопитательные рушники (хлебы из теста ярицы – яровой ржи). Про ярушники в народе сложилась поговорка: «Наваляет ярушников стряпуха полную печь, а к вечеру нечего есть».
На Петров пост варились пиканы, которые ели с солью, по этому кушанью кунгуряков называют и по сей день пиканниками. Питьё крестьянское: квас, сусло.
В скоромные дни щи со свежениной (говядиной или свининой) и толстыми яшными крупами; говядина с хреном и уксусом; жаренные гусь, утка, курица, поросёнок, яичница (в глиняной латке); каравашки с молоком и маслом; молоко пресное и кислое; молочные пшеничные пироги, шаньги сметанные, пельяни* .
В праздник постный и скоромный, не исключая Святой Пасхи и Рождества Христова пёкся пирог из солёного судака, не исключалась и местная рыба. из спиртных: пиво, брага (кислушка), вино, водка.
Род Пахомовых чётко соблюдали традиции своих предков. Трофим же был прямым продолжателем пахомовского рода. Своей верностью к земле отцов и дедов, сохранением традиций он и завлёк Агафью – статную с черёмной косой девицу. Здесь народилось пятеро детей, и отшумело пять свадеб.
Сейчас двое сыновей – Евстегней и Иван живут в городе. Катерина вышла замуж за вдовца в другую деревню – Михайловку, куда и направляется на место жительство Трофим. Здесь и схоронили Кию – младшую дочь, которою с малым ребёнком зарубил её мужик. Здесь и раскулачили его, приняв за кулака, А какой он был кулак, никогда не держал работников. Лошадь, соха и борона, небольшой надел земли, да кое-какая скотина – вот и всё его богатство. Силами своей семьи вспахивал землю, сеял и убирал урожай. Всю зиму плёл лапти, туески и снабжал своим товаром свою деревню и соседние башкирские селения. Но местные власти и разговаривать не стали, живёшь единолично, значит – кулак.
При раскулачивании нашлись злые люди, которые донесли о том, что Трофим Пахомов чуть ли ни дань собирал с односельчан и был первым сторонником церкви. Вот поэтому-то и поставили его «к стенке», и только лишь молодой башкирин Рамазан, закрыв собой Трофима, сказал: «Хочешь
крови людской – стреляй в меня, а этот человек пусть живёт, он нужен людям».
И непонятно, почему, но оставили Трофима в живых и выслали на реку Чусовую. Пожили они с семьёй в завшивленных бараках, помёрзли,
______________
* пельмени (диалект)
поголодовали. Но, вероятно, везде есть добрые люди, которые не только разъяснили, что Владимир Ильич Ленин наказывал середняка не трогать, ибо на середняке держится вся Россия, но и помогли собрать оправдательные факты в пользу Трофима.
Отпустили старика с семейством домой. К счастью, и дом ещё не успели занять под колхозные нужды. У Трофима, конечно, прощения не попросили. Живи мол, и этому должен радоваться. А вот завистников появилось ещё больше прежнего. Как же приехал, снова обзавёлся домашностью. И чтобы не повторилось незаслуженное раскулачивание, решил он продать всё своё хозяйство и уехать в другую деревню.
***
Недавно выдали в другую деревню старшую дочь Александру. Александра, правда, не из красавиц, но зато работящая, озорная, бойкая и певунья.
Проворная Александра не могла не запасть в душу. До любой поставленной цели она доходила с особым желанием и упорством. Начала Лёска со своей подружкой Паранькой Тряскиной петь в церкви на клиросе. Мало ей стало петь просто церковные стихи и псалмы, она решила изучать Библию, Псалтирь и Евангелие.
Для прочтения святых книг нужна была хоть маломальская грамота. Лёска-то даже и слово не могла прочитать. В школу ходить было не в чем, да и работы в доме много было. Из всех детей в школу могла пойти только Катерина, которая в первый день сходила в школу, пришла домой и говорит:
– Сёдня пошла, да и завтра пойду, потом ишо пойду и ишо пойду.
А на деле-то по-другому вышло: на другой день сходила, а потом, как отрезала:
– Не пойду и всё.
Досталось ей тогда от отца, а толку-то никакого.
А что же Александра? Чтобы научиться читать и писать, она два года ходила к местной учительнице ночевать, где и познала начальные секреты родного языка. У матери с особым любопытством перенимала целительные навыки. Укоренилась в этой девушке какая-то особая решительность и ответственность. Помнится, как-то пошли они с подружками купаться на реку. Вода была бурная. Воронок полно. Параньку начало закручивать. Девки с криком и визгом выскочили на берег. А Лёска, не растерявшись, подплыла как можно ближе к тонущей подруге, проворно схватила её за волосы и, намотав на кулак длинную косу, стала вытаскивать Параньку из воды. Пока Паранька находилась в воронке, никакой боли от страха не
ощущала. А как только оказались в более безопасном месте, Паранька взвыла:
– Ой, больно-о-о, спасу не-е-ет, пусти Лёска-а-а!
Александра же ухватилась мёртвой схваткой, не соображая ничего, только крикнула:
– Не верешши, зато жива будёшь! – быстро потащила подругу на берег.
На берегу не сразу разобрались, кто был больше перепуган – Паранька, которая была на волоске от смерти, или Лёска, которая впервые в жизни спасала тонущего человека.
Лёска обнаружила в своей руке целую прядь черёмных* подругиных волос. Это-то и разрядило обстановку, долго смеялись над силовым приёмом спасания утопающего.
Немного старше, когда вошли в пору Лёска, Паранька и другие девушки стали начётчицами. Какое- то особое влияние они оказывали на народ. Выступали в качестве советниц во всех жизненных проблемах. Народ видел в них лиц, поставленных высоко над массою своей грамотностью, внешней обрядовой религиозностью: хождением в церковь и отправлением церковно – религиозных обязанностей.
Они не только помогали людям, но и вымаливали погоду у Господа Бога. Если была длительная засуха, начётчицы ходили на Иордан и молились Богу. В результате, чуть ли не происходило чудо, засуху сменяли проливные дожди. Но вот дожди начинали заливать всё кругом, начётчицы поднимались на гору и просили Всевышнего, чтобы он послал вёдрышка на землю. И, откуда не возьмись, сквозь густые тяжёлые тучи выглядывал кусочек голубого неба. Небесная голубизна постепенно заполняла всё большее пространство, тучи отступали, выглядывало солнышко, а дождь прекращался.
И, не зная почему, но больше всего душа болела за Александру. Может потому, что мужик ей достался из беляков, но ведь у Катерины мужик тоже белогвардеец, но надёжный, спокойный. А может, потому что Лёска была самой любимой дочерью, и лиха он ей не желал, как впрочем, никого из детей он не хотел видеть несчастливыми.
Но у Лёски-то с самого начала всё пошло не по-людски. Кия и Катерина «перепрыгнули через колоду» и вышли замуж раньше старшей сестры, а Лёска засиделась «в девках». Чуть было совсем не осталась «вековухой». Но вот и к Лёске постучалось счастье.
Трофим, как сейчас помнит: по весне, когда уже почти растаял снег и земля, покрытая кое-где первой травкой, парилась, как бы тяжело вздыхая всей своей грудью. На деревьях вот-вот должны лопнуть почки, вместо них появится нежная зелень. Вот в такой-то день и подкатила к дому Пахомовых лошадь, запряжённая в качалку.
Подъехали ко двору, привязали лошадь к тополю и вошли в дом двое мужиков в годах, баба и молодой коренастый парень – круглолицый и
румянощёкий, с маленькими бойкими глазками, с пшеничными усиками над пухлыми губами. Перекрестились на «красный угол», баба дотронулась
рукой за печь, чтобы торг состоялся, сели под матку*. Всё ясно – приехали сваты.
_______________________
* красноватый цвет (диалект)
– Здорово живёте, хозяева – пробасил один из мужиков.
– Здорово. Откуль и пошто приехали, и чьи таки будетё? – немного хитрым голосом спросил хозяин дома.
– Из Гусева, Тонковы – мы, – ответил тот же басовитый мужик.
Здесь вставила свой певучий голос всеведущая сваха:
– Сказывают, чё у вас есь курочка, а у нас – молодой петушок.
– Есь, – ответил Трофим.
– А нельзя ли вашу курочку да забрать к нашему петушку?
Торг шёл недолго, Александра-то – перестарок и рядиться было не к чему. Позвал отец дочь. Вышла Александра. Какая-то сразу вся изменившаяся, в яркой кофте и в шерстяном сборчатом сарафане. На голове шёлковый платок. Из бойкой девицы она превратилась в кроткую девушку, от волнения зарделась. Посадили их с Матвеем под образа и устроили запой.
Свадьба была шумная и весёлая. И как это повелось, на свадьбе пировало полдеревни. Свадебный пир горой. На свадебных столах были щи со свининой, со свежиной (говядиной), холодное из свежины, студень коровий, жаркое, баранина, поросёнок, курица, утка, гусь, индейка, пироги с рыбой, с курицей, яичница в латках, каравашки с маслом. Водка и брага рекой лились.
Александра была, как никогда, красивая: накрашенные свёклой щёки и губы, пылали огнём, волосы, уложенные аккуратным венчиком, подчёркивали целомудренность.
невесты. На Александре шёлковый сарафан, пунцовые сафьяновые башмаки и чуйка чёрная суконная. Всё это придавало женственность и какое-то особое обаяние молодой. Матвей же в красной косоворотке был подстать Александре, и эта пара составляла единое целое.
Агафьин племянник Прохор, недавно комиссованный по случаю увечья ноги из рядов Красной Армии, затянул приятным голосом:
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
_________________________________________________
** поперечная балка, поддерживающая потолок (диалект)
Свадебный хор дружно подхватил:
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним…
Но вот песня кончилась, и кто-то из гостей сказал:
– А ну-ка, Александра, давай твою любимую.
И куда делась застенчивость невесты, глаза загорелись каким-то озорным светом, на устах появилась загадочная улыбка. Она взяла заслонку и шабалу, вышла на середину избы, статная, и запела красивым альтом, приятно «окая», наигрывая себе на заслонке:
Вот поймали же чечётку,
Вот поймали же лебёдку
На боярском двору,
Да на боярском двору.
За ней «в круговую» пошли плясать несколько баб, а в средине круга незаметно оказался Матвей, начал выплясывать, то «гусаком», то «в присядку». Скрип хромовых «в гармошку» сапог Матвея вливался в такт игры на заслонке.
Посадили же чечётку,
Посадили же лебёдку
За решёточку,
Да за решёточку.
Нажила себе чечётка,
Нажила себе лебёдка
Ровно семь дочерей,
Да ровно семь дочерей…
Этот день был самый замечательный, самый светлый в жизни Александры, по крайней мере, ей так казалось.
Когда повели молодых ночевать, колодезный журавль пропел своим скрипучим голосом ласковую песню, которой как бы благословлял их на долгую жизнь.
«Ну, вот и хорошо, вот и Слава Богу, – думала Александра – Вот и мне счастье улыбнулось, вот и я стала мужниной женой, и обязательно у меня будет, как у той чечётки, которую поймали на боярском дворе, семь, а может и больше деток».
А над селом ещё долго не смолкали песни: «Хазбулат удалой» сменялся залихватскими частушками, а они, в свою очередь, задушевными песнями.
***
Однако, вот уже скоро полгода, как прошла свадьба, но Александра так и не «зачала», видать, прочу какую-то напустили на бабу. Да и Матвея, вроде как, околдовали: стал пить безбожно, вместо телесных ласк начал частенько «ласкать» он жену словами: «змея подколодная», «ведьма», да изредка, особенно «под пьяную лавочку», пускал в ход кулаки.
Как-то раз пришла в Гусево, где теперь жила Александра, слепенькая странница. Постучала она в окно к Александре и попросила кусочек хлебушка. Александра-то и так никого не отпускала без стакана чая, а здесь и вовсе, её сердце сжалось от сострадания к нищенке. Позвала она в дом странницу, накормила её щами с гусиными потрохами, чаем напоила, да и в дорогу котомочку для неё собрала. Просила, чтобы бабушка осталась ночевать, да пожила бы маленько. Но в ответ услышала:
– Ты – добрая, милка, это в тебе дар божий, а токмо ночевать я у тебя не буду, шибко уж порой ты со своим мужиком в ругани бывашь.
Александра изумилась:
– А ты откуль, баушка, знашь? Хто теби-ко про моё житьё-бытьё сказывал?
– А не хто не сказывал, по глазам вижу.
– Как же ты видишь, ежели глазоньки твои давно белого свету не видят?
– Я сердцем чую.
Немного помолчав, старушка добавила:
– Давай-косе лучше я тебе поворожу. Хто промеж вас с твоим хозяином стоит и чё тебя в жизни ожидат.
Александра заинтересовалась:
– Ну, поворожи нето.
Старуха достала из кармана своего запона узелок с сухими бобами. Кинула эти бобы по столу. Осторожно поводив подушечками пальцев по поверхности бобов, стала рассказывать:
– Есть у тебя, милка, тайная злодейка, котора со дня вашей свальбы зло чинить надумала.
Александра недоумённо спросила:
– На чё жо мине зло чинить, ни чё ни кому худого не желала, дэ и не желаю?
Старушка, глубоко вздохнув, продолжила:
– Ты-то не желашь, да токмо мужик твой ей глянется, вот она и напустила на тебя чёрну порчу.
Потом, помолчав некоторое время, повторно бросила бобы, и опять, касаясь каждого плода, горестно покачала головой:
– И ребятёшек своих у тебя никогда не будёт.
Александра, побледнев, прошептала:
– Дак чё же я так бездетной и останусь?
Странница как будто улыбнулась и убедительно успокоила:
– Нет, милка, Бог тебя наградил доброжелательностью, ты много детей перекрестишь, вырастишь сирот. Будут тебя во всей округе лёлей величать. Именем этим токмо добрых людей кличут. А ишо шибко многим людям ты здоровья принесёшь.
Помолчав, старушка добавила:
– Это будёт потом, а счас уезжать вам с мужиком отсуля надо, не то изведут тебя злые люди, помяни моё слово.
Простилась она с Александрой и ушла. Александра горестно ухмыльнулась:
– Не вры, дак сказки.
Однако, веря и не веря словам странницы, решила проверить всё в доме и во дворе, перетрясти постель. Сказывали же добрые люди, если кто хочет навести порчу, где не будь, что не будь да подсыплет. Заглянула в подушки, и в пере нашла клок волос, да змеиный выползок. Вот значит откуда она у Матюшки «в змеях подколодных» ходит. Наверное, надо действительно уезжать.
***
Все жизненные неурядицы проносились в голове у Трофима Пахомова. И с такими-то тоскливыми мыслями он покидал родной дом, теперь уже навсегда.
Трофим открыл ворота, вывел «под уздцы» лошадь, снял шапку и низко поклонился родному гнёздышку. Бабы залезли на узлы, а Трофим ещё долго шёл рядом с лошадью. С каждой саженью отдалялся от него родной дом, который находился не далеко от святой горы, великомученицы церкви и поповского дома. А впереди ещё была вся его родная до последнего дыхания, растянутая на целых двенадцать вёрст, деревня.
Крепкие дома середняков, кулацкие усадьбы «вперемешку» с ветхими бедняцкими избушками, да и сами односельчане без слов тоскливыми глазами провожали повозку. Да и как не жалеть Трофима, столько он испытал на своём веку: похороны дочери с внуком, ссыльное поселение на Чусовой. А ведь за всю свою жизнь он никому не сделал и не желал плохого. Хоть и был он скуповат, так и скупость-то шла от изнуряющего труда.
Пошёл мелкий осенний дождь, как бы обливая своими горючими слезами род Пахомовых, навсегда покидающих село Крутоярово. И когда уже Трофим выезжал из деревни, усилился ветер и заскрипел старый колодезный журавль, прощаясь со своим хозяином, провожая его в дальний путь. Чтобы не слышать этот плач, Трофим ударил вицей лошадь:

