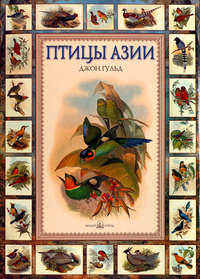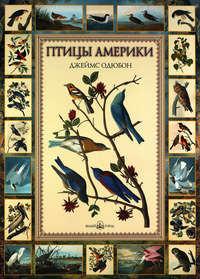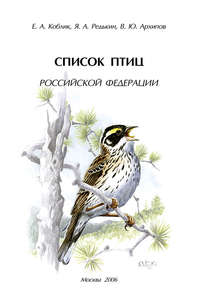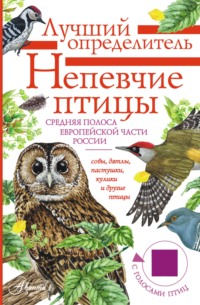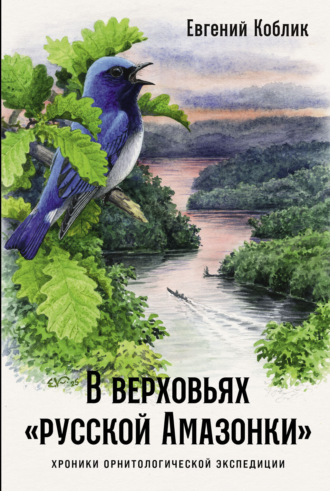
Полная версия
В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции
Я похолодел. Действительно, внутри баула пахло спиртом. И чем дальше я его разбирал – тем отчетливее. Наконец я вытащил подозрительно легкую 10-литровую пластиковую канистру, обмотанную для амортизации тентом. В одном из нижних углов канистры змеилась тонкая трещина, через которую постепенно вытек весь спирт, взятый в экспедицию. Очевидно, емкость повредили при каких-то очередных погрузках-перегрузках (хотя мы поместили ее в центр баула), а за неделю путешествия багажа до Хабаровска спирт успел испариться настолько, что снаружи баул не пах вовсе.
– Та-ак, получается, что как минимум до июля у нас только две поллитры лимонной водки, да и то одну вчера уполовинили за приезд? – мрачно изрек Костя. Водку мы купили в Хабаровске – на первые дни, до распаковки багажа.
– Не-е, я на такое не подписывался! – протянул практически непьющий Николай.
Перспектива вырисовывалась так себе. Спирт был нужен для препаровки и сохранения некоторых научных сборов, «протирки оптических осей». Но в первую очередь, конечно, для поддержания морального духа коллектива, для сугреву в непогоду, снятия усталости и напряжения после тяжелой работы и внештатных ситуаций.
В унылом молчании мы продолжили разбирать вещи. Солидарно с нами природа тоже пригорюнилась, набежали тучи, пернатые замолкли. От многоголосого хора, приветствовавшего нас утром, ничего не осталось. Но тут у лагеря появилась парочка пушистых птиц, похожих на странную помесь вороны с синицей.
Кукши. Нарушая тягостное безмолвие радостным гнусавым «кей-кей…», они мгновенно расправились с рыбьей требухой возле балка и до самого вечера вертелись поблизости в ожидании новых подачек. Остались они и на завтра-послезавтра, добровольно взяв на себя роль мусорщиков, подъедающих наши съестные отходы.
С кукшами нехитрый полевой быт пошел как-то веселее. С утра птички дежурили у входа в сруб, разглядывая карими бусинами глаз и окрикивая скрипуче-мяукающими голосами каждого входящего-выходящего. В возбуждении они то и дело топорщили небольшие темные хохолки, зрительно увеличивающие голову. Круглые лобастые головы в сочетании с короткими, слегка вздернутыми черными клювиками придавали кукшам умилительный облик персонажей мультфильмов и усиливали сходство с синицами, а не с сойками или воронами, как полагалось бы по родству. Неровным ныряющим полетом они и вовсе напоминали бумажные самолетики; среди бело-серо-голубого пейзажа то и дело вспыхивали ржавчатые пятна на их поясницах, закругленных крыльях и хвостах.
Бо́льшую часть дня нагловато-осторожные кукши оставались хозяйками лагеря – по «бетонному» с ночи насту четверо двуногих уходили прочесывать постепенно освобождающиеся от белого покрова мари, продолжая поиски гнезд журавлей. К полудню наступала оттепель, солнце палило с густо-синего неба, рушились ослепительные снеговые перемычки над речкой, бордово-сизыми шариками светилась на рыжих моховых подушках перезимовавшая клюква. Обратный путь был традиционно тяжел: вымотавшиеся за день исследователи снова и снова проваливались в раскисший снег, которого было еще много в лесистых понижениях.
Вечерами, когда мороз опять крепчал, мы грелись у костра или печки, а кукши забирались вглубь ближней лиственницы, за желто-седые бороды лишайника уснеи, к самому стволу. Там они прижимались друг к другу и распушали свое и без того рассученное густое оперение, превращаясь в мягкие дымчато-кофейные шары с торчащими вниз «ручками» хвостов. Точно так же поступала еще одна пара наших пернатых нахлебников – синички пухляки. Днем синиц больше интересовала старая шкура изюбря, вывешенная Николаем для просушки. Пухляки прилежно выщипывали из нее пучки шерсти для выстилки гнезда и уносили к большой елке, стоявшей на полпути к Зеве, – там у них было дупло.
Кукши признаков размножения не выказывали, хотя по идее в это время у них должны быть большие птенцы в гнезде или даже слётки. А в небесной лазури по утрам кувыркались, гудя атласным пером, во́роны. Эти тоже гнездятся очень рано, а вот поди ж ты – здесь брачные игры еще в разгаре.
Ворон
Ворон для меня – особенная птица. Эволюционная попытка отряда воробьиных выдвинуть из своих бесчисленных рядов некое подобие грозного и гордого хищника – большого, с прекрасными летными качествами и опасным клювом, компенсирующим отсутствие острых крючковатых когтей. Хищник получился универсальный и специфический, с заметным уклоном в падалеедение и собирательство всего, что плохо лежит. При этом – с уровнем интеллекта, заметно превышающим уровень любого орла, ястреба или коршуна. Впрочем, и более мелкие врановые – признанные умницы. Вокализация воронов необычайно богата и разнообразна, а основное «кррук, кррук» – очень музыкальное и деликатное, сродни скорее трубным кликам журавлей и лебедей и совсем не похоже на надсадное карканье воро́н.

Во времена моей юности ворон считался редкой птицей Подмосковья, не то что сейчас. При этом он давно и широко освоил добрую часть Северного полушария – от арктических островов до мексиканских и тибетских нагорий и от Атлантики до Тихого океана. Всегда и везде интересно наблюдать за повадками внушительной черной птицы: вот она вальяжно мерит землю неторопливыми размашистыми шагами и вдруг суетливо засеменит, мелко запрыгает, словно пытаясь удержать равновесие. Ни дать ни взять бравый отставной полковник, поскользнувшийся на натертых паркетах дворца императрицы! А уж как может передразнивать других птиц, зверей и даже человека! Не зря у индейцев Северной Америки, народов Арктики и севера Евразии ворон считался священной птицей, а то и божеством.
На Зевинском плато в небольшом числе попадалась и большеклювая ворона – немного уменьшенная карикатура на ворона: утрированно горбатый клюв, более высокий умный лоб, такие же ромбовидный хвост и блестяще-черное оперение. Но лишена она окладистой бороды, придающей ворону солидность и степенность! И голос совсем другой – тоже не обычное карканье, а чуть натужное размеренное «ха… ха… ха» с ударением в начале фразы. В отличие от ворона, предпочитающего на Дальнем Востоке горы, большеклювая ворона более обычна в нижних поясах. Ее раскатистый хриплый хохот привычно сопровождал нас повсюду в тайге, на марях и в пойменном лесу вдоль Бикина и его притоков.
Естественно, погода на плато время от времени преподносила сюрпризы, вмешиваясь в неотвратимо-поступательный ход весны. Пара ясных ночей с пронзительно-звездным небом выдалась очень холодной, созвездия загадочно мерцали, а температура спускалась к –10°. Подмерзнув в палатках в первую такую ночь (увы, не было у нас тогда термобелья и полартековых флисок!), следующую мы всем скопом провели в избе, потеснив Николая. Утром он безропотно принялся за строительство дополнительных нар. Все оставленные на улице вещи задубели до звона и оттаяли только к половине десятого. Остатки влаги в ведре, мисках и кружках превратились в ледяные кругляши.
Зима вернулась 9 мая. Тяжелые низкие облака полностью придавили сопки по периметру плато. Резкий ветер принес с востока мелкий колючий снег, порой разыгрывалась настоящая метель. Сквозь завывание ветра и непрерывный шорох снега лишь изредка попискивала синица. Еле видная под снегопадом, пролетела скопа, таща в лапах пук сухой травы – очевидно, подновляет свое огромное гнездо, накануне обнаруженное нами в устье Малой Зевы. Мы проводили ее сочувственными взглядами – вряд ли хищнику удастся сегодня порыбачить. А на гнезде наверняка уже намело сугроб.
Но маршрут никто не отменял! Теплилась надежда, что журавли в такую пору будут более плотно насиживать кладку и взлетать ближе, чем обычно, демаскируя гнездо. На очередном болоте – белое безмолвие, встречный снег сечет лицо. За весь день встретили одного конька и одну пеночку. Тяжело чавкаем сапогами между побелевшими кочками, нарушая сложный желтоватый узор из торфяной жижи вперемешку со снегом. Среди набродов зайцев, глухарей и лосей видны недавние следы одинокого журавля, но и только.
Обследовали марь до восьми вечера. Едва не заблудились, лишь окончательно замерзнув и промокнув, подались назад. К этому времени с небес повалило густыми пушистыми хлопьями, начало стремительно темнеть. С заснеженных елок у реки неохотно срывались рябчики, протаявшие участки русла вновь покрылись ломким сероватым ледком. Впервые ужинали в балке, в синих сумерках снаружи мело, на палатках и столе росли высокие белые шапки.

Зато следующим утром Юра не без удовольствия режиссировал драматичные кадры нашего с Костей выхода из полузасыпанной палатки в восьмисантиметровый слой рыхлого свежевыпавшего снега. Через час заметно потеплело, снег напитался влагой, с деревьев начали с шумом срываться увесистые гирлянды кухты[3]. Под крышей избушки в ряд выстроились сосульки, слегка подсвеченные больным красноватым солнцем, еле проглядывающим сквозь пелену туч. Часа через три громоздящиеся вокруг влажные сугробы стали ощутимо оседать, зазвенела капель, но во второй половине дня небеса снова прорвались снегопадом.
Непогода испытывала нас несколько дней, мокрый снег переходил в ледяной дождь и обратно. Иногда хмарь угрожающей плотной пеленой сползала с северных сопок, заполняя нашу котловину туманом и моросью так, что почти невозможно было высушить одежду, а залезание в отсыревшую палатку становилось сущим мучением. Чтобы не простыть (эх, по стопочке бы порой не мешало!), натирались «бальзамом» – топленым барсучьим жиром, захваченным Николаем. Из гибкой лозы и обрывков рыбацкой сети Николай соорудил на пробу нечто вроде снегоступов, но крепить их на резиновые сапоги оказалось морокой, и идею пришлось похоронить.
Потом на плато снова возобладала весна. Потеплело, вода в реках и ручьях начала резко прибывать. Там, где мы по утрам переходили водные препятствия по мостам голубых наледей и сахарно-снежных надувов, на обратном пути приходилось искать броды. Усиливаясь с каждым днем, плыл особый ранневесенний запах: сложная гамма из ноток талого снега, болотной воды, прошлогодней растительной ветоши и прели, нагревшейся на солнце хвои и смолы. Мы с наслаждением вдыхали его полной грудью.
Опять появились бабочки и прочие насекомые. На поверхности мелких лужиц цвета круто заваренного чая, как из ниоткуда, возникли водомерки и каемчатые пауки доломедесы, по дну ползали улитки. Вдруг резко активизировалась герпетофауна. Как-то после полудня по мочажинам на всех марях разом затурлыкали бурые лягушки, а к вечеру они уже успели отложить студенистые комки икры. Лягушки здесь, похоже, были сибирскими, с красными пятнами на пузе и бедрах, а не дальневосточными, с ровным желто-розовым низом, как на марях нижнего Бикина. На сухой гриве, заросшей несколькими видами ягеля и низенькими кустами сибирского можжевельника, мы поймали еще вялую живородящую ящерицу.
На озерце в центре живописной округлой мари, напоминающей неглубокую тарелку, резвились селезни. Гулко ворковали гоголи в белых манишках и с пухлыми белыми щечками. Пищали резиновыми игрушками свиязи с кремовыми лысинками над голубыми клювами. Издавали хриплое раскатистое «керррр» большие крохали со сливочно-розовым низом. Нежно свистели «трик… трик…» тонко расписанные чирки-свистунки с блестяще-зелеными зеркальцами на крыльях. То ли пролетные, то ли все уже местные. Самок-уток на такое количество кавалеров казалось маловато, хотя, скорее всего, они в своем скромном оперении лучше сливались с окружающей средой. Невесть как оказавшуюся здесь «южанку» – самку черной кряквы – то скопом, то по очереди атаковали с гнусавым кряканьем несколько самцов обычной кряквы. Она всеми силами старалась уйти от насилия, чреватого гибридным потомством, и спасалась от назойливых преследований под свисающими с кочек соломенными прядями осоки.
Юра поставил в кустарниковом ольшанике у озера скрадок, укрытый маскировочной сеткой, и частенько сидел там целый день, снимая разнообразную утьву и куличье. Иногда позади скрадка кричали журавли, и Юра круто разворачивал свою технику внутри убежища, в надежде наконец-то засечь в объектив расположение гнезда. Приходил в лагерь уже после заката – к 10 вечера.
По ночам, прежде безмолвным, с неба доносился свист крыльев, слышались гусиный гогот и грустные свирели тундровых куликов – тулесов и бурокрылых ржанок. На болотных разводьях к местным куличкам чернышам присоединились северяне: фифи, щеголи и азиатские бекасы. По опушкам кочевали стайки пролетных овсянок-крошек, лапландских подорожников, гольцовых коньков и зеленоголовых трясогузок. У реки запел первый самец седоголовой овсянки, а через пару дней – первый самец таежной мухоловки. Появились большие подорлики и ястреба-перепелятники, как-то через весь небосклон величественно продефилировал орлан-белохвост, а крупные светлые канюки ежедневно токовали в бледной синеве над кромкой леса. Однажды, продираясь через прирусловой ельник по колено в снегу, мы с удивлением и радостью заметили в лазурной вышине одинокого стрижа-колючехвоста – первого вестника подступающего лета.
Верхний Перевал
«А под Верхнеперевальской сопкой в тенистых местах наверняка уже распустилась джефферсония», – думал я на маршруте, щурясь от солнца и набивая рот горстями терпко-кислой и сочной прошлогодней клюквы. Джефферсония сомнительная – замечательный декоративный первоцвет Уссурийского края! Розетка тускло-зеленых сердцевидных листьев, багровеющих к краям, и пучок нежных цветов на длинных стеблях – тычинки желтые, а светлые шестилепестные венчики словно подержали несколько минут в густом бордово-фиолетовом вине типа «Изабеллы» или «Черных глаз». Конечно, в начале мая в здешних лесах цветут и ветреницы, хохлатки, фиалки, селезеночник, гусиная лапка, но с первой же встречи именно джефферсония для меня – символ дальневосточной весны.
Первые годы Костя и я начинали знакомство с бассейном Бикина с низовьев. Главной базой служил поселок Верхний Перевал. Верхний он, конечно, по отношению к Васильевке, Звеньевому, Лесопильному, Бурлиту, Алчану – населенным пунктам, расположенным еще ниже по реке, в зоне освоенной человеком маньчжурской лесостепи, тянущейся вдоль Уссури с юга на север. В прежние времена поселков и деревень было больше, ныне многие исчезли. Например, Нижний Перевал – некогда он образовывал с Верхним Перевалом одно поселение, называемое просто Перевал, затем Красный Перевал. А выше все разрастающегося Верхнего Перевала начинается последний на всем Дальнем Востоке крупный массив почти не рубленной уссурийской тайги, доходящий до водораздельных хребтов на севере, востоке и юге.
Сейчас лишь небольшие поселки Красный Яр, Олон, Соболиный и Ясеневый стоят на таежных берегах. В среднем течении Бикина дорог уже нет, единственной транспортной артерией остается река, и до последнего поселочка Улунги (это уже верховья) можно добраться только на лодках. Либо по воздуху – на заказанном в районном или областном центре вертолете.
В конце апреля – начале мая, запоздалыми веснами, мы заставали в Верхнем Перевале и утренний иней, и тонкий белесый ледок над высохшими лужицами, а порой пробрасывало и зарядами снежной крупы. И это почти на уровне моря, на широте примерно между Ростовом-на-Дону и Астраханью! О дальневосточных климатических причудах метко говорится в местной пословице: «Широта-то крымская, да долгота колымская».
Верхнеперевальская сопка стояла еще прозрачная, монгольские дубы поскрипывали голыми ветками, а у их подножия лежал толстый ковер сухих скрученных листьев. И все равно она имела какой-то южный, кавказский облик. Сквозь шуршание опада под ветром едва пробивались тихие посвисты еще не улетевших на север серых снегирей, цыканье только что прибывших с юга желтогорлых овсянок. Лишь молодецкое бульканье и залихватский свист местных резидентов – поползней легко перекрывали шелест палой листвы.
Как-то раз шорох опада на сопке показался нам особенно громким, несмотря на весьма слабый ветер. Мы терялись в догадках: кабанов, косуль или изюбрей не видно, кто же бродит вокруг? Решили, что проснулся барсук или еж, как вдруг из вороха медной листвы выглянула серая птичья головка с хохолком и обведенным белой окружностью темным глазом.
Мы застыли в недоумении. Головка еще несколько раз появлялась то здесь, то там, как перископ подводной лодки. Потом поодаль возникла вторая голова, и тут уж сомнения отпали – алый клюв, ниспадающий хохол, броские белые поля над взъерошенными рыжими щеками. Мандаринки – уточка и селезень. Они промышляли прошлогодние желуди под рыхлым слоем грохочущих дубовых листьев. Недаром одно из местных названий мандаринки – «желудевка» (хотя на Дальнем Востоке эту утку чаще называют «японкой»). Мелькая меж толстых дубовых стволов, спугнутые мандаринки с какими-то чаячьими криками полетели вниз вдоль склона – на спасительную реку. Впереди, как полагается у уток, самка, за ней самец, выглядящий со спины в полете непривычно темным и невзрачным – куда скромнее селезней кряквы, касатки или чешуйчатого крохаля. Зато сидящий на воде или ветке – он, конечно, настоящий красавец, одни паруса над спиной чего стоят!
Даже дружной теплой весной пойма у поселка уже зеленела вовсю, а сопка долго оставалась голой и бурой. Дубы подергивались горчичной дымкой лишь к середине мая.
Расширяя круг поисков, мы осознали, что до дальних марей трудно добраться из базового лагеря даже за долгий световой день. Пришлось уходить с ночевками, планировать временные лагеря. Названия болотам давали условные, рабочие: Большая марь, Узкая марь, Круглая марь, Дальняя марь, Сухая марь, Затяжная марь. Ориентироваться даже с помощью GPS-навигатора было непросто, то и дело нас ожидали топографические открытия. Узкая марь в конце концов оказалась отделенным рёлками карманом Большой мари – стоило зайти с другой стороны. Устье Малой Зевы отстояло от нашего лагеря заметно дальше, чем указывала карта. Мы пользовались ксерокопиями карт-двухкилометровок, на которых мелкая речная сеть оказалась нанесенной весьма условно, а линии-изогипсы и цифровые обозначения высот прочитывались не всегда. И уж конечно, не были обозначены конфигурации болотных и лесных массивов.
Николай то ходил с нами, то оставался на базе выполнять продовольственную программу. Он ловил ленков и пластал их надвое, затем наносил поперечные надрезы на мякоть, не трогая кожу. Между прочим, чукчи, готовя юколу (сушеная или вяленая рыба, чаще лосось), к таким ухищрениям обычно не прибегают. Усыхая на солнце, подсоленная рыбья плоть скукоживалась кверху и книзу от надрезов и превращалась в твердые кубики с изнанки кожи – отличный порционный сухпай. Провялившиеся половинки ленков с деревянным стуком раскачивались на вешалах вокруг избы, напоминая гирлянды узких красновато-бурых флажков. А к нашему возвращению, экономя казенные продукты, Николай готовил манэ – удэгейское блюдо из рыбы, томленной большими кусками в малом количестве едва кипящей воды. К утру остывшее малы превращалось в настоящее заливное с очень нежным вкусом.
Придя с маршрута и окинув взглядом очередной улов Николая, столь же азартный рыбак Юра забывал про усталость, хватал спиннинг и убегал на ближний перекат. Он не успокаивался, пока не приносил хоть одного ленка или парочку «хайрюзов». Все ленки были мерные – полуметровые и полуторакилограммовые, очень красивой окраски – жемчужно-золотисто-оливковые с россыпью круглых черных пятнышек, окаймленных светлыми ореолами. Плавники отливали малиновым. Снулые ленки быстро темнели, и на боках рыб вдруг проступали рыжие ромбовидные пятна. Некрупные серебристые хариусы с радужными знаменами на спинах шли в основном на уху. Увы, как известно, какой бы вкусной ни была уха, без сопровождения стопочкой ее можно смело переименовывать в рыбный суп!
Желудки ленков оказывались неизменно набитыми небольшими раками, длиной примерно в мизинец. Некоторые рыбы были уже с икрой, и мы делали малосолку в большой алюминиевой миске. В бассейне Бикина нам везде встречался только тупорылый ленок, которого ихтиологи считают то отдельным видом, то экологической расой ленка острорылого. В среднем течении иногда попадались рыбины по пять и больше килограммов.

Юрий
Важное весеннее мероприятие в любой деревне, любом селе на большей части нашей страны – посадка картошки на личном огороде или поле. Базируясь в Верхнем Перевале, мы почти сразу же по приезде помогали старикам-хозяевам – Борису Константиновичу и Анастасии Ивановне в этом хлопотливом трудоемком занятии. Мероприятие происходило на майские праздники, порой позже, в зависимости от погоды и фенологии. Помочь родителям обычно приезжали и Юрий Борисович с женой Инной. Оба были сотрудниками заповедника «Кедровая падь», он – орнитологом, она – ботаником. Тогда-то, лет пять назад, мы с Юрой и познакомились.
На Юру мы смотрели как на живую легенду. Он родился на Бикине, в не существующем ныне таежном поселке Сяин, когда его отец работал там учителем. С 19 лет Юра вел наблюдения за животными в «Кедровой пади» и на озере Ханка. Затем, параллельно с учебой в Уссурийском пединституте, обследовал почти весь нижний и средний Бикин в качестве младшего напарника известного ленинградского орнитолога Юрия Болеславовича Пукинского. Пукинский десять сезонов изучал жизнь дальневосточных сов, в первую очередь загадочного и малоизученного рыбного филина. Начал в 1969 г. на юге Приморья – в той же «Кедровой пади», затем по совету Бориса Константиновича перебрался на Бикин. В фокусе исследований оказались и другие редкие и скрытные птицы, в том числе черные журавли, или журавли-монахи. Первые в истории гнезда этих журавлей два Юрия и Борис нашли на марях среднего Бикина в середине 1970-х. Натуралисты не обошли вниманием и особенности распределения, экологических предпочтений, гнездовой биологии фоновых птиц Уссурийского края, включая воробьиных. Самостоятельные исследования Юры на Бикине до и после сотрудничества с Пукинским тоже заслуживали уважения.
Однако куда больше, чем просто орнитолог, Юра был известен как замечательный фотограф дикой дальневосточной природы. Его снимки гнездовой жизни птиц, запечатленной сначала на черно-белую, а затем на цветную пленку, считались классическими, а многие виды пернатых были сфотографированы впервые в мире. Он первым обнаружил и сфотографировал тростниковую сутору в тростниковых крепях озера Ханки (и нашел ее гнездо), нашел гнездо синей мухоловки с яйцом ширококрылой кукушки, доказал гнездование хохлатого орла в России. В 1991 г. Юра стал первым российским фотографом-натуралистом – лауреатом известного международного конкурса Wildlife Photographer of the Year.
Глядя на потрясающие кадры с гнездами черных, даурских и японских журавлей, а также выкармливающих птенцов рыбных филинов, ястребиных сарычей, зеленых квакв, личинкоедов, широкоротов, китайских иволг, райских мухоловок, мы всегда спрашивали: как возможно снять такое? И Юра охотно делился премудростями ремесла – как неделями искал гнезда, сутками безвылазно сидел в скрадках, боясь не то что выйти, а лишний раз пошевелиться, чтобы не демаскировать себя и камеру. Как строил лабазы на соседних деревьях, вровень с интересующим гнездом, и долго ждал, пока привыкнут птицы (сейчас достаточно поднять в небо дрон с аппаратурой!). Как на Ханке по ночам, по пояс в воде буквально по метру двигал вперед лодку с шалашом, чтобы подобраться по заросшему низкой осокой мелководью к гнезду пугливых японских журавлей.
В своем заповеднике он устраивал хитроумные засидки на дальневосточных леопардов, настораживал фотоаппарат натянутой леской и стал первым, кто снял этих замечательных пятнистых кошек. Он с удовольствием показывал нам распечатанные кадры из готовящегося альбома: леопардов, осторожно крадущихся в зарослях, сидящих на скальных останцах, переходящих ручей по поваленному дереву. И это учитывая, что о цифровых фотоаппаратах и реагирующих на движение фотоловушках никто из нас в те времена почти не имел представления. А вот нынче крупными планами леопардов из «Кедровой пади» уже никого не удивить!

Время от времени Юра принимал участие в наших коротких вылазках вокруг Верхнего Перевала, но в большой экспедиции оказался в такой компании впервые. Начальство заповедника со скрипом отпустило сотрудника на несколько месяцев в самый полевой сезон – только после писем из академии наук, организованных Костей. Юра никогда не поднимался выше Улунги, и посмотреть самые верховья бассейна Бикина было его давней мечтой. Кроме того, Костя соблазнил Юру съемками для телеканала National Geographic – будучи опытнейшим фотографом, он куда менее уверенно чувствовал себя в плане видеосъемок, хотя нельзя сказать, что делал только первые шаги на этой стезе.
У Юры жилистый кряжистый торс, выпуклые крестьянские скулы, обветренное лицо с вечным землисто-бурым загаром, лучи морщинок у чуть прищуренных глаз. Прямые темные волосы падают на лоб отросшей челкой, окладистая борода разделена ровно посередине, от центра усов до подбородка, контрастным ромбом чисто-белых волос. На симметричный седой клок в бороде, придающий Юре определенный шарм, я непроизвольно обращал внимание в первые дни знакомства с ним, пока не привык. Юра – самый старший член нашей команды, прямо перед поездкой ему стукнуло 45.