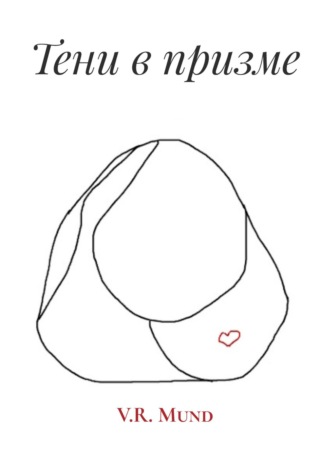
Полная версия
Тени в призме

V.R. Mund
Тени в призме
Посвящаю Мухиной Л.В.
Светлая память на тёмном основании.
Глава 1
Если вам вдруг случится упомянуть четырнадцатое апреля в моём присутствии, знайте наверняка – я стану взволнован, а моё странное настроение пошатнётся. На беседу невозможно и уповать, ведь слова, многие из которых не составили бы и единой живой фразы, дай им шанс родиться, залягут комками во рту, как дешёвый крахмал в шелковичном киселе. Таким напитком не чествуют гостей, и я вряд ли утолю хоть единой капли вашего любопытства. Да и своего личного тоже, ведь о каком именно четырнадцатом апреле могла бы идти речь, я едва ли вспомню. Прирост четырёхзначного числа в этой связи, потерял для меня какую бы то ни было ценность. Но вы вряд ли набредёте на меня.
Если постановить сию минуту, что прозябание и юдоль наша – одна сплошная и, суть важно, единственная тропа, никто не оспорит такое понимание порядка, будь он законченный фаталист иль нигилист без подмеса. Я же неторопливо покачаю головой. Одна последняя вера, что осталась навсегда при мне, и которой я мог бы возвести храм, будь у меня силы хотя бы смотреть в небо – вера в то, что я каким-то образом сумел перешагнуть с одной стези на другую. Перескочить одним неразрешимым усилием, которое, по воле случая, не требовало от меня никаких напряжений. И до конца своих (или несовершенно чужих) дней мне предстоит гадать, кто перевалился в исправленное, замазанное вселенской побелкой бытие – я, или мой не родившийся, но ошибочно существующий альтернат. Один из тех миллионов вариантов, какие возникают на тонкой грани момента: упадёт ли на голову сосулька, подавиться ли товарищ коркой хлеба, заговорю ли с вон той девушкой в метро, что каждый день катается вместе со мной по пути в Гимназию и каждую неделю подвязывает разного цвета резинками совершенно нелепые, неподходящие её лбу, две толстые косы.
Но я точно уверен, скажу более – осведомлён, что была у меня моя жизнь до четырнадцатого апреля: жизнь простая, обыкновенная, трезвая. Я не путал ушедший день с новоявленным, не косился мнительно на обласканные полутенями заострённые черты лиц, не объяснялся сбивчиво, честно жалел и ужасался привычным нашим трагедиям, смотрел через разборчивую прозрачность воды на предоставленное в распоряжение дно. Мне всё было понятно – когда гулять, когда трудиться. Я по-душевному кашлял, когда становилось мне, как часто бывает у нас, неприятно за себя. Я хохотал, и чем глупее и пошлее была шутка – тем отвязнее зарывались голубенькие еловые веточки мне в пах и живот. Я умел читать календарь. Я вёл счёт деньгам и праздникам, даже гулял единожды на свадьбе моего не очень близкого приятеля, пригласившего меня тогда, вероятно, ради многолюдности пиршества. А я и не принял во внимание, да не обиделся тогда на эту занозу, ведь осознал её только сейчас, когда у меня появилось много пространства для подвижности ума.
А ум этот, между прочим, бодается совсем уж неприятно, подчас мне с трудом удаётся перевести дыхание от его толчков. Всё потому, что движения его болезненны, резки и неуместны, ведь он – калека. И потому вынужден попросить пардону за то, что скуп на подробности. Я не прячусь и не залёг на дно. Направления полётов спутались для меня. Я сержусь на флегматичное звёздное небо, потому что оно предательски неизменно. Оно отказывается чертить на себе новые схемы, давать мне подсказки, отказывается поделиться со мной хотя бы одной путеводной звездой. И от того просыпаюсь периодически и неловко от парада снов, каждый – как часть моей нарочной жизни; просыпаюсь в одной и той же тёмной комнате, из раза в раз, на том же месте. Слышу, как переливается мякоть внутри меня, знаю о наличии предметов вокруг, ощущаю звонкого комара у уха и, перелистнувшись на другой бок, опять мерещусь себе со стороны, не в силах окончить это, поскольку к самому концу теперь питаю самые веские подозрения. Я просто кашалот с застрявшим в глотке хламом, а по большому счёту – подсохшая омела, лежу в пробеле между двумя любимыми нашими лакомствами: прошлым и будущим. И покуда из этой низины есть у меня возможность плести что-то наподобие рассудка, то хочется воскресить (презираю отныне это слово!)… Лучше сказать, приподнять кое-какие факты из каталога, который я позабыл на обочине жизненной тропы.
В предпоследнюю осень моей жизни я окончил Гимназию, и мне вручили серебряного коня – хвалебный знак отличия достойных, но не первейших. Эта эмблема в виде застигнутой во время галопа лошади на фоне широколокольчика по сей день лежит где-то в доме родителей и напоминает моей маме о неплохих днях. Она, наверняка, хнычет почти каждый раз, как берёт его в руки. А в мою заскорузлую, ненадёжную память тем временем закатывается воспоминание о приоткрытой форточке в спальне, впускающую спелым утром сплетённые запахи солнечных пылинок и зелёных листьев ольхи – они росли у окна. Эта реминисценция заменяет мне икоту.
В течение пяти лет после завершения учёбы нас обязали работать на Производстве. И поскольку я обладал достаточными навыками и знаниями, но не входил в десятку золотых жеребцов в прыжке, мне было суждено, волею ректорских кручёных усов, провести следующую пентаду зим в ста девяносто восьми и восьмидесяти четырёх сотых милях от родного города.
Такую новость я воспринял негодованием и задержкой дыхания. Я спорил с деканом, отрицал свою принадлежность к числу трудяг на периферии, был готов сражаться за достойное место в центре большого города. С икроножным остервенением собирал доверительные письма с Предприятий, на которых успел побывать за время обучения, гарантировавших видом размашистых, кружевных подписей и шестиугольных зелёных печатей, что меня помнят, мною остались довольны и готовы видеть у себя. Потеряв привычный аппетит, несколько раз я навещал Министерство. Первый раз меня принялись по-отцовски утешать (чем нервировали ещё сильнее): заверяли, что работа в отдалении – почёт, что мне не будут с соревновательным интересом пытаться отгрызть пальцы, что люди, не удушаемые перенаселёнными домами, чутки, благодарны и приближены нравом к замечательной природе, окружающей те самые крошечные закутки, рассыпанные сахарными зёрнышками на административных картах. Во второй мой визит мне пригрозили: в случае неповиновения я буду распят иссушающим штрафом и двухгодовым волчьим билетом. А в третий раз вовсе отказали в отбитии порогов – за это я заплатил продолговатой трещиной в кухонном столе, надколотой заусеницей на кружке и пятидневно ноющей кистью. Вердикт был однозначнее смерти.
В ту бытность сражения с неизбежным, уткнувшись однажды в душистую подушку после очередного припадка ненависти, я видел грёзу: моë тело направляется в ненаглядный парк около родного дома. Оно удаляется и удаляется вглубь, по знакомой аллее, под гнётом отличной, ясной погоды. Мне хорошо и спокойно, я волен забыть сумятицу бодрствования и потому я весь отдаюсь шагу и дороге. Дорога продолжается, я следую глубже между деревьев и украдкой достигаю противного яви, но такого верного для сна понимания – я не входил в родной парк. Обстановка уже переметнула маски, сорвала кулисы. Слева я нахожу неплохой, не заляпанный тиной пруд, а справа – два гигантских пустых грузовых морских контейнера. Вдали меня ждут многоэтажные дома и клубящийся у их подножия детский смех. Я осознаю, что это и есть та несуразная глушь, та кладовая, в которую меня намереваются запереть. Вашего неверного слугу подло заманили сюда. Я просыпаюсь в сомнительном настроении.
Местом моей каторги определили мелкий городок Пепельное Дерево. Припоминаю сквозь пелену слипшегося песка неделю перед отъездом: суматошная скачка по магазинам, раздражённое разбрасывание вещей по сумкам, порывистые речи, вечно крутящееся у виска лицо мамы и смотрящие на меня сквозь зеркало остервеневшие глаза. Изо дня в день меня бальзамировали, напоминая, что я совершенно легко могу приезжать домой каждые выходные, что стоимость билета и исправность рейсов позволяют подобную радость, что меня всегда будут ждать свежевыглаженные вещи, тёплая еда и родимая постель. Но такие утешения не приносили облегчения. Наоборот, я чувствовал, что зверею ещё больше. Это представлялось мне ничем иным, как окошком в тюремной камере, раздражающим напоминанием о том, что я мог быть по ту сторону неприветливой стены, другими словами – простой издёвкой. Потому я твёрдо постановил тогда заключить себя в полный комплект кандалов и поклялся, что за эти пять лет даже не притронусь мыслью к автобусу в сторону дома. Каким же любопытным кажется мне теперь это заверение.
Как только каштаны утомились держать на себе окунутые в прогорклую шоколадную жёлчь, изъеденные пламенем веера́ и бросили их на землю, я сел у окна на самом заднем сиденье небольшого автобуса, махнул родителям и со всей силы выпрямился, стараясь разнять защемившее чувство в груди. Моё лицо прилипло к стеклу, я не снимал глаз с недостоверного портрета мира: с порослей кучкующихся и одиноких домов, обогатительных фабрик, торчащих где-то перед горизонтом труб котельных, ветряков, указательных знаков, с перебегающих дорогу речушек, со стада коров, пасущих старого пастуха, с волн убранных рапсовых полей – широких и противящихся всякому мерилу. Я утрамбовывал выпорки налетавших раздумий, суммировал в уме путь – мне чудилось, что он займёт полный оборот вечности. Птицы летели задом наперёд. На уверенно мрачнеющем небосводе плыл оставленный Нефелой пух.
Я окончил считать полосы разметки спелым вечером, когда напуганные тени потянулись прочь от оранжевого-розового догорающего дня. Автобус вальяжно протоптался по рельсам переезда. С него начинался грузный потолок городка. У подножия железнодорожной будки с длинной молчащей трубой и рыхлым окном была выбита нора, в которой затих какой-то зверëк. Мне показалось, серая лисица.
Первым, что бросалось в глаза было четырнадцатиэтажное здание паровой мельницы, которую, как я очень скоро узнал, в Пепельном Дереве называли, совершая особое, плотное ударение на первый слог. Таким, что мягенькая, пористая "е" превращалась в прессованную, задушенную "э". Так вот, от вида этой «мэльницы» невозможно было уклониться. Она всюду лезла в лицо: в любом переулке, под любым деревом, за каждым поворотом. Еë протестантский фасад, умасленный самыми мучительными отголосками светло-серого и металлического, с непроницаемыми для души стёклами, безвкусным числом этажей и богомерзкой прямотой нескольких тонких труб преследовал каждого, кто осмелился родиться или связать себя с этим городом.
По обе стороны от расковырянной, надломленной по краям проезжей части, валялись частные домишки, все непохожие друг на друга. Каждый с родовой отметиной: вмятой крышей или двухцветным (ультрамариновым и пастельно-зелëным) окрасом осыпающегося песчаного кирпича; скрюченным сухим дубом во дворе или мятыми воротами, поросшими плющом; диковатой башневидной пристройкой, укрытой на две трети чëрной парусиной или расколоченным в щепки забором. Я видел длинное пугало, сбежавшее с полей по случаю инвалидности – половина его жестяной головы была отломлена – и поступившее на службу к одинокому деду, считающему каждое утро единственным глазом коллекцию мёртвых мух и тараканов на обеденном столе. Видел прелестный, прекрасный дом с молочно-розовыми стенами, медовой черепицей, трубой в виде скворечника и декоративной лепниной на углах и вокруг естественных домашних отверстий, весь окутанный белыми трубчатыми цветами; я чувствовал, провожая взаимным взглядом подоконники с резными горшками, чувствовал, как знал – его пол сотворён из того расколоченного забора. Он скрипит каждой щелью, каждой пробоиной, прогибаясь под пудовыми отёчными шагами разжиревшей леди, бороздящей без всякого толку великолепные просторы своего дома. Мы проковыляли, минуя обугленный кадавр грузовика без колëс и дверей, в котором вяло резвились измазанные отсыревшей сажей дети, в одном нижнем белье. За машиной прятался замученный деревянный сруб.
Пока автобус старательно стонал вперëд по протяжной главной дороге, меня стало подмучивать от неритмичный, фальшивых аккордов: столбы электропередач шагали на неравном расстоянии. Они то отдалялись друг от друга на десяток метров – тогда провода провисали практически до пола, то были воткнуты частоколом по три или четыре в ряд. В бурьяне подозрительного баклажанного оттенка свора грачей разрывала подмякшие яблоки.
Меня высадили у огрызка старой площади. Из щелей брусчатки самодовольно торчал пырей, раскланиваясь мне и стелившимся по площади листьям. Пахло пыльной пустотой, на которую налипала осенняя сонливость да тракторной смазкой. Когда я вывалил сумки из автобуса, к водительскому окну подошла невысокая женщина в платке поверх странной головы и белых кроссовках. Она быстро заговорила с водителем громким хрипящим, замшелым басом и я не мог разобрать слов, находясь всего в каких-то трёх метрах от неё. Возможно, мне мешал пахнущий бензином поющий двигатель. Женщина протянула руку водителю, и тот вывалил ей в ладонь немного мелочи. Она продолжала разговаривать после того, как он закрыл окошко и тронулся дальше. Завидев меня, она не перестала извергать слова. Только теперь они переменились и стали обращены ко мне: женщина пригрозила мне кулаком и обложила меня со всех сторон упоминаниями мужских достоинств, после чего перешла, не глядя по сторонам, дорогу и ушла в глубины города, а отголоски её охрипа слышались ещё достаточно долго.
На площади, около монумента какого-то безымянного (подпись пьедестала была полностью истёрта) мужика с отколотым носом и отломленным указательным пальцем протянутой руки, меня ждал человек. Ломота принялась скручивать шею от одного только предположения о том, что этот негладко выбритый, коренастый тип с приплющенным с одной стороны носом и значительно удалившимся по обе стороны от него енотовыми глазками станет раскапывать меня на предмет настроения, впечатлений или каких-нибудь банальненьких надежд. К моему блаженству, он притворился немногословным. Мы швырнули друг в друга приветствия, и я учуял крылья одеколона, исходившие от него во все стороны света. Он не поинтересовался моим именем, я остался взаимен. От него несло духами и сельдереем. Человек спросил, как прошла поездка. Меня не донимали ни старики, мёрзнущие при открытых окнах и люках, ни бездонный крик детей, поэтому я не без известного удовольствия отрекомендовал своë путешествие как сносное.
Поскольку время прибытия никак не предрасполагало к знакомству с Производством, мне сразу же было положено заселение в муниципальную квартиру. Провести меня туда и было задачей этого человека. Не теряя сил на обмолвки, мы пошли прочь от площади: он, забавно покачиваясь на нелепых суставах и я, таща поклажу за собой под вездесущий птичий лай.
Через десять минут прогулки, от которой тянуло скорее отряхнуться, человек привëл меня к малоквартирному дому. Деревянная дверь с визжащей пружиной протолкнула меня в прихожую. Фигура этой лениво освещаемой прихожей была проста: просторнейшее место шириной в половину дома, двери квартир, влепленные в стены и внушительной высоты бетонное небо. За лакированным столом-постом дремал лысеющий старик. Точно подражая его жидкой памяти, по полу были рассеяны многоместные сиденья без подлокотников и спинок. Это и была вся мебель.
Два последовательных вторжения в тишину: стук двери и хлопок по столу, подарили нам слабый взгляд старого консьержа – дедушка коротко привстал, кивнул моему сопровождающему и опустил кулисы глаз на прежнее место. Я получил ключи и был отпущен. Взобравшись по непривычно высоким ступеням грузной лестницы, отворил предназначенную мне квартиру и не покинул еë более до утра.
Глава 2
Погода намеревалась нагадить на мою голову в самый первый рабочий день, но воздержалась: сгустки грязного серебра бесследно сошли к полудню и оставили мою макушку на пропекание ещë не ослабшей солнечной лампе. В Отделе Трудоустройства обошлись без протяжек и со мной расстались полюбовно: процедура внедрения в Производство была упрощена целевым направлением от Министерства – всë для людей. На лимбе моего века зародился мираж: главный оператор – полновесная дама с угасшим блондинистым лоском, подмигнула мне сквозь толстую оболочку прямоугольных очков. Я протëр правый глаз, но портрет скрытно улыбающегося рта стереть не удалось.
Из Отдела Трудоустройства меня прямой наводкой погнали к главному корпусу. По пути я прошëл сквозь милое место: оно отняло у меня столовую ложку беспокойства – и до входа в здание я как-то даже позабылся. Мощёный плиткой дворик между корпусами хранил в себе взлелеянный знатоками сад. На округлой клумбе, усеянной розово-белыми кринумами, стоял памятный камень, на котором золотистой краской был нарисован год основания Производства – 1935. Кустарник, деревья и выхоленный ковёр травы на фигурных клумбах доедали остатки тепла. Пахло ветхим нектаром, квёлой листвой, костром, который развели за территорией и совсем немного – землёй. Несколько особо беспокойных пернатых исполняли гимн. Воздух стоял на месте, как часовой. К сверкающему небу примешался ивово-коричневый привкус, который прочно осел на курчавых обрубках туч.
Внутри корпуса на меня опять налегло тяжёлое чувство. По наводкам караульщиков, я взобрался на второй этаж и живенько отыскал дверь, за которой сидел мой начальник на следующие пять лет. То была исключительной ширины женщина с остриженными под каре кудрями, овальными ноздрями и ловкими пальцами-сардельками. Она не привстала, но была, кажется, очень рада знать о том, что под её крепкий ласт определили молодую кровь. Женщина, пробежавшись изюминками глаз по моим документам, принялась, без запинок и пауз, рассказывать о моей должности и рабочем месте. Окно было распахнуто настежь, тонкие занавески не хотели шевелиться. Я тоже. Открыв какую-то разваливавшуюся книгу, она стала зачитывать инструкции. После того, моя рука расписалась в нескольких журналах техники безопасности да каких-то согласиях. Мы сверили часы и сделали так, чтоб наши секундные стрелки шли в унисон.
В конце двадцатиминутного сотрясения воздуха и складок, начальник подозвала невысокого мужчину с утиным носом и плохо выстриженной лысиной, который повёл меня по коридорам в раздевалку. По неведомой причине, он сообразил, что мне вполне будет интересно услышать о том, как долго он гнёт спину на Производстве, что в его семье, помимо семнадцатилетней дочери, родились ещё три выкидыша и что он обожает пить родниковую воду из гранёного стакана да закусывать персиком, объедая косточку, которая непременно должна оставаться на своём месте. Я шёл, засматриваясь на узоры на полу, старался наступать исключительно в центры рисунков слабой витиеватости. В конце рассказа и очередного холла на третьем этаже мне выдали спецодежду.
С того момента началось моë шествие по комнатам. Мне было отведено застрять между вторым, третьим и четвёртым этажами. Ступор первого дня, который настиг меня, как только я застегнул ширинку штанов спецодежды, – а, в сущности, давил меня с пробуждения в незнакомой кровати – был разбит и разрушен сотрудниками по Производству. Мне удаётся припомнить этих людей. Кто-то гнусаво говорил через искривлённую переносицу, кто-то ростом приходилась мне по плечу. У одной сильно вздулась шея, будто она проглотила волейбольный мяч. Одна пара мужчин курила по пять раз в час, заслоняя окно туалета едва ли не каждый раз, как я развлекал себя походами по мелкой нужде. Были и другие люди, немало людей, и я, помниться, исправно усваивал их имена. Каждое новое утро, что посещало Пепельное Дерево, они желали друг другу «отличного дня», но от этой мантры, преследовавшей, в том числе и меня, и совсем скоро ставшей моей собственной привычкой – не менялось ровным счётом ничего: дни попадались как сносные, так и вовсе дрянные.
Но какими бы шумными, пакостными, невнятными, нелогичными не казались мне проживаемые часы, среди намеренно усложнённых махинаций и операций, в которых я пребывал винтом, маленьким, шатким шурупом вдали от дома – я всегда мог с ничтожным облегчением приобщиться к выверенному, спокойному ходу часов. Они стали моим важным, верным компаньоном, утешителем. Если мне приходилось захлёбываться от распарывающих голову векторов, от мешанины задач и условностей, я всегда вспоминал, что моя пятилетняя отработка и все строгие, ненужные превращения моей внезапно охлявшей души всегда следуют за часовой стрелкой.
Первую неделю и большую часть второй я провёл в непростом усилии. Работа до шести вечера оставляла мне три часа свободного времени (я старался лечь спать не позже двадцати одного часа), и того мне было достаточно. Я тратил его на еду, покупки в магазине, душ, уход за спецодеждой, телефонными разговорами с родителями несколько раз в неделю, созерцание стены, на которой мерещились результаты прошедшего дня. Иногда открывал одну из нескольких книг, что притащил из дома. Но каждый раз, три страницы спустя, либо забывался в вязком, неотточенном раздумье, либо просто засыпал. Пятнадцать минуть ходьбы от квартиры к корпусу утром, а вечером – в обратном направлении заменяли мне прогулку. На третий день жизни в городе, я купил в магазине кубик Рубика и учился его собирать.
В остальное же время я был затянут в чашу процессов. Гимназия учила меня разбираться, классифицировать и упражняться в них, но это лишь помогло мне не врасти в пол при первой встрече с настоящей работой. Я пересиливал тошноту внедрением в дело. Мял под мышками испещрённые словами и цифрами листы бумаг, на которых понятные формулы и бланки говорили со мной на чужом языке. Я старался стать шестернёй, прилежно пытался превратиться в поток, несущий в себе функцию, чтоб не врезаться в стены или громкие замечания начальника. Я вникал, задавал вопросы, ответы на которые не внушали мне ни сил, ни уверенности. Я ориентировался в бурливом течении работы столь же успешно, как слепой младенец в пещере высоких сталагмитов. Ошибки обжигали голову раскалённым паром, но меня не ругали и не упрекали. В сущности, мной совсем не интересовались и с самого порога отвели моему труду совсем малую роль. Часто я ходил окунутым в воду, потерянным, ищущим себе применение. Нередко я тратил часы на то, чтобы пробегать по пятам за старшим коллегой в надежде получить возможность отслужить день в постижимом занятии. Никто не понимал, как вынужденно трепетно я ощущал себя частью большого, не до конца складного, избыточного, но всё же работающего многие годы механизма.
Чтобы уверенно становиться на нужные лестницы и верно переступать пороги кабинетов мне потребовалось чуть больше трёх недель. Постепенно мне стали доверять создание тех же документов, что путали меня в самом начале – такой навык требовался от всех, работающих на Производстве. Я утруждал себя внедрением в каждый из доступных мне процессов, тратил обеденный перерыв на пресный чай и изучение протоколов. Заполнять голову нюансами Производства стало спасительно приятно: в мою голову набивался поролон хитросплетённой структуры и смягчал столкновения с воспоминаниями о доме, о буднях учёбы в Гимназии, о прогулках с друзьями, что остались позади, о прохладных, хорошо пахнущих ночах при свете вывесок и фонарей, о многоформном смехе. Здесь же было не до смеха. Конечно, в глубине помещений проскакивали душные, безобразные шутки и анекдоты, которые врастали мне в горло рвотными корнями. Я всячески избегал их: держался от коллег подальше, когда понимал, что они устали и хотят присесть за стол в столовой или пропустить по папироске в туалете.
В остальном я оставался окружён гулом голосов, шорохом бумаги, содроганием стекла в дверях, когда те закрывались, впустив или выпустив наружу порцию рабочего сырья. Лабиринты корпусов с каждым днём преображались в узнаваемые, а затем – знакомые места. Против своей воли, я породнился с монотонной расцветкой потолка, с выемкой для пальцев на перилах, с тяжестью петель на входных дверях в главный корпус, с вечно влажным полом на первом этаже восточного крыла, с запахом плакатов на стенах, с портретами «мэльницы» в окнах, с ощущением, которым стулья в кабинете начальника награждают задницу.
Хоть окружающие окликались со мной лишь по служебной необходимости, нечасто – ради приличия и уж совсем редко – из чистого интереса, мне стало понятно без слов – они принялись смаковать мою аскетическую верность работе. Нарекая меня недоверчиво "новичком", эти пчëлы не гнушались по миллиметру передавать мне эстафету. Круг моих обязанностей помаленьку раздувался с каждым словом коллег, предлагавших мне попробовать выполнить ту или иную часть работы. За несколько недель мне удалось набрать ритм маятника. Я и был маятником – со всë более нарастающей амплитудой. Уж очень скоро, переболев адаптацией, с неестественным жаром и пóтом бросался я на всë движущееся в континууме корпусов, брался за любое поручение: от того, что касалось моей специальности, до примитивных поручений посыльного. Я находил себя слушающим и вникающим на любых собраниях и пятиминутках. Многое ускользало от меня на этих сборищах, проваливалось в незаполненные практичным знанием пустоты, а я беспощадно вваливал информацию в темечко, пока желе из терминов, наименований, правил, алгоритмов, последовательностей кабинетов и должностей не вываливалось мне под ноги. Тогда я спешно собирал уроненное, уверяя всех, что просто запнулся об изъян в полу. Так я превращался в колесо, в ведомый элемент движущегося локомотива Производства. Останавливаться приходилось лишь дома, когда, утоляя возмущения окаменевшего желудка, я остывал в бетонной прохладе дома и ложился в постель до того, как человеческие мысли достигали хотя бы хвоста спинного мозга.



