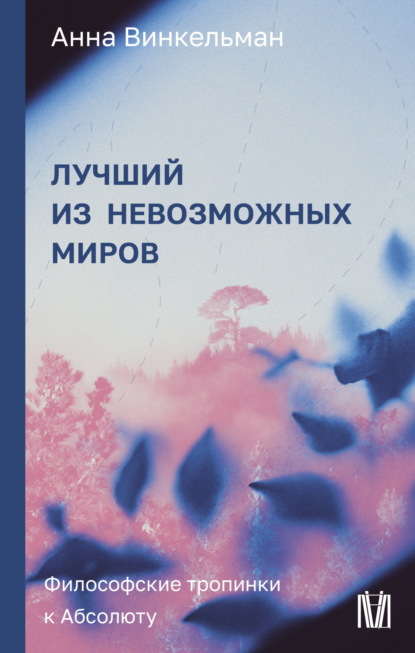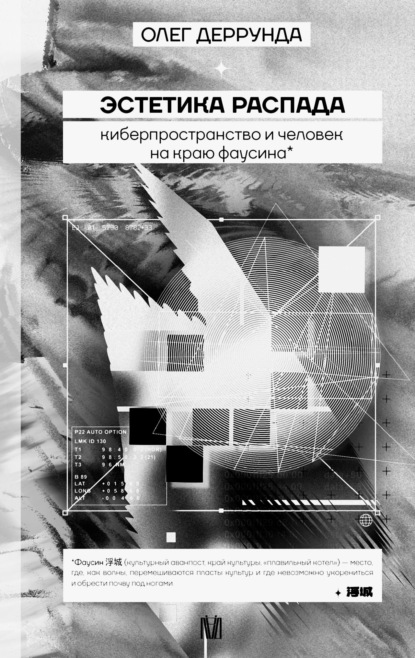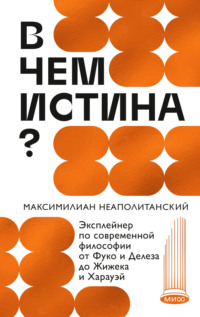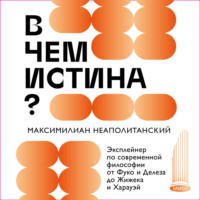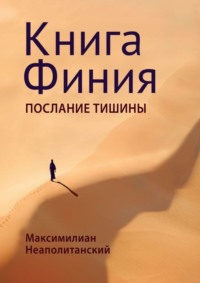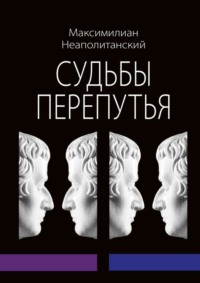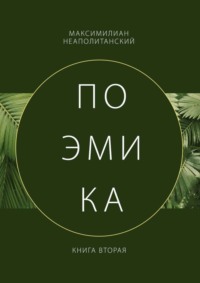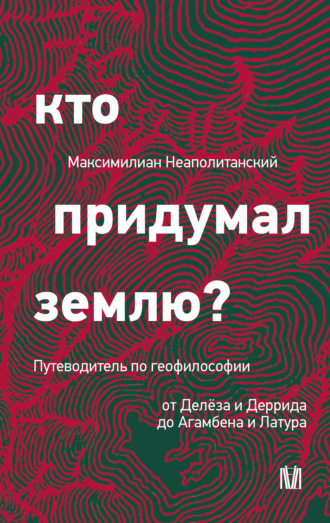
Полная версия
Кто придумал землю? Путеводитель по геофилософии от Делёза и Деррида до Агамбена и Латура
Так, в раннем периоде творчества Канта можно увидеть, какое влияние на него оказало Лиссабонское землетрясение 1755 года, поставившее под вопрос идеалы Просвещения и вдохновившее молодого интеллектуала написать статьи на тему Земли. Обратите внимание: Кант пишет их не как философ, а как ученый (в нашем понимании) и, можно даже сказать, публичный ученый. (Известна история, как после Лиссабонского землетрясения Кант прочитал лекцию для жителей Кёнигсберга, чтобы успокоить их и убедить, что землетрясение в их городе не повторится.) В статье под названием «О причинах землетрясений» мы можем найти размышления Канта о том, как по поведению животных понять, что скоро начнется катастрофа:
Зачастую уже за несколько часов до начала землетрясения наблюдается покраснение неба или другие признаки изменения состояния воздуха. Животных незадолго до этого охватывает ужас. Птицы ищут спасения в домах. Крысы и мыши выползают из своих нор[8].
В другой статье под названием «Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения» Кант пишет о возможном будущем нашей планеты со ссылкой на других «естествоиспытателей»:
Мнение большинства естествоиспытателей, создававших различные теории Земли, сводится к тому, что плодородие Земли постепенно падает, что Земля медленными шагами приближается к тому состоянию, когда она станет необитаемой и пустынной, и что наступление полной старости и смерть природы от истощения сил есть лишь вопрос времени[9].
Другие тексты Канта того периода тоже носят прекрасные названия – например, мы можем встретить у него «Новые замечания для пояснения теории ветров» или же «Всеобщую естественную историю и теорию неба». Согласитесь, весьма непривычно, учитывая то, что чаще всего мы представляем Канта как человека, который был воплощением самой философии.
Тема Земли у Канта на этих текстах не заканчивается. К счастью, у нас есть план лекций, которые Кант собирался читать по физической географии. На манер настоящего геофилософа он предлагает три точки зрения, с помощью которых можно рассматривать Землю: согласно первой, математической, Земля – почти шарообразное, свободное от существ небесное тело. Вторая – политическая (мы бы могли сказать «геополитическая») – дает представление о народах Земли и о том, как их жизнь определяют форма правления, торговля, взаимные интересы, религия и обычаи. И наконец, третью точку зрения на Землю, пишет Кант, предлагает нам физическая география. Она берет во внимание моря, сушу, горы, реки, атмосферу, человека, животных, растения и минералы. В конце этого перечисления он добавляет: «Все это не с полнотой и философской точностью в деталях – сие дело физики и естественной истории, – а с разумной любознательностью путешественника, который повсюду ищет примечательное, особенное и прекрасное»[10]. Мне нравится характеристика подхода, данная самим Кантом: разумная любознательность путешественника. Это именно то, что нам пригодится в разговоре о геофилософии и в путешествии по ее концептуальному ландшафту.
У Канта легко найти вполне наукообразный взгляд на Землю. Но что мы можем найти у Шеллинга? Этому будет посвящена наша лекция 3, а сейчас обозначим важный момент: говоря о Земле, Шеллинг выступает совсем не как ученый, а исключительно как философ. Образ Земли у него хоть и отталкивается от науки и открытий в области геологии его времени, но все равно остается более поэтичным и романтическим. Земля для Шеллинга – скорее часть философии природы, нежели самостоятельный объект научного изучения. Так, например, Шеллинг называет Землю книгой, которая составлена из обломков разных времен. Он продолжает: «Каждый минерал есть истинная филологическая проблема»[11]. Согласитесь, это уже совсем иной взгляд: Шеллинг вводит Землю в контекст литературы, филологии и культуры, а геологию видит как способ создать летопись планеты. Землю он делает основой для других своих идей: о природе, Боге и даже любви. Но почему отношения философов и земли меняются столь значительно? Тому есть несколько причин.
Первая и самая важная причина: изменяется взгляд на саму природу, и вследствие этого – на землю. Для XVIII столетия природа, вслед за эпохой Просвещения, видится в свете рациональности и механистичности. Многих мыслителей вдохновляли успехи Ньютона, Галилея, Декарта, которые рассматривали мир как огромный механизм, работающий по единым и универсальным законам. Просветители были убеждены, что природа подчиняется этим законам, которые разум человека способен легко открыть. Научная революция дала веру в прогресс и неограниченные возможности человеческого познания. Эти убеждения стали сходить на нет с Лиссабонским землетрясением и Французской революцией, но развитие научного знания было уже не остановить. Романтизм возникает отчасти как реакция на просветительские идеалы (и мощный ход промышленной революции) и наполняет природу темнотой и чувственностью, делая из нее повод для ностальгии; условно романтики говорят: как было бы хорошо покинуть душные города и вновь оказаться в пасторальной местности. Тут важно учесть, что романтик – это чаще всего городской житель, причем житель большого города. Неслучайно Делёз и Гваттари будут писать: «Если же мы пытаемся кратко определить романтизм, то увидим, что все меняется. Звучит новый крик: „Земля, территория и Земля!“»[12]
Романтизм меняет отношения с природой и Землей. Шеллинг и то, как он пишет о Земле, – часть этой тенденции. Ряд исследователей называют ее поэтической философией природы и через нее определяют саму геофилософию. Подобный взгляд сохраняется вплоть до ХХ века, когда интерес к Земле со стороны философии и других гуманитарных дисциплин вновь возрастает. Выше мы уже говорили о геополитике и геоистории; в нашем курсе мы будем говорить об обращениях к Земле со стороны феноменологии, постструктурализма, политической теологии, экологической и социальной философии.
Земля и природа в Античности, Средние века и Новое время
Теперь, когда мы кратко сравнили взгляды на природу и землю в эпоху Просвещения и романтизма, давайте подробнее поговорим о том, как философы и ученые видели землю до этого. Без такой генеалогии будет сложно понять современные отношения земли и философии, и в более широком смысле – отношения философии и науки.
Античность. В Античности Земля становилась частью космологий и вписывалась в целостную систему представлений о мире и окружающей природе. Древнегреческий натурфилософ Анаксимандр стал первым, кто отказался от мифологических и вавилонских представлений о Земле, предположив, что она – это объект, парящий в пустоте. Неслучайно современный физик-теоретик Карло Ровелли называет Анаксимандра настоящим революционером в области представлений о Земле[13]. Он обращает внимание на важный момент в космологических идеях Анаксимандра: традиционное представление о небосводе как замкнутой границе мира уступает место восприятию бескрайнего космического пространства. В представлениях древних Солнце, Луна и звезды двигались по равномерно удаленной небесной поверхности, своего рода «потолку». Однако Анаксимандр впервые интерпретировал небеса как открытую область, в которой светила находятся на разных расстояниях от Земли.
В своих работах Анаксимандр упоминает конструкции, подобные колесам, с определенным количеством спиц для Солнца, Луны и звезд. Принципиальная важность этих чисел заключается не в их конкретных значениях, а в возможности интерпретировать их как элементы упорядоченной системы. Такой взгляд представляет собой коренной переход от восприятия Вселенной как закрытой структуры, напоминающей коробку или комнату с потолком, к осознанию ее как части внешней бесконечности. Анаксимандр формирует концепцию космоса как открытого и необъятного пространства и в целом изменяет взгляд на взаимодействие между человеком, землей и космосом. Это интересно еще и потому, что имя Анаксимандра вы с легкостью встретите в любом курсе по античной философии, однако его открытия выходят далеко за пределы только философского знания. Они знаменуют собой появление европейской учености и отказ от мифологического мышления.
Представьте, каково это – быть современником таких изменений и осознавать, что небеса не просто свод и не покрывало, натянутое над нашими головами, а бескрайнее пространство, уходящее в неведомую глубину. Когда небесный свод еще казался нерушимой границей между человеческим и божественным, идеи Анаксимандра меняли многие мировоззренческие постулаты. Однако с удивлением приходил и страх: если мир не замкнут, если он не защищен сводом, как думали до этого, то что удерживает его от падения в хаос? Ведь Анаксимандр утверждал, что небесные тела движутся не по прикрепленным путям, но присутствуют в огромной пустоте, где нет ни опоры, ни предела.
Вместе с этим в открытии древнегреческого философа есть и своя гармония. Космос для греков был не просто пространством – он означал порядок, противоположный хаосу. Анаксимандр, даже разрушая старые представления, не отвергал этой идеи: его «космос» оставался устроен по числовым соотношениям и законам, которые могли быть постигнуты человеком. Теперь это был вызов – попытаться осознать себя в пустоте без оснований (в виде воды, например, как это предлагал Фалес).
На Анаксимандра ссылается другой античный философ – Аристотель в трактате «О небе», где описывает собственные наблюдения насчет формы Земли и того, какое место она занимает в пространстве[14]. Об Анаксимандре Аристотель говорит:
Но есть и такие [философы], кто полагает, что Земля покоится вследствие «равновесия», как, например, среди старинных [философов] Анаксимандр. По их мнению, тому, что помещено в центре и равно удалено от всех крайних точек, ничуть не более надлежит двигаться вверх, нежели вниз или же в боковые стороны. Но одновременно двигаться в противоположных направлениях невозможно, поэтому оно по необходимости должно покоиться[15].
Логика здесь кристальна, и Аристотель вполне точно (как мы можем судить сейчас) пересказывает идеи Анаксимандра. Но до Аристотеля представления о Земле встречались и у других философов. Например, пифагорейцы считали, что Земля имеет форму сферы, а Платон в диалоге «Федон» говорит о размерах Земли, представляя жизнь Афин как теснение на маленьком пространстве[16].
К сожалению, до нас дошли далеко не все труды географов и астрономов того времени. Сведения о развитии географической мысли в Античности сохранились лишь в немногих источниках. Наиболее полные из них – труд Страбона «География», где первые две книги дают обширное представление о географах эпохи эллинизма, и краткий обзор «Очерк географии», принадлежащий Агафемеру, который, вероятно, был современником Страбона. Другой позднеантичный автор – Птолемей, судьба текстов которого была схожа с судьбой работ Платона и Аристотеля: труды этих авторов были переведены с греческого на арабский, а потом – с арабского на латынь в начале XII века. Именно после этого «География» Птолемея стала одним из самых популярных произведений латиноговорящего мира – настоящим бестселлером своего времени.
В общем, греки писали о Земле часто, и не менее часто о ней писали именно философы. Отношения с Землей выстраивались на манер отношений с природой, под которой в Древней Греции понимали почти одушевленный, близкий и упорядоченный космос – место самой жизни, самого существования, не отделенное от человека[17]. Природу воспринимали как все сущее: мир, пространство, сущность человека. Например, в Древней Греции было модным писать поэмы, называя их «О природе». Фрагменты одной такой поэмы дошли до нас в немалом объеме – речь о знаменитой поэме Парменида.
Конечно, Парменид в поэме не пишет о полях, горах и лужайках, вопрос «о природе» для него – это в некоторой степени вопрос об устройстве самого мира или, точнее, бытия. В этой поэме Парменид делает весьма революционный для философии жест: он говорит, что мышление и бытие суть одно и то же. Как пишет современный немецкий мыслитель Петер Слотердайк, «этим изречением мысль совершает тигриный прыжок в открытый центр мира», а сам Парменид «открывает пространство философов как пустой колоссальный простор»[18]. И все это – по линии разговора о природе, изучение которой позволяет найти успокоение в апокалипсисе пространства. В этом контексте нам нужно понимать, что, когда и другие античные философы пишут о Земле (то, что нам интересно в истории геофилософии), это тоже своего рода высказывания и об устройстве всего мира. Будем помнить об этом, а пока посмотрим, как изменятся образы природы и земли в следующую эпоху – в Средневековье.
Средние века. Раннехристианские авторы, а затем и средневековые богословы делали землю частью религиозной доктрины, помещая ее в сакральное пространство так называемой священной географии. Лучший пример, иллюстрирующий подобный взгляд на землю, – это средневековые карты, которые обычно называют mappa mundi. Сама идея таких карт – свидетельство особых отношений средневекового человека с пространством и землей. Эти карты не стремились к географической точности, а отражали религиозное и символическое восприятие мира. Карты типа mappa mundi часто представляли Землю в виде круга, в центре которого располагались Иерусалим или Рим. Карты иллюстрировали не только географические объекты, но и библейские сюжеты, мифических существ и аллегории, сочетая знания античных авторов, библейские тексты и средневековые легенды. Самая известная из дошедших до нас – Херефордская карта мира (около 1300 года) – ярко демонстрирует, как средневековый человек воспринимал устройство Вселенной, объединяя реальные и воображаемые элементы. Поэтому mappa mundi – это, безусловно, нечто большее, чем просто картографический документ эпохи.
Размышления о Земле можно найти и у Отцов Церкви. Например, Василий Великий в «Беседах на Шестоднев» пишет:
Так что не удивляйся, что вовсе не падает земля, занимая естественное для нее положение посреди [вселенной]: необходимо, чтобы она [скорее] оставалась неподвижной, чем смещалась с собственного места, совершая противное своей природе движение[19].
Мы видим здесь отголосок геоцентрической модели мира, которая господствовала еще в Античности. Важную роль в этом объяснении играла идея естественного положения тел: Земля как совокупность тяжелых элементов занимает центральное положение и не требует никакой опоры, чтобы оставаться на месте. Василий Великий развивает эту мысль, адаптируя ее к христианской картине мира. Он утверждает, что Земля не падает и не движется, потому что для нее естественно оставаться в центре. Это положение продиктовано божественным замыслом, а любое движение было бы нарушением этого порядка. «Беседы» Василия – отличный пример того, как представления о Земле могли совмещать воззрения астрономии и физики греческого мира с христианскими догматами.
Августин Блаженный тоже обращался к теме Земли. В тексте «О граде Божием» он пишет об антиподах – жителях другой стороны Земли:
Фигура мира шарообразна и кругла, из этого еще не следует, что та часть земли свободна от воды; да если даже была бы и свободна, из этого отнюдь не следует, что там живут люди[20].
Эти суждения Василия Великого и Августина (и других авторов того времени) объединяют два ключевых момента: во-первых, утверждение о ее сферичности; а во-вторых, геоцентрическую модель, то есть восприятие Земли в качестве центра мироздания. И тут тоже важно учитывать, какими были представления о природе в Средние века.
В средневековом мировоззрении природу воспринимали прежде всего как творение Бога, или, как это называлось, тварный мир. Эта идея основывалась на библейском учении о сотворении мира, где все сущее рассматривали как результат Божьей воли и замысла. Природа не существовала сама по себе и не обладала автономией, как это предполагалось в античной философии, а была полностью подчинена божественному порядку. Поэтому любое явление природы трактовали через призму религиозного смысла: урожай – как проявление Божьей милости; засуху или землетрясение – как наказания за грехи. Мир был наполнен символами, и каждое создание – от горных хребтов до малейшего насекомого – несло в себе скрытый духовный смысл, который человек должен был постичь. Такое восприятие природы сохранялось очень долго – даже когда случилось Лиссабонское землетрясение в 1755 году, по Европе пошел слух, что это наказание за великие грехи, которые совершались в городе (и это при том, что Лиссабон – один из главных религиозных центров Европы).
Однако вместе с восприятием природы как творения существовало и более напряженное отношение к материальному миру. Под влиянием христианского учения о первородном грехе и идей неоплатонизма в Средние века утвердился дуализм духа и плоти. Материальный мир воспринимался как несовершенный и даже греховный, в противовес духовному миру, который считался чистым и возвышенным. Земная природа напоминала о падении человека, о его склонности к соблазнам и слабостям. Поэтому главной задачей было не столько изучение природы ради любопытства или практической пользы, сколько поиск в ней следов высшей мудрости.
Новое время. Ситуация меняется с наступлением эпохи Великих географических открытий и коперниканского переворота, который стал началом научной революции. Характерно, что столь значимый для науки период начался именно с изучения Земли и перехода к гелиоцентрической модели. С одной стороны, это лишило Землю прежнего центрального положения в космологиях и философских учениях, а с другой – сделало ее центром научных споров, часто связанных с более общими и отвлеченными вопросами: о человеке, пространстве, бесконечности и так далее.
Несмотря на то что до появления геологии как отдельной научной дисциплины оставалось более двух столетий, именно с открытий Николая Коперника и первой научной революции начинается размежевание философского и научного взгляда на Землю. Со временем образ ученого принимает знакомые нам черты. Это уже не философ или богослов – у него появляется специализация и конкретный предмет исследования. Несколько веков развития научного знания показывают, что Земля не уходила из поля внимания самых различных авторов: от первых профессиональных картографов до Лейбница с его текстом «Первоземля». История наук о Земле вполне совпадает с историей других естественных наук, вписываясь в их общий контекст развития, а вот с философией начинает совпадать все меньше.
Меняются и отношения с природой. Как мы уже говорили, природу стали рассматривать как упорядоченную и рациональную систему, управляемую универсальными законами. Этот взгляд во многом сформировался под влиянием научной революции и работ Фрэнсиса Бэкона, Рене Декарта и Исаака Ньютона. Природу больше не воспринимали как одухотворенную или мистическую сущность, а понимали как сложный механизм, подчиненный логике и математическим законам. Рациональное восприятие мира стимулировало развитие наук, в частности – физики и механики, в которых природа стала объектом систематического изучения и объяснения. Одновременно с этим природу начали рассматривать как неисчерпаемый ресурс и пространство для освоения. Человек больше не ощущал себя частью гармоничного целого, но видел в природе источник богатств и возможностей. Неслучайно тот же Слотердайк заметил:
…главной идеей Нового времени оказалась идея Магеллана, а не Коперника. Ведь главный факт Нового времени состоит не в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а в том, что деньги огибают Землю[21].
Рождается ресурсная история, которая становится возможна после радикальных изменений в отношениях человека и пространства, человека и природы – и, конечно, Земли. Похожие отношения с природой сохраняются и сейчас, несмотря на все попытки экологов изменить ситуацию.
Наше время. Как скажет Бруно Латур, теперь природа мертва – великий Пан умер, и это хорошо. В провокационных словах французского ученого скрыт простой смысл: концепт природы мертв. То есть восприятию, которое мыслит природу как единое беспроблемное целое, нечто простое для понимания и для научного препарирования, пришел конец. Обратимся к цитате Латура:
Когда неистовые экологи с дрожью в голосе восклицают: «Природа скоро умрет», то сами не знают, насколько они правы. Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой[22].
Латур фиксирует очень важную для геофилософии вещь: после смерти Бога и человека природе тоже пора на покой… Латур говорит о природе в единичном числе, о Природе
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Один из самых известных афоризмов Ницше звучит так: «Пустыня растет», а Делёз и Гваттари пишут: «Пустыня населена множествами». Для многих философов пустыня – это витальная сила, а не только выжженная земля.
2
Полностью цитата выглядит следующим образом: «Философия – это геофилософия, точно так же как история по Броделю – это геоистория». – Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический Проект, 2009. С. 110.
3
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 66.
4
Вудард Б. О(бо)снования и безосновности геологического разума // Электронный ресурс Syg.ma. 2021. URL: https://syg.ma/@geograf-smirnoff/bien-vudard-o-bo-snovaniia-i-biezosnovnosti-ghieologhichieskogho-razuma (Дата обращения: 29.12.2024).
5
Челлен Р. Государство как форма жизни. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 94.
6
См.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. Ч. 1: Роль среды. М.: Языки славянской культуры, 2002.
7
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический Проект, 2009. С. 110.
8
* Кант И. О причинах землетрясений // Сочинения: В 8 т. Т. 3. М.: ЧОРО, 1994. С. 342.
9
Кант И. Вопрос о том, стареет ли Земля с физической точки зрения // Сочинения: В 8 т. Т. 3. М.: ЧОРО, 1994. С. 94.
10
Кант И. План лекций по физической географии и уведомление о них // Сочинения: В 8 т. Т. 3. М.: ЧОРО, 1994. С. 360.
11
Шеллинг Ф. В. Й. Лекции о методе университетского образования. СПб.: Издательский дом «Мiр», 2009. С. 35.
12
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. С. 565.
13
См.: Ровелли К. Анаксимандр и рождение науки. М.: АСТ, 2024.
14
** «Следовательно, раз Луна затмевается потому, что ее заслоняет Земля, то причина [такой] формы – округлость Земли, и Земля шарообразна». – Аристотель. О небе // Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 339.
15
* Там же. С. 334.
16
В «Федоне» мы встречаем следующие слова: «Я уверился, что Земля очень велика и что мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Cтолпов, занимаем лишь малую ее частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах, сходных с нашими». – Платон. Федон // Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 70.
17
Тут можно вспомнить слова Делёза и Гваттари, которые пересказывают Шеллинга: «Греки жили и мыслили в Природе, зато Дух у них оставался в „мистериях“; мы же живем, чувствуем и мыслим в Духе, в рефлексии, зато Природа у нас остается в глубокой алхимической мистерии, которую мы все время профанируем». – Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический Проект, 2009. С. 118.
18
Слотердайк П. Сферы. Макросферология. Том 2. Глобусы. СПб.: Наука, 2007. С. 80.
19
Василий Великий. Беседы на Шестоднев: беседа первая // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 3. № 1. С. 195–244. С. 225.
20