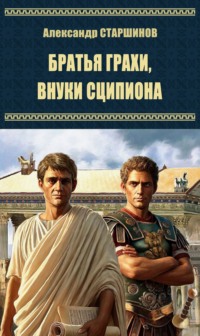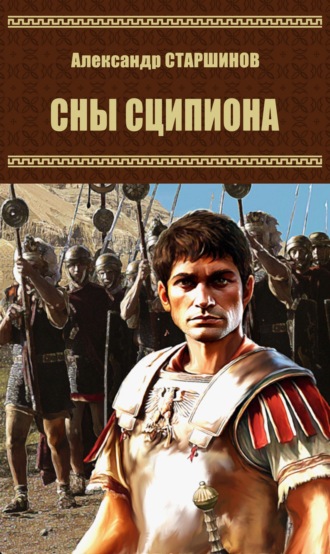
Полная версия
Сны Сципиона
Но едва-едва дохнуло весной, как Ганнибал снялся с лагеря и ушел, и мы не могли этому помешать. Ему ничто в те дни не могло помешать: ни горы, ни покрытая водой долина Арно. Река разлилась так сильно, что превратила все поля в округе в настоящие болота. Уже много позже я слышал рассказы о том переходе: вьючные животные мерли сотнями, ночами люди могли спать только лежа на их трупах, что возвышались над водой вместе с поклажей. Четыре дня и три ночи длились эти странствования болоту, когда ноги вязли в тине и надо было следовать строго за проводниками, потому что невозможно было понять, где поля под водой, а где русло настоящей реки. От мерзких испарений и грязной воды у Ганнибала воспалились глаза, и он вскоре ослеп на один глаз. Но казалось, чем больше препятствий вставало у него на пути, тем сильнее росли его дерзость и упорство.
Надежды, что его остановят дожди, морозы и варвары нам пришлось оставить.
Тем временем командование над легионами приняли новые консулы[38], и мы с отцом вернулись в Рим.
* * *Я не стану здесь описывать еще одно страшное наше поражение у Тразименского озера, где несчастный Фламиний погиб, забрав с собою в Аид почти всю свою армию. Как прежде Семпроний, он попался в ловушку Ганнибала, легионеры вынуждены были сражаться на узкой полосе озерного пляжа. Бежать было некуда, а тот, кто пытался спастись вплавь, беспомощный, тонул, не имея сил переплыть озеро в доспехах. Никто так точно потом не смог сказать, скольких же мы потерли в тот день. Называют пятнадцать тысяч. Возможно, наши потери были даже больше. Я не стану здесь порочить Фламиния лишь за то, что он был плебеем и все время ссорился с Сенатом. Прежде он уже командовал армией и одержал блистательную победу над инсурбами, которую после поражение у Тразименского озера стали спешно преуменьшать. Спору нет, Фламиний умел говорить красиво, очаровывал плебс своими дерзкими выпадами в адрес знати и прославился тем, что запретил сенаторам и их сыновьям владеть большими кораблями, то есть вести морскую торговлю и богатеть. Закон был глуп и не нужен ни тогда, ни потом, зато подобные уступки черни позволили набрать голоса кандидату от плебеев. Но там, на берегу злосчастного озера, Фламиний бился храбро, и пока он был жив, армия тоже сражалась из последних сил. Он пал – и его люди обратились в бегство.
Поначалу об этом новом бедствии просочились лишь смутные слухи. Как промозглый туман с болот, они текли вместе с беглецами и достигали Города. Спасшиеся и сами толком ничего не могли рассказать, что же на самом деле случилось и почему консульская армия опять разбита.
Женщины бродили по улицам, расспрашивали встречных, не знает ли кто о судьбе их родных. Народ стал стекаться к курии, ожидая верных известий, я пошел вместе со всеми. Отец был на заседании Сената, но сенаторы не могли ничего решить, ожидая верных вестей, как и весь народ. Наконец перед заходом солнца к людям вышел претор Марк Помпоний и сказал тихо, так, что слышали только стоявшие поблизости:
– Мы проиграли большое сражение…
Ничего, кроме этой отчаянной фразы, произнести он не смог.
Многие тут же кинулись к воротам – встречать тех, кто возвращался в Город, избежав гибели и плена, слухи расползались, то в одном доме, то в другом раздавались отчаянный плач и крики. Рассказывали, что одна женщина умерла, когда сначала получила известие о смерти сына, а потом он живой постучался в дверь родного дома. Сердце ее после тяжкого горя не выдержало радости.
Казалось, это будет повторяться снова и снова, как будто наш враг заколдован, а мы обречены приносить ему кровавую дань. И некому нас расколдовать, некому спасти от смертного бедствия. После битвы на берегах Требии, когда нам все же удалось сберечь легионы, новое поражение казалось изощренной местью Фортуны.
Потом были шесть месяцев диктатуры[39] Фабия Кунктатора, который ходил со своим войском за Ганнибалом по пятам, отлавливал его фуражиров и уничтожал мелкие отряды, успешно уклоняясь от сражения. Так он сберег армию, но разорялись наши дома и поместья, гибли люди, и горели нивы.
Само собой, мы постоянно спрашивали друг друга: неужели Рим так ослаб, что не может собрать огромную армию и дать решающий бой, чтобы навсегда уже прогнать завоевателя с нашей земли? Разве мало у нас смелых и испытанных в боях воинов? Разве нет преданных союзников? Разве мы бедны и не можем вооружить подобную армию?
И мы собрали невиданную прежде армию. И вооружили.
И вся она осталась на поле под Каннами.
* * *В этот день я более ничего не записывал, хотя перед глазами то и дело возникали картины тех лет, и мне хотелось вновь немедленно взяться за стиль. Однако нынешние дела отвлекли от прошлых.
Женщины прибыли после полудня: небольшой караван, слуги и служанки, повозки со всяческим скарбом. Эмилия привезла с собой трех служанок, Корнелия старшая – двух, и только младшей дочери прислуживала девчонка лет двенадцати – чуть старше самой Корнелии. Служанок Эмилии я хорошо знал – они жили в нашем доме много лет, и я всем дал свободу. А вот Корнелия Старшая взяла с собой двух смуглых дерзких особ. Обе – поразительной и какой-то злой красоты. Я улыбнулся одной – как невольно улыбается мужчина красивой женщине, но она лишь дерзко приподняла бровь. Такая дерзость совсем не шла рабыне.
Несмотря на то, что Эмилия перешагнула тот возраст, когда женщины перестают рожать, она по-прежнему оставалась красивой. Время как будто подарило ей против других женщин несколько цветущих лет – младшую дочь она родила, уже приближаясь к сорока. Она немного располнела, но кожа сохранила упругость, щеки – румянец. В ее волосах почти не заметить седины. Или она их красила какими-то составами с Востока? Не было покупательницы придирчивей и щедрей в лавках Субуры, нежели моя Эмилия. И все же легкий налет увядания уже коснулся ее тела, нанеся сетку морщин возле глаз, иссушив губы, лишив руки прежней идеальной формы.
А вот Корнелия Старшая буквально расцвела. Она сделалась поразительно похожей на мать в молодости – разве что в ней не было той вызывающей надменности, которая была присуща Эмилии. Мне иногда казалось, что жена моя мнит себя богиней, которой наскучило обитать на Олимпе, и она решила посетить смертных и немного развлечься. Однажды, где-то на десятом году нашего брака, она призналась, что много лет назад увидела меня на улице, приметила, расспросила отца и мать о моей особе, и потом как бы невзначай намекнула: вот хороший жених для девушки из патрицианского рода. Не знаю, может этот рассказ – всего лишь удачная выдумка. Но поступок был в духе Эмилии – с этим никак не поспоришь.
Корнелия Старшая себе жениха не выбирала. Она обручилась с Публием Сципионом Назикой по моему решению, и на будущий год собиралась замуж. Не знаю, нравился ли ей жених, два или три раза, когда я заводил с нею разговор о замужестве, она тихо улыбалась и говорила, что счастлива моим выбором. Назика приходился внуком моему дяде Гнею и троюродным братом невесте. Молод, хорош собой, весьма рассудительный малый.
Глядя на чистое, какое-то невероятно светлое, светящееся даже лицо моей юной дочери, я вспомнил, как впервые увидел Эмилию.
* * *Это было за год до битвы при Каннах. Отец мой наконец-то оправился от раны, полученной в стычке на берегу Тицина, и теперь должен был отбыть в Испанию и присоединиться к своему брату Гнею, чтобы покончить с Гасдрубалом Баркой. Этот брат Ганнибала, несомненно, был талантливым полководцем, хотя и не мог тягаться коварством и ловкостью с самим Ганнибалом. Я планировал отправиться с отцом, но у него были иные планы. Во-первых, я должен был получить чин военного трибуна. А во-вторых…
За несколько дней до отъезда отец сообщил, что мы приглашены в дом Эмилия Павла. Я по наивности полагал, что Павел, с которым наша семья состояла в дружбе, устроил что-то вроде прощальной вечеринки перед грядущим походом и предвкушал неразбавленное вино, кабана на вертеле, и – что почти что обязательно – молоденьких служанок, готовых угодить каждому. К моему изумлению, нас встретили сам хозяин дома с супругой – что сразу сделало возможность веселья в обществе служанок сомнительным. Вместе с Эмилием и его женой навстречу нам вышел сын хозяина, Луций, еще к детской тоге-претексте, поскольку ему еще и четырнадцати лет не исполнилось, а также девушка, на полголовы выше мальчишки и годом старше. Тогда я понял, что мои надежды на неразбавленное вино тоже не оправдаются.
Девушка оказалась дочерью Эмилия Павла – отец называл ее Терцией, а его супруга тут же поведала нам, что прежде, чем боги послали им Терцию, она рожала дважды дочерей, но те умерли еще в младенчестве.
Пока мать ее говорила, Эмилия Терция смотрела на меня с надменным вызовом. У нее было очень белое лицо (белое именно благодаря коже, а не свинцовым белилам, которые красотки накладывают порой так яростно, что случайно упавший луч солнца обжигает им кожу). Светлые ее волосы были тщательно зачесаны назад, и лежали волосок к волоску, собранные на затылке и обвитые золотыми лентами. В ушах ее сверкали крошечные злотые сережки, изящная греческая работа, а на тонком запястье позвякивали браслеты – она намеренно встряхивала их, чтобы насладиться мелодичным звоном. Ее стола – не белая, какие носили обычно девушки, а из ткани, выкрашенной шафраном, открывала не только шею, но и часть груди, а руки – полностью. Ее наряд был не только смелый, но и дорогой, что в семье Эмилия Павла, людей не богатых, говорило о том, что юная красавица в доме – маленькая богиня и большой тиран.
Не дожидаясь каких-то объяснений, она взяла меня за руку и повела за собой – как я вскоре понял – в маленький перистиль, в котором в этот час было особенно хорошо – летний день выдался жаркий. Она шла чуть впереди, я видел ее тщательно уложенные, собранные на затылке волосы, длинную шею и легкий завиток пушистых волос, выпавший из прически. Она довела меня до скамьи в тени портика и указала на нее. Я сел, сама она осталась стоять. Потом, аккуратно подняла руки. Зазвенели браслеты, она ловко вытащила фибулы, державшие ее платье на плечах, и ткань стекла к ее ногам – она осталась предо мной совершенно нагая. Помню, как я смотрел на ее груди, ослепительно белые, увенчанные розовыми лепестками сосков, а потом взгляд мой начал спускать к плоскому животу, к темному треугольнику, к округлым круто выгнутым бедрам. Я ощутил, как кровь взбунтовалась, и я старательно сдвинул колени, хотя конечно же под тогой никто бы не заметил, какой эффект произвело на меня это зрелище.
– Хочешь стать моим мужем? – спросила Эмилия.
Потом наклонилась, и аккуратно вновь втекла в свой скользящий сверкающий шафран. И протянула мне на раскрытой ладони фибулы:
– Заколи…
Я встал, взял нагретые теплом ее ладони застежки. Она придерживала ткань лишь на одном плече, правая грудь была по-прежнему обнажена. Так на статуях греки любят изображать Диану – с одной обнаженной грудью, и окрашивают этот сосок золотом. Я наклонился и коснулся губами розового соска на груди. Эмилия не препятствовала.
– Что это за ткань? – спросил я внезапно охрипшим голосом.
– Ее называют шелком.
– Она наверняка безумно дорогая… – не знаю, хотел ли я сказать именно это, но сказал так.
– Конечно. Очень.
– И ты надела это платье ради меня?
– Я надела его, чтобы показать, как мой будущий муж должен одевать меня. Я должна наслаждаться жизнью, а не страдать.
Я сколол ткань у нее на плечах и обнял дерзкую за талию. Ткань ее платья оказалась под пальцами совершенно невероятной – одновременно и нежной, и ускользающей. Я прижал ее крепко к себе, дабы она ощутила – даже сквозь ткань тоги – впрочем, не слишком пышную, что ее демонстрация произвела неизгладимый эффект. Затем поцеловал ее – коротко, быстро, но успев слегка прикусить дерзкой верхнюю губу.
Я смотрел ей в глаза и видел в них свое отражение – Эмилии было плевать, что думают другие. Ее волновали лишь ее собственные желания, и она находила нужным делать то, что ей нравилось и приносило удовольствие. Если бы боги сделали ее мужчиной, она бы выросла дерзким воином, рвалась к власти и полагала, что обязана сделаться консулом, императором, диктатором и – возможно – тираном. Но ее честолюбивый дух оказался заперт в женском теле, и изнывал от подобной несправедливости. Поэтому ей оставался один путь – найти мужчину, который достигнет небывалой славы.
Я невольно улыбнулся – она разглядела во мне героя.
Свадьбу сыграли без всяких торжеств и второпях – не до празднеств было, когда половина Города ходила в трауре.
* * *И вот годы и годы спустя я, изгнанник, обедал в обществе моих женщин. Я возлежал за столом, они сидели. Корнелия Младшая болтала без умолку – она уже второй год ходила в школу и опережала на уроках и по письму, и по счету всех мальчишек и девчонок ее учителя, которые, к тому же, были старше ее на несколько лет. Осуждающе покачивая головой, она пересказывала глупости и ошибки других школяров, ахала, прижимая ладошки к щекам, и заливалась смехом, сообщая, какие нелепости удавалось прочесть маленьким глупцам, неправильно разобрав слова.
– А потом в перистиле, когда начали биться на деревянных мечах, я заколола Тита! – прыснула Корнелия от смеха. – Знаешь, за что? – Она наклонила голову и лукаво глянула из-под длиннющих ресниц на меня.
– Нет, милая. Как же я могу знать, коли меня там не было…
– Он сказал: хоть ты и считаешь и пишешь лучше меня, но консулом тебе никогда не бывать. Вот что сказал этот Тит, глупый, как кусок дерева.
Я невольно вздохнул. Ах, если бы этот дух и этот ум достались сыну моему Публию! Или Луцию!
– Зато ты сможешь стать матерью консулов, – улыбнулся я, зная, что в тот миг роняю зерно в благодатную почву.
* * *В этот день боги оказались ко мне милостивы – боль не тревожила меня (впрочем, за обедом, я старался есть как можно меньше), и мы с Эмилией возлегли на ложе вместе. Приап был милостив ко мне тоже.
* * *Я должен здесь немного рассказать о своих сыновьях. Мой старший Публий, родившийся через год после битвы при Каннах, долгое время был единственным ребенком в нашей семье. Я почти все время находился в армии, и зачастую делил ложе с другими женщинами. Эмилия, родив Публия, долго болела, и мы не знали, будет ли у нас с нею иное потомство, кроме нашего первенца. Когда я отбыл на осаду Капуи, Эмилия оставалась управлять нашим домом и во многом – воспитывать нашего сына. Страх потерять единственного наследника заставил ее сговориться с сенаторами (она была отличным переговорщиком) сделать в будущем нашего сына фламином Юпитера – должность эта не была популярна среди молодых, поскольку не давала возможности продолжить карьеру. Но она же гарантировала, что наш сын не пойдет в армию и не будет воевать. Я не возражал и не пробовал позже переиначить его судьбу: Публий отличался слабым здоровьем, и с восемнадцати лет в собачье время, когда над Римом всходило созвездие Псов, у него начинался сильный, долго не проходивший кашель. Когда ему едва исполнилось двадцать, он сошелся с женщиной на семнадцать лет его старше. Она потеряла мужа в битве при Метавре, овдовев, спешно вышла замуж за старика, чтобы дать отца своим детям – мальчику и девочке. Дети уже выросли, второй муж скончался, и она могла позволить себе молодого любовника и прочие капризы. Я не называю здесь ее имени – дабы не указывать на связь этих двоих. Но Публий так привязался к этой женщине, что наотрез отказывался жениться на девушке, способной родить ему наследника, хотя мы с Эмилией подыскали ему достойную невесту. Год назад, когда я в последний раз его видел, он, кажется, уже и дни, и ночи проводил в постели, читая книги или пробуя изредка что-то писать. То ли это была обычная лень, ставшая его второй натурой, то ли страсть так изматывала его, что отнимала последние силы. Не знаю, переживет ли он меня. Если переживет, то ненамного. Детей у него нет, и вряд ли будут. Мы с ним как-то завели разговор о наследнике, и он сказал, пускай ему наследует Луций – а если и это не суждено, приемный сын будет носить гордое имя Сципионов Африканских. Меня не оставляет мысль, что если молодого Публия кто и хвалит, то лишь из уважения к моим заслугам. Хотя по натуре он человек хороший – обходительный, образованный, отвечающим благодеянием на благодеяние. Он мог бы стать воистину достойным римлянином, но болезнь надломила его.
Луций был на шесть лет моложе брата – зачатый накануне испанской экспедиции, он родился, когда меня не было в Риме. К моим ногам его положили не на девятый день после рождения, а уже когда он давно научился ходить. Я поднял его – и он вдруг влепил мне пощечину, ударил не просто играючи, а зло, изо всех маленьких своих силенок, испугавшись чужого ему человека, взявшего его на руки, после чего заревел в голос. Я уже тогда понял, что этот мальчишка доставит мне массу хлопот. Он унаследовал мою дерзость, мою красоту (он даже одно время носил длинные волосы до плеч, как я когда-то в юности), мою уверенность в своей исключительности, но начисто был лишен рассудительности, а также боги не наделили его даром руководить людьми и вести их в битву. При этом он полагал, что все вокруг относятся к нему несправедливо. Впрочем, его характер я понял гораздо позже. А в детстве он радовал меня своей живостью, забавными выходками, дерзкими и остроумными ответами, и, каюсь, любил я его куда больше, нежели вялого старшего сына. Мне казалось, я вижу самого себя, только куда более успешного, обласканного удачей, и в мыслях рисовал ему судьбу более величественную, чем моя собственная.
Как жестоко я ошибался, мне довелось понять уже только в Сирии, когда мы с братом Луцием вели армию против Антиоха. Первая военная экспедиция юного Луция (он был послан на разведку с конным отрядом, точь-в-точь как я когда-то) закончилась плачевно – Луций попал в плен к Антиоху и доставил тем самым царю оружие против меня, римского легата. Царь держал важного пленника в самых изысканных условиях – вино, красивые женщины и мальчики – всё к его услугам. И вскоре ему понравилось в этом плену – вечное хмельное безделье, приторная льстивость, роскошь, столь вычурная, что казалась порождением больного ума. Когда мне его вернули, Луций стал человеком, буквально помешанным на развлечениях Востока. Он уговорил Антиоха отдать ему нескольких невольников из прежней свиты. Так он и прибыл в римский лагерь – вместе с караваном разряженных девиц и юнцов, с верблюдами, груженными одеждой, посудой, необыкновенными яствами. По прибытии он тут же закатил пирушку в своей палатке. Я спешно отправил его в Италию в надежде, что суровая римская жизнь отвадит его от новых привычек. Как я ошибался! Суровости в Риме не осталось ни на палец. К тому же после нашего с братом возвращения, мой сын сделался постоянным гостем своего дяди, оба Луция вместе пировали и транжирили деньги. И я охотно верю, что они на пару запустили руки в римскую казну, присвоив себе часть восточной добычи. О, я представляю, как завоет от восторга Марк Порций, если когда-нибудь эти записки попадутся ему на глаза. И теперь я сижу и раздумываю над последней рубрикой – стоит ли оставлять эти мои подозрения, здесь, на воске. Стоит ли переносить на папирус…
Но я обещал себе быть честным с самим собой. Так что буду честным. И это не самое страшное мое признание касательно той восточной кампании.
Итак, продолжаю.
Сенат проигнорировал распутство мальчишки, но брата моего обвинили в растрате народные трибуны. Науськанные Катоном, они заговорили о том, что братья Сципионы присвоили сокровища Антиоха. Острие удара целилось в Луция как командующего кампанией, но метили шавки Катона на самом деле в меня. Как мог я спасти наше доброе имя? Мой брат был не лучше и не хуже других, но бескорыстие и скромность не стали его добродетелями. Я устроил публичный демарш – принес сенаторам счетные книги с отчетами о полученной с Антиоха контрибуции и захваченной добыче, на глазах у всех размотал свитки и порвал в клочки, бросив небрежно: кто хочет проверить счета, пусть собирает обрывки. Брат был спасен, во всяком случае, от суда и позора, и то на время. Новые обвинения посыпались на него вскоре, его присудили к заключению в тюрьму, но вето трибуна Семпрония Гракха спасло его от позорной участи, хотя и не избавило от штрафа.
Что касается сына моего Луция, то его ни в чем не обвиняли. Он слишком походил на других юнцов-аристократов, так что его безумства старались не замечать благоразумные отцы-сенаторы, дабы не привлекать внимания к своим собственным детям.
И все же мои сыновья в Риме не особенно были в чести. Не имея возможности поквитаться со мной, мои злопыхатели нападали на моих мальчиков.
Так ни Публий, ни Луций не входили в коллегию салиев, несмотря на то, что имели на это право: их родители были живы, они принадлежали к патрицианскому роду и оба появились на свет в Риме. Но требованиям коллегии – не иметь изъянов во внешности и здоровье, отвечал только младший, Луций. Однако и его отвергли. Вспоминая об этом, я всякий раз испытываю злость: это был удар по мне, мелкая месть со стороны моих врагов.
Сам я был избран жрецом-салием еще до начала войны с Ганнибалом, едва мне исполнилось шестнадцать.
Дважды я участвовал в ритуальной пляске – несколько часов двенадцать юнцов в пурпурных туниках, каждый держа в руке один из священных щитов, плясали старинные танцы. Как всем известно, подлинно священный щит, тот самый, небесный, что сброшен был Юпитером Нуме Помпилию, только один, остальные одиннадцать – удачные подделки, но никто не мог указать, какой же из них настоящий. Есть способ проверить, но я не стану здесь писать, каков он.
Пляска утомительна и сложна: каждый прыжок, поворот, вращение – заученный и повторяемый год из года ритуал. Салий должен соблюдать ритм на три счета и при этом совершать почти акробатические прыжки и вращения, ничего не добавляя от себя, но лишь раз за разом повторяя движения, смысл которых давно утрачен. Когда-то это был боевой танец наших суровых предков, а ныне – сложный ритуал, готовящий римский народ к грядущим трудам на полях брани. Что касается зрителей, то для них это одновременно и священнодействие, и забава: стоя на улицах, они сравнивают танцоров, приветствуют любимцев криками, идут за процессией следом. Но для участника долгий танец – тяжелейший труд: приходится несколько часов плясать непрерывно, не имея возможности не то что поесть, но даже глотнуть воды. Погода зачастую бывает студеной, идет дождь, мне однажды случилось попасть под снег, а танцору положена только тонкая пурпурная туника, никакой тоги или плаща, вместо кожаного пояса – тяжелые медные пластины на бедрах, сцепленные кольцами. В левой руке – медный шит, после которого обычный боевой кажется легкой игрушкой, в правой – короткий ритуальный меч, им отбиваешь такт вычурной пляски. Старинный медный шлем с высоким шишаком не создан для танцев и прыжков. Тут главное, чтобы он плотно сидел на голове, иначе может свалиться при резком движении, или, напротив, съехать на нос и рассечь кожу. Темп и высоту прыжков задает зачинатель танцев, остальные должны уловить ритм и двигаться с ним одновременно. Хорошо спляшут салии, значит – быть нашей армии в грядущих битвах победоносной.
Так танцевал я несколько дней подряд, переходя вместе с другими жрецами от одного святилища к другому. За несколько дней в ритуальной пляске салии должны обойти весь священный померий. Каждый вечер нас принимали в ближайшем богатом доме и сажали за стол пировать. После голодного дня наступал вечер неуемного обжорства, и это тоже считалось частью ритуала. Многие не выдерживали, блевали, у других к утру случался понос. В год консульства моего отца один из юношей в конце дня упал без чувств во время пляски. Это сочли дурным знаком.
Салием я числился очень долго, хотя и не плясал с той поры как отбыл вместе с армией моего отца на войну.
* * *Мой сын Луций недавно приезжал ко мне сюда, в поместье. Он искал должности и просил помощи на выборах. В отличие от Публия, чья жизнь протекала на мягком ложе, Луций с малых лет являл неуемное честолюбие и не скрывал страстного желания сделать карьеру. Свое нелепое военное прошлое с позорным пленом, тень которого навсегда легла на имя Сципионов, он пытался выдать за великую доблесть.
В друзьях у него ходил сейчас некто Гай Цицерий, мой клиент и человек весьма темного прошлого, внезапно разбогатевший, как случается со многими пройдохами в наше время. Луций завел с этим Гаем дружбу, и решил, полагаясь на ловкость и деньги торговца, победить на выборах. Я не отговаривал его от этой затеи за долгой беседой, но и не поощрял. Под конец я спросил: для чего он ищет для себя магистратуры, не имея на то заслуг.
Он ни на миг не смутился. Напротив, нагловатая усмешка тронула алые чувственные губы.
– А ты сам? Сколько раз я слышал рассказ, как ты искал места проконсула, чтобы получить войска в Испании, не имея на то права! Вот я и решил – пойду-ка по отцовым стопам.
Его дерзкий ответ, его улыбочка причинили мне боль. Теперь мне даже кажется, что осколок той боли поселился у меня в боку и медленно убивает. А в тот момент я ощутил ледяную ярость, которая приходит во время схватки и дает силу разить насмерть одним ударом.