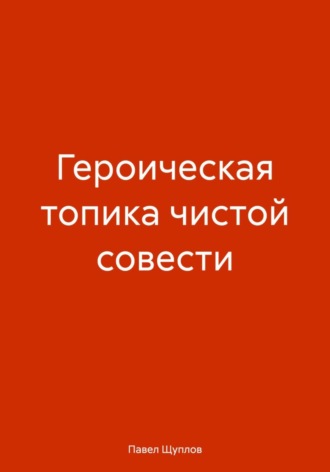
Полная версия
ГЕРОИЧЕСКАЯ ТОПИКА ЧИСТОЙ СОВЕСТИ

Павел Щуплов
ГЕРОИЧЕСКАЯ ТОПИКА ЧИСТОЙ СОВЕСТИ
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?
Владимир Маяковский
Послушайте!
Вступительное слово
Что такое совесть? С этого вопроса, который однажды как-то поутру, днём, или ночью (сказать точно теперь едва ли возможно), я задал себе, берёт начало мой философский роман, или роман с собственной персоной, и несмотря на то, что он, по всей вероятности, длится до сих пор, я спешу представить его вашему вниманию, дорогой друг. Специфика моего философского «романа» в том, что, начинаясь на страницах произведения, которое будет представлено, он имеет продолжение в «реальной жизни», приглашая читателя к соучастию в нём, предлагая возможность что-то добавить, что-то додумать самостоятельно. Моя задача не столько в том, чтобы развлечь, сколько в том, чтобы побудить мыслить, активизировать философское мышление, цель которого – самопознание. Мой роман, как и самое время, потраченное на него, обладает некоторым налётом академической философии, но подчиняется при этом только лишь моему демону, что выступает для меня в качестве руководящего начала. Потворствуя воле к тому, что я называю «обратимость», я вновь и вновь возвращаюсь в то утро, в тот день или вечер, в котором имел смелость или неосторожность обратиться к своему демону (демону философии) – к Совести. Тем самым она, то есть совесть моя, этот демон, стала для меня неким словом-ключом, которым я открыл двери познания – Добра и Зла.
Задавая вопросы, и вовсе не для того, чтобы найти на них быстрые и лёгкие ответы, я обращаюсь отнюдь не к праздным вопросам, среди которых: возможно ли пустить время вспять или каким-то образом «победить» самое время? Возможна ли (а если возможна, то как) «обратимость»? О том, что для тех, кто рождён в мире, существует единственный закон – закон необходимости, предписывающий в должное время жить и умирать, более-менее известно всем и каждому. У меня же есть идея или желание немного посмеяться над этой необходимостью. Моя совесть, что по-прежнему взывает из собственного, неотчуждаемого, времени, из моего персонального ада, и говорит мне о чём-то проклятом и о чём-то обратном – о том, что всё (о, решительно всё!) возможно, и никто, кроме меня, не даст мне ответы на те вопросы, которые она настойчиво ставит передо мной, заставляя искать самостоятельно. Так обстоят дела в мире, вечным спутником в котором является для каждого его совесть.
Вопрошание о совести находится среди «проклятых» вопросов, то есть относится к их числу, которое, в общем, всем известно. Совесть вопрошает о себе: что я такое? Многие считают, что знают ответ на этот вопрос, даже не задаваясь им всерьёз (впрочем, так обстоит дело касательно и других вопросов). Причиной такого безразличия во многом является уверенность в незыблемости собственного существования. Но вопрос совести о том, что она и откуда она, важен для понимания своей собственной природы – своих страхов и желаний. Можно сказать, забегая вперёд, что совесть не только спутник для страждущего в дольнем этом мире, но и напоминание о мире ином, горнем. Совести отводится религиозная, восстанавливающая и собирательная функция: она призвана, как я полагаю, восстанавливает целостность человека. Я рассматриваю совесть как антропотехнику, как некоторую искушённость в нравах.
В повседневном словоупотреблении слово «совесть» встречается нередко, но с изменённым, либо же зачастую и вовсе вывернутым наизнанку смыслом. В общем употреблении совесть выступает в качестве синонима «вины» и «стыда». Но совесть – это самостоятельный духовный феномен, зовущий изнутри к своим истокам. Никем она обычно не рассматривается в качестве проводника или сталкера. Поэтому «чистая совесть», о которой в основном идёт речь в «Героической топике чистой совести», есть совесть иного рода, что постигается только экспериментальным путём – в отрыве от собственных начал и истоков, но с ориентиром на них, с имением их ввиду. Совесть соединяет повседневное сознание с сознанием высшим, которое характеризуется мной как полнота знания. Надо сказать, что всегда чувствуется фальшь и подвох, когда слово «совесть» звучит в общественном употреблении, где она, как правило, предстаёт как некий компромисс. Что до нечистой совести, то она допускает компромисс, когда чистая совесть подразумевает устремление к абсолютному, и в этом смысле – бескомпромиссность. Чистая совесть – это полнота бытия. Однако тот, кто выбирает стратегию чистой совести, в отличие от того, кто идёт на компромисс со своей совестью, сильно рискует – он рискует потерять рассудок на этом пути, что неизбежно с ним и происходит. Так или иначе, совесть, эта странная химера, в мире иллюзий и заблуждений, постоянно выдаёт себя за что-то другое –за то, чем она не является, тем самым, однако, лишь обнажая противоречия «этого мира». Меня интересует онтология совести, её бытийный и экзистенциальный статус.
В общественном и политическом измерении совесть, часто принимая весьма отвратительные формы, служит прикрытием ханжей, моралистов и пропагандистов всех мастей. У меня нет задачи и никакого желания становится в позицию судьи и вершить суд над нравами чужого для меня времени, но, тем не менее, есть стойкое желание провести расследование на тему того, чем она, так сказать, является, разобраться в её истоках. Это желание спровоцировано не насущной необходимостью, но обходимостью («необходимостью наоборот», которой руководствуется и герой чистой совести).
Амбивалентное желание, желание совести, крайне противоречиво по своей структуре. Это желание граничит с отвращением и рассматривается как «самое сильное чувство» или «внутренний голос», взывающий из глубины. Как «голос» или «зов», на который не может не откликнуться наше сокровенное «я», она служит для личности как бы «точкой сборки». А как «самое сильное чувство», она является как бы «триггером» распада самой личности, которая в принципе двойственна и, следовательно, множественна. Это самое желание, как воля к истокам, актуализирует совесть как процесс, актуализирует совещание, что мы и называем «романом с собственной персоной», который представляется здесь как наглядная демонстрация этого процесса.
Совесть, как самое сильное чувство или как внутренний голос, есть одновременно субъект и объект исследования, и в этом смысле она «размыкает» привычный круг бытия. Область исследования, в рамках которого изготовлено сочинение, представленное здесь вашему вниманию, есть область, сопредельная с философской антропологией, эзотерикой и свободной прозой. В жизни совесть часто понимается едва ли не как синоним «стыда» и «вины», что, безусловно, есть связанные, но при этом и не тождественные, понятия.
Действительно, у многих совесть ассоциируется с некой нравственной реакцией на совершение ошибок и, следовательно, понимается как своего рода «работа над ошибками». В определённом смысле это так и есть, но только лишь в «определённом смысле»: это смысл, который определяется сознанием или же чувством вины – своей личной или коллективной. Но бессознательное совести –это, как говорится, другое (на что и указывает название самого исследования «Героическая топика чистой совести»). Меня интересует, прежде всего, скрытое и «не-проявленное» совести: каков её запах, её цвет, вкус? Я задаю эти вопросы вовсе не для того чтобы дать на них конкретные очень ответы, но – для того, чтобы, задавая вопросы, снова и снова, я приблизился в этой игре с собой к постижению некоего смысла, что в принципе есть великая ценность. Смысл – драгоценен, и он никогда не лежит на поверхности: до него, как до дна бездны, не достать, не дотянуться, не «докопаться». Но мы всё же попробуем. Совесть требует от соискателя полной самоотдачи и самоотрешённости. Ещё с самого начала, предпринимая исследование, результатами которого желаю поделиться, я не понимал, но, пожалуй, предчувствовал насколько глубока и нежна эта моя ночь размышлений, в которой теряется и обретается совесть (и в которую мне тогда ещё только предстояло окунуться – с головой).
Условное начало моему «роману» было положено летом 2015 года, когда только с третьей, если не изменяет мне память, попытки я поступил в аспирантуру института философии Санкт-Петербургского государственного университета, ставшего к тому времени для меня своего рода alma mater. Итак, утвердив «совесть» в качестве темы своего научного интереса (мне было тогда 26 с половиной лет), я принялся за работу… Научным руководителем тогда стал профессор Вячеслав Юльевич Сухачёв, а в качестве неформального наставника выступил Николай Борисович Иванов (которому я бесконечно благодарен за увлекательнейший экскурс в Метафизику Ада). В качестве «официального» научного руководителя, под руководством которого защита моей кандидатской диссертация всё-таки состоялась (а случилось это 2 Ноября 2021 года), стал доктор философских наук, профессор Б. В. Марков (при его содействии я опубликовал нужное количество статей в научно-философских журналах). Тема диссертации, с которой я вышел на «защиту», получила тогда следующее название: «Совесть как религиозно-философская проблема: экзистенциально-антропологический анализ». Это название весьма неплохо характеризует суть исследования.
По прошествии какого-то времени после «защиты» и до сих пор у меня остаётся чувство незавершённости, что диктует мне желание изложить результаты исследования в более свободной форме: вне рамок, налагаемых форматом кандидатской диссертации, то есть в «собственной форме» (что и представляет здесь моя «Героическая топика чистой совести»). Само название «Героическая топика чистой совести» возникло спонтанно и сразу – как некая цельная концепция ещё той самой осенью 2015 года. И если данная работа есть нечто вроде «работы над ошибками», или – «над ошибкой», то изначальная диссертация есть, собственно, совершение фундаментальной «ошибки», что определило дальнейшее преступление, совершаемое ради своевременного исправления, которым я и занимаюсь теперь (исправление – не самоцель, но средство познания, средство для достижения столь нужного и не-обходимого опыта). Проще, быть может, было бы вовсе не браться за это дело, но будучи полон искрометных сомнений и желаний, я не мог не попробовать. Кандидатская диссертация, послужившая «основой» для «героической топики», содержит в себе элементы исповеди и проповеди (а в той мере, в которой исповедь является собой, она является и проповедью). Потребовалось немало времени, взятого взаймы у вечности, для того, чтобы прожить этот свой опыт, который, вопреки всему, я решился извлечь на свет и предъявить в качестве артефакта собственного времяпрепровождения. Добавлю, что заглавие работы отсылает к эзотерической традиции, но, по неизвестной причине, имеет скорее гротескно-пародийный характер.
Предисловие
Если рассматривать совесть как технику, мы имеем дело с определённой искушённостью, которая как и любая искушённость в чём бы то ни было (например, в образе жизни), предполагает определённый опыт у того, кто в этом смысле искушён. Однако среди живых и живущих таковых найти не просто. Поэтому опыт, дающий знание, предполагает прохождение через испытания, что и является условием извлечения опыта. Испытанием в этом смысле является способность отнестись непредвзято к чему бы то ни было, а тем более к тому, что является чем-то близким и дорогим (например, к самому себе). Сложность непредвзятого отношения к себе в том, что критерий нравственной объективности определяется с известной долей условности, а извлечение опыта (изнутри – наружу) требует жертв (человек жертвует чем-то для себя важным, если вовсе сам не становится жертвой). Но когда речь об опыте совести, тогда мы имеем дело с такой формой опыта, в которой объект и субъект едины, совпадают (субъект совести испытывает и испытывается одновременно). Опыт совести – опыт жизни и смерти, опыт путешествия по внутренним мирам с последующим возвращением назад – в вопиющее. Можно констатировать, что опыт совести, о котором речь, есть опыт трансцендентальный, пограничный и сквозной.
Если чистая совесть подразумевает отсутствие всякого опыта, то есть как бы опирается на априорные чувствования, она вся – неискушённость. Однако, поскольку речь всё-таки об опыте, опыте совести, мы имеем дело с тем, что можно было бы назвать искушённостью в совести, или в вопросах совести, что обязательно предполагает опыт. Жизненная мудрость, которая базируется на личном опыте взаимодействия со Вселенной, с творением Творца, как правило, имманентно свидетельствует о том, что человек пойман этим миром в ловушку. Жизненная мудрость, или умудрённость, как хорошо замаскированная нечистая совесть есть результат компромисса с самим собой (что подразумевает отказ от прежнего решения, ход на попятную), что формирует на промежуточном этапе психологический потрет личности. Она свойственна людям опытным, которые немало повидали на этом свете (людям, которым многое довелось повидать). То, что я определяю как «чистая совесть», некоторыми исследователями вопроса трактуется как «заядлая форма лживости». Чистая совесть в основном более свойственна детям, нежели взрослым.
Прибегая к метафоре, можно сказать, что «чистая совесть»соответствует «времени разбрасывать камни», то есть времени игры, верной себе (когда«время камни собирать» соответствует другому времени – времени взросления). Некоторые всячески желают избежать попадания в ловушку, которая связана со взрослением и со свойственными ему традиционными атрибутами (ведь взросление сопряжено с обманом или самообманом). Попасть в ловушку очень просто, другое дело – выбраться из неё. Дети взрослеют, когда получают опыт «сбора камней», если воспринимают это как свой долг, который внушается им нечистой совестью коллективного сознания или коллективного сна, что им приходится разделять с другими (по мере собственного отпадения от чистой совести, свойственной Творцу).
Совесть возникает и заявляет о себе в результате нарушений обычаев и традиций, которые базируются на многочисленных причинно-следственных связях этого мира, пытаясь «починить» вышедший из строя элемент, и в то же время служит проводником тому, что вне всяких связей, то есть проклятому и благословенному – тому, что всегда находится вне привычных рамок и правил (в том числе и языка). Совесть призывает к свободному творчеству. Жизнь индивида в обществе, так или иначе, подчинена разным причинно-следственным связям, и тот, кто идёт против необходимости и целесообразности, которыми, как правило, обусловлены эти связи, находится не под законом. А тот, кто находится не под законом, есть преступник, уклонившийся от обычаев чуждого для него мира, в котором он не находит для себя места, поскольку правила назначаются временем, духом времени. Дух времени связан с внутренним духом, и от страждущего в этом смысле требуется лишь овладеть этим лёгким духом, овладев собой. Тот, кто обладает собой в полной мере, контролирует и самое время.. Тот, кто идёт против устоев и обычаев, идёт навстречу такому умению, что, однако, не гарантирует успех. Таким образом, если что-то верно и справедливо для одних, оно может быть в корне не верно для других, ведь равенства между всеми не было, и нет.
Чистая совесть, которой вдохновлено данное исследование, есть, согласно философской системе И. Канта, не столько феномен, сколько ноумен, что постигается на уровне априорного, или непосредственного чувствования. К чистой совести мы приходим через «нечистую», двигаясь как бы «от противного» –от бытия к небытию, или от бытия – к чистому бытию. Но если сам опыт, об извлечении которого идёт речь, по определению уже предполагает некоторую искушённость, о какой же тогда спонтанности может идти речь? Разве может спонтанность быть искушённой, а искушённость – спонтанной? Разве одно не исключает другое? Разве можно, например, пойти погулять, оставаясь при этом на месте? Может ли искушённость быть доведена до автоматизма? Может ли быть спонтанной сама искушённость в чём-то или же она требует работы над собой? Искушённость в неискушённости есть непредвзятость, под которой я понимаю свободу от суждений, что как знание о незнании, в глазах рассудка предстаёт как парадокс или абсурд.
Чистая совесть, как искушённость в праздности, представляется невымышленным состоянием ума, чистым светом разума. Об опытах «оборотничества», то есть о состояниях, когда физическое тело находится в одном месте, а астральное – в другом, свидетельствуют множество источников, достоверность которых проверить едва ли возможно. Поэтому проверять приходится на своём собственном опыте, в котором совесть есть главная инстанция, свидетельствующая о достоверности того или иного явления. О какой, собственно, совести и о какой достоверности речь? О потерянной, забытой и оставленной? Или, быть может, о совести как неискушённости в спонтанных проявлениях – в мыслях, словах, желаниях? То, что чувствам представляется как достоверное, на уровне рассудка может быть чистым бредом. Отсюда сложность описания того опыта, о котором идёт речь.
Принять какое-нибудь из определений совести и успокоится –для нас, как для пытливых исследователей, просто неинтересно, да и сама совесть, как топика, как «общее место», заслуживает куда большего внимания и куда более трепетного к себе отношения (как со стороны учёных, так и со стороны простых людей). Она не нуждается в определениях, которые сужают её, сводя к какому-то условному общему знаменателю, что, безусловно, искажает смысл. Поэтому к совести мы подходим с любовью, и никак иначе. Проблема в этом смысле совести в том, что тот, кто представляется наиболее искушённым в её делах, тот наиболее чужд ей: с совестью всё всегда с точностью до наоборот, и, как ни крути, она всегда есть что-то не то, чем кажется на первый и даже на второй взгляд. Она находится в оппозиции к искушённости в принципе, она свободна, её трудно поймать. Как с ней быть? Замазать чёрным или принять как данность? Что же касается самого философа, то он принимает как есть, потому что тот или иной сугубо внешний продукт, в данном случае – текст, который перед Вами, есть следствие чего-то другого, скрытого и не-проявленного.
Опыт совести предполагает искушённость в поиске ответов на вечные вопросы, которыми задаётся разум и на которые его же собственная природа не позволяет дать вполне ясный ответ. Проклятые вопросы метафизики, к которым мы можем отнести вопрос наш о совести, есть вопросы, которые ещё называют «праздными»,«пустыми», делают искушённым соответственно в праздности того, кто ими задаётся, и это логично. Спроси свою совесть о том, если ты не пуст внутри. Искушённого в этом смысле можно сравнить с тем, кто, попав в ловушку небес, которыми полон чудесный мир, нашёл в себе силы вернутся назад – спуститься с небес на землю для того, чтобы просто жить. Стало быть, небеса (как метафизическая величина или субстанция)–это ловушка для того, кто искушаем совестью. Но что значит быть искушённым совестью – в этом ещё предстоит разобраться на примере личного (здесь надо сказать, что в той мере, в которой опыт по-настоящему личный, он и по-настоящему общий).
Вопрос о совести представляется практичным – в смысле, что, несмотря на всю свою выспреннюю теоретичность, он оказывает влияние на судьбу человека. Известно, что жить по совести значит жить честно, то есть делать что-то не только ради того, чтобы что-то«получилось», ради некоего «внешнего эффекта», или сиюминутной, краткосрочной выгоды, но ради пользы для души, коль скоро душа – главная ценность, перед сиянием которой меркнет всё остальное в этом мире, суетное и неважное. Но едва ли тот, кто задаётся вопросом о совести, желая познать что она такое, живёт в соответствии с ней. Для того, чтобы узнать, что она, совесть, есть на самом деле, следует поставить эксперимент над собой. Эксперимент требует жертв: надо выйти из непосредственности мировосприятия. Непосредственность хороша, когда совесть чиста, но всё же трудно жить чистой совестью и оставаться свободным в мире «людских зверей», ведь радость простоты в каком-то смысле может быть «сыром в мышеловке» – об этом тоже не стоит забывать. Если, как гласит высказывание Уильяма Шекспира, вся «жизнь –театр и люди в нём актеры», то и философ – есть лишь одна из ролей глобального театра.
В свете вышесказанного так называемая «светская жизнь» представляется неким тотальным маскарадом, или спектаклем, где всё действо – сплошное притворство, имитация, подражание… И если это всё есть имитация, подделка, копирование, то, стало быть, есть и первоисточник – оригинал, который в этом отношении не есть всё, но есть что-то ещё. За кулисами мирового театра, на сцене которого разворачивается трагикомедия-фарс становления Абсолютного Духа, быть может, нет вообще ничего, что чистая совесть и имеет ввиду. И если здесь и сейчас оригинала вещей, первоисточника нет, то это не значит, что где-то он обязательно есть. Непостижимый этот антимир чистой совести полон сладких грёз и мечт несбыточных. Оригинал, или идеал, таится в грёзах и снах, а задача Творца, которому подражает и с которым соревнуется наш философ-герой, то есть герой моего романа с собственной персоной, и состоит в том, чтобы воплотить этот несбыточный идеал, создав его пустой макет, который, безусловно, служит компроматом на реальность, где всё сплошь притворство и макет. В этом плане творчество может быть не только целью, но средством к тому, чтобы покинуть наконец царство грёз или теней, под которым подразумевается сумрачный мир нашей сумрачной ирреальности. Но и мечты бывают качественно разные: я различаю настоящие и ненастоящие мечты. Настоящие же мечты – это те, которые несбыточны. Если мечта сбылась, то это, скорее всего, ненастоящая мечта. Тем не менее, мечты есть для того, чтобы «сбываться», и в этом их парадокс, который только кажется неразрешимым. Мечты сбываются, когда мы дарим их тому, кто их достоин. Непостижимый и мрачный антимир наших снов, как любимая игра, или игрушка, является «преступным», когда он открывается нам и когда мы открываемся ему, ведь тогда (и только тогда!) и нарушается черта, которую преступать рассудку не положено. Но попробуй приблизиться к подлинному, что сокрыто в малом – в твоём собственном мирке. Подлинное – это свет природы, который призывает тебя вспомниться – обрести себя вновь.
Антимир, который мы понимаем как скрытую возможность мира, – это не мир и не война, но нечто, что человек может позволить себе, если научиться как следует желать. Антимир –это парадоксальная возможность, что сообщается посредством совести, то есть – персональным богом, или – демоном, который, будучи скрытым, желает веселится, рискуя несказанно. Антимир, скрытый за завесой этого мира, мира сделок и компромиссов, мира пошлых дельцов, где мораль, контролирует мышление и поведение миллионов, объявляет войну себе и, тем самым, войну миру. Этот Антимир есть вопиющая ошибка, которой быть не должно, но которая, тем не менее, есть. Важный момент стоит отметить, что, будучи противником Бога, сатана не является противником человека, и то учение – ложно, которое говорит об обратном. Фрагменты «иного» проступают сквозь внешнюю облицовку мира, стражи которого предохраняют от слияния с антимиром, поскольку справедливо опасаются, что пошатнутся устои, которые оберегают этот мир от падения в бездну, в пропасть (и от последующего его растворения в ней). С целью сокрытия очевидного, человеку внушается, что он «раб божий» (и всё в этом духе). Но на деле всё это уходит прочь, когда человек начинает ощущать себя свободным от призрачных миражей, не существующих на самом деле.
Многое несуществующее и химерическое претворяется существующим в этом мире, чтобы «запудрить» мозги народов, «наследство» которых, как писал А. С. Пушкин, «ярмо с гремушками да бич». Таким образом, налицо тенденция всеобщей «карнавализации» бытия. Тем не менее, жизнь –опасный карнавал, где всё происходит как бы «по-настоящему» (и ведь каждый, наверное, знает, что если в нём отрубают голову, то восстановить её не так просто, но и не невозможно). Цель героя, цель героя романа с собственной персоной, это слияние миров ради вселенского праздника непослушания. Философ, что часто рассматривается как антипод и как побратим героя, придерживается, как правило, скептических взглядов –он сомневается во всём, и в этом его философское дело. Он циничен – вплоть до того, что иногда сомневается в реальности или же в её объективности. Философ, надо сказать, – это не герой, а герой – не философ, несмотря на их диалектическое единство, что проявляется на уровне архетипа. Философ есть некто, словно герой, вывернутый наизнанку. Философ есть пародия на героя во вселенском смысле, он – герой наоборот, или злодей, существо ре-активное.

