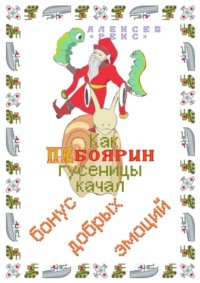Полная версия
Удивительная история аэронавтики от дымного шара до паровой ракеты
Итого мощь силовой установки 30 л.с. на 77 кг массы двигателей. Заметили, какой прогресс мощности паровых машин со времён дирижабля Жиффара? А ведь прошло-то всего 30 лет.
Современные знатоки авиации справедливо указывают на слабое место аэроплана Можайского:
– удлинение крыла всего 1.5.
Но как мы уже знаем из главы про азы аэродинамики, на удлинении крыла свет клином не сошёлся. Есть ещё и площадь крыла, и она даже важнее. Потому что если площади опоры недостаточно, то никакое удлинение не спасёт.
А вот про площадь крыла Можайский, как опытный моряк эпохи парусного флота, понимал отлично. Ибо чем парус больше, тем больше ветра уловит. Можайский и стремился обеспечить наибольшую площадь. Но как сделать крыло длинным в стороны он не знал – оно же гнуться будет. Длинное крыло того и гляди переломится. Потому, ради увеличения площади опоры на воздух, Можайский вытянул крыло вдоль корпуса барказа.
Площади крыла для опоры на воздух хватило, но из-за проклятой экономии аэроплан вышел слишком тяжёлым, и лететь если и мог, то только на так называемом экранном эффекте отражения воздуха от подстилающей поверхности.
Так что у Можайского вышел не первый в мире аэроплан, а первый в мире экраноплан.
Но сам Можайский тогда этого своего достижения не понял, а как заставить своё творение взлететь по-настоящему, не знал. В любом случае для первой попытки человечества это был совсем неплохой результат.
Но у современных знатоков есть ещё один козырный упрёк Можайскому:
он не продумал управление по крену.
А ведь современные самолёты для поворота обязательно закладывают крен. А раз у самолёта Можайского возможности управлять креном нету, то это и не самолёт вовсе, и оторваться от поверхности он не мог.
В таком рассуждении ложь всё.
Даже на современном самолёте можно осуществить поворот только лишь за счёт одного лишь руля направления. Не вводя самолёт в крен. Да, это неэффективно. Но в принципе возможно.
Более того, очень странно, когда мы, современные, понимая что у Можайского получился не самолёт, а экраноплан, который и должен летать плоско – и вдруг требуем от этого аппарата входить в крен. Чего ради-то?
Но Можайский мыслил не как мы. Он мыслил свой аэроплан – как летучий корабль. Точно так же, как мыслили до него все предыдущие изобретатели. И воздушный шар, и дирижабль, и самолёт дю Трампля – это летучие корабли. И самолёт Можайского ещё один из этого ряда.
А для корабля крен нежелателен. Не то, неровён час, экипаж да грузы с палубы за борт попадают чего доброго. Нет, ясное дело, хороший летучий корабль должен летать плоско. А то как же ещё?
Совсем не странно, что Можайский, как и все энтузиасты воздухоплавания до него, стремился избежать крена, который сулил только несчастья. Весь опыт человечества вопил о этом. Опасение крена это ничуть не странно. Тут скорее странно, что Можайский забыл приделать на свой аэроплан якорь, каковой, напомню, был на дирижабле Жиффара.
Ну а что касается профиля крыла, вернее отсутствия этого самого профиля на аэроплане Можайского, то опять-таки спасибо парадоксу д'Аламбера, из-за которого всякий научно образованный человек того времени рассматривал крыло исключительно как плоский парус, и даже мысли не допускал, что подъёмная сила может образовываться за счёт профиля.
Змеиный парадокс
Есть в истории покорения небес моменты, настолько удивительные, что наше сознание просто отказывается их осознавать. Они не скрыты покровом тайны, они на виду. И мы их знаем. Но не осознаём. И я сейчас покажу один такой момент.
В воздушном змее нет ничего сложного. По сути своей он тот же парус. Только не на мачте, а на верёвочке, именуемой леером. Не рядом с тобой, а где-то там в небесах парит. Но суть ровно та же. Как ветер надувает парус, так ветер увлекает и воздушного змея. И сделать змея даже проще, чем лодку с парусом.
Китайцы запускали воздушных змеев очень давно. А от них и японцы научились. И так вошли во вкус этой забавы, что стали считать её исконно своей японской. Даже праздник по этому случаю в календаре японском есть. У китайцев такого праздника нету. А вот европейцы приобщились к воздушным змеям почти накануне начала полётов человека в небесах. Зато европейцы подошли к делу новаторски, и в XVIII веке приноровились использовать змея как буксир для катания на коньках. Но дальше этой забавы дело не шло.
И не шло аж почти до конца XIX века, когда в 1889 г французский фотограф Артур Бату (Arthur Batut) придумал поднимать на воздушном змее фотоаппарат для панорамных снимков с высоты птичьего полёта. Змей у него был самой простой конструкции, по форме неправильный ромб, ничего сложного. Просто размер достаточно большой, чтоб поднять в воздух тяжёлую фотокамеру того времени. Срабатывание затвора камеры происходило от пережигания удерживающего спуск тросика тлеющим фитилём, одновременно выбрасывался флажок, сигнализирующий что фото сделано, можно спускать.
Ещё раз повторю:
на дворе 1889 г. Уже отгремела гражданская война в США, где обе стороны очень активно использовали привязные аэростаты для наблюдения и разведки. Уже пронеслась и утихла франко-прусская война, в которой французы активно летали на свободно летающих аэростатах, проникая над головами немецких солдат в отрезанные захватчиками области Франции. Даже французский министр летал! Да что там, уже вовсю летают не аэростаты, а настоящие дирижабли, а в 1881 г полетел первый дирижабль на электрической тяге, за ним ещё несколько. И были уже выданы патенты на аэропланы, в том числе и в той же Франции.
Воздушный океан бороздят уже весьма сложные суда, не сегодня-завтра взлетит настоящий самолёт – а вот самого простого воздушного змея только-только додумались хоть как-то приспособить для пользы дела!
Как понять, чем объяснить эту странность изобретательской мысли великого множества весьма талантливых людей – создававших подчас очень сложные конструкции – но напрочь игнорировавших простую конструкцию воздушного змея, что была у них буквально перед глазами?!
Кстати позже на воздушных змеях принялись летать люди. Именно на воздушных змеях. И летали весьма активно. Но знаете, когда это произошло? А лишь в самом начале XX века. Однако про это мы поговорим позже. А пока давайте посмотрим, что же ещё случилось в том самом 1889 г.
Отто Лилиенталь
Карл Вильгельм Отто Лилиенталь (Karl Wilhelm Otto Lilienthal). Совладелец берлинского театра и фабрикант. Говоря современным языком, меценат и преуспевающий бизнесмен. Только вместо того чтоб день и ночь делать деньги, да купаться во внимании балерин и прочих примадонн сцены, он замыслил построить аэроплан. Не прям сразу, а в будущем. Но прежде чем браться за столь сложное дело, он решил начать с более простого. С планёров.
И знаете, это удивительно.
Нет, это удивительно дважды. И первое удивительное, что Лилиенталь и в самом деле жил не тужил. Ну к чему ему эти полёты?
И кто-то наверняка возразит в том духе, что только частный капитал и прокладывал дорогу в небеса. Вот те же Монгольфье. Но позвольте, а много ли других владельцев шпалерных мануфактур посвятили себя чему-то отвлечённому от извлечения прибыли? Нет, не много. Пример Монгольфье, как и Лилиенталя это крайне редкое исключение.
И тут кто-то возразит, а как же Фридрих Энгельс? Уж он-то капиталист прирождённый казалось бы, а вот поди ж ты, стал революционером, поучаствовал в событиях Весны Народов, компартию создал в конце концов. Вот пример частного капитала с человеческим лицом!
Но много ли таких?
Давайте возьмём для примера из того же XIX века промышленника Круппа. Такой же немец. Одарённый металлург, он раскрыл секрет литой стали, и его сталь стала самой лучшей в мире! Талантливый администратор. Опора сперва прусского, а потом и германского государства. Патриот ни дать ни взять. При этом тут же активно продавал оружие врагам своего отечества, и за малейшее несогласие увольнял своих ближайших товарищей. Вот вам прекрасный образчик типичного капиталистического хищника – который всех загрызёт и готов на любое преступление ради прибыли. Зато умеет и направить работу масс к достижению цели. Однако бесчеловечными методами управления. Но выжмет все силы из рабочего предельно эффективно. И именно такие бессердечные нелюди выдвигаются на ведущие роли в капиталистической системе.
Лилиенталь определённо был не таков. Он почему-то хотел, чтоб Человечество научилось летать.
Но самое удивительное, как именно он подошёл к решению этой задачи.
Ведь и до него и после далеко не все изобретатели понимали, что начать нужно с простого. Многие сразу хватались за постройку натурного самолёта с мотором. В лучшем случае одна модель и можно строить большой аэроплан. Именно так поступил дю Трампль. И то лишь потому, что был морским офицером и знал традиции постройки парусников. А она была такова, что прежде делали небольшую модель, которую называли адмиралтейской. Её отдавали плотникам на верфь, а уже те, глядя на модель, делали такой же корабль, только в натуральную величину. Вот и дю Трампль поступил так же, сделал свою адмиралтейскую модель самолёта, а дальше можно и настоящий строить, чего тут ещё выдумывать-то? Пожалуй первым, кто последовательно шёл от простого к сложному был Можайский. Но Лилиенталь об опытах Можайского конечно не знал. Он шёл сам. Однако по тому же разумному пути от простого к сложному.
Он не только построил множество планёров, но и озадачился их поведением в воздухе, их устойчивостью и – внимание – управляемостью! Упрёк насчёт недостаточной управляемости бросают многим ранним аэропланам. Так вот у Лилиенталя с управляемостью всё было в порядке.
Именно он в 1889 г придумал балансирное управление, хорошо знакомое нам, современным, по дельтапланам. Пилот висит в районе центра тяжести крыла. И двигая перекладину, жёстко соединённую с крылом, пилот заставляет его отклоняться. И так либо набирает высоту, правда теряя при этом скорость, либо пикирует, теряя высоту, но набирая скорость. А отклоняя крыло вправо или влево от себя оказалось возможным входить в вираж и так совершать повороты.
Сам Лилиенталь совершил тысячи полётов, испытывая планёры самых разных конструкций, а главное заложил теоретические основы понимания аэродинамики.
Лилиенталь первым установил зависимость подъёмной силы крыла от угла атаки. Это наверное самое удивительное открытие. Ведь оказалось, что даже воздушный змей не воспарит, ежили его плоскость не подставлена к набегающему потоку под каким-то углом. И удивительно здесь то, что это тысячи лет уже знали моряки со своими парусами, но вот же недоразумение, никто до Лилиенталя не додумывался примерить этот многократно испытанный в морях опыт – к крылу! Что за массовое наваждение затуманило разум массы изобретателей, начиная с самого великого Леонардо да Винчи?
Лилиенталь эту зависимость между подъёмной силой и углом атаки не только осознал, а ещё и опубликовал. Не скрыл в тайне, а раскрыл глаза инженерам всего мира. И сделал он это с помощью графиков и им же выведенных формул расчёта подъёмной силы.
В графике Лилиенталя уже отмечен момент критического угла атаки, при котором из-за срыва потока с крыла, подъёмная сила начинает быстро падать.
Лилиенталь пошёл дальше и выяснил, что аэродинамическое сопротивление крыла растёт квадратично росту подъёмной силы. И построив кривую графика этой зависимости, он провёл к ней касательную из начала координат – и таким образом определил наивыгоднейший угол атаки! То есть вот он наивыгоднейший режим планирования. Он его предсказал. И предсказал верно. Возможно у меня очень плохо с математикой, но мне эта игра с графиками кажется каким-то наитием куда больше, чем наукой. Будто он уже знал заранее, какие величины основные, а какие производные. И объяснить это пред-знание лично я не могу.
Ведь я сейчас сильно упростил ситуацию, говоря про зависимость подъёмной силы от угла атаки. А на графике Лилиенталя нету ни подъёмной силы, ни угла атаки – там их коэффициенты. Каждый вычисляется по своей формуле. И вот соотношение этих коэффициентов и даёт тот самый красивый и наглядный график.
Этот график назвали полярой Лилиенталя или аэродинамической полярой. И кстати, тангенс угла той самой касательной и есть численное значение аэродинамического качества. И это всё открыл Лилиенталь – а до него никто об этом даже не задумывался.
Понимаете, до него никто не думал про подъёмную силу в связи с углом атаки. А он внезапно понимает, что нужно найти наивыгоднейшее отношение одного к другому, и найти это отношение поможет график – но в график нужно подставлять не сами значения (которые ещё никто никогда до Лилиенталя не задумывался как получить) – а нужно прежде вычислить другие значения. И вот эти-то другие значения дадут математически точный и геометрически наглядный результат.
Вот как можно было догадаться до такой математической многоходовки? Это нам сейчас всё кажется очевидным, про это в любом учебнике основ аэродинамики написано – но у Лилиенталя не было тех учебников, до него даже понятий этих ещё никто не сформулировал.
Открытие на пустом месте, без предшествующих открытий.
Такого не бывает и быть не может!!!
Однако Лилиенталь смог.
А потом он погиб. В 1896 году. Из-за внезапного порыва ветра, разбился на собственном планёре. Сломал спину, лежал и умирал. И помочь ему, с медициной того времени, никто не мог.
Лилиенталь владел заводом паровых машин, на нём и выделил отдельный участок для сборки своих планеров. Испытал много разных конструкций, построил и облетал около двух десятков натурных планёров, были и планёры-бипланы. У всех аппаратов верно определён центр тяжести, где и располагался пилот. У всех до него и многих после него определить это самое положение не получилось – а у Лилиенталя вышло. Кажется удивительным? Возможно разгадка вот этого очень проста – он находил центр тяжести экспериментально во время пробежек и подскоков у земли, благо с лёгким планёром это совсем несложный эксперимент, в отличие, к примеру, от громады в 2.5 тонны сэра Хайрема Максима, про которую далее будет пара слов.
Хайрем Максим
Сэр Хайрем Стивенс Максим (Hiram Stevens Maxim) сэром вовсе не родился. Родился он американцем, а вот рыцарский титул ему пожаловали в Англии. И было за что. Слыл он великим изобретателем, которому под силу любая задача – и его догадка об автоматическом пулемёте это догадка гениальная воистину. Ведь его пулемёт сам приспосабливался к качеству патронов, чего предшествующие модели, например картечница Гатлинга, не могли, и их часто заклинивало. А пулемёт Максима нет, на известных публичных испытаниях сэр Максим собственноручно выпускал весь боекомплект пулемёта, а это была лента в 750 патронов, за 3 длинных очереди. И ни единой задержки! Тогда как из многоствольной картечницы Гатлинга в бою удавалось сделать хорошо если несколько десятков выстрелов. И такой успех при том, что до работы над пулемётом Максим вообще никогда не интересовался оружием. А занимался электрическим оборудованием, в коем сделал десятки различных усовершенствований.
Так вот, в то самое время, когда с 1883 г Максим работал над пулемётом в Англии, на деньги Виккерса и под общим патронажем Ротшильда – короче в финансировании своих экспериментов был абсолютно не ограничен.
И брался он тогда за многое. Так, между делом, в те самые годы Максиму удалось усовершенствовать торпеду Бреннана. Ах, да вы поди и не слышали о такой торпеде? А между тем австралиец ирландского происхождения Луи Бреннан (Louis Brennan) придумал её ещё в 1877 г. В Англии эта торпеда выпускалась серийно, правда на кораблях её не было, только на береговых установках аж до 1906 г. И была эта торпеда:
1) управляемой
2) не имела двигателя
Да-да, никакой ошибки, торпеда без двигателя была управляемой и цели поражала уверенно на дистанции в морскую милю. И всё это ещё в последней четверти XIX века, представляете? А сэр Максим уже улучшил изобретение австралийского инженера вдвое по всем показателям.
Хайрем Максим в самом деле был гений
Вот только с аэропланами не задалось.
В 1894 г он построил гигантский по тем временам аэроплан взлётной массой в 2.5 тонны. Двигатель паровая машина 150 л.с или даже 2 таких, толкающие пропеллеры громадного размера.
И – не взлетел.
Но почему? Может тяги не хватило?
Какая скорость нужна чтоб взлететь?
Мы уже говорили про аэродинамическое качество, которое показывает сколько километров пролетит летательный аппарат, если его запустить в свободный полёт с высоты в 1 километр. Для лучших современных рекордных планёров это аэродинамическое качество может достигать 70. Хотя и 50 это очень много – полсотни километров пролететь без мотора, какая экономия на бензине, а? К примеру, такой массовый советский гражданский самолёт местных линий АНТ-2, известный в народе под прозвищем «кукурузник», тратил чуть больше 1 литра авиационного бензина на 1 км полёта. Так что пролететь без использования мотора полсотни километров – это сэкономить полный бак малолитражного авто. Но вообще и качества в 35 хватает, чтоб воспарить под облака на восходящем потоке тёплого воздуха.
Только все эти чудеса стали возможны при современных материалах. Таких как углепластик. А что можно было получить из ткани и палок?
Массовый планер БРО-11 советского литовского конструктора Брониса Ошкиниса.
Разработан в 1954 г, позже незначительно изменялся.
Одноместный.
Высокоплан – для устойчивости.
Материалы: сосна, фанера, несколько металлических труб каркаса, крылья обтянуты тканью.
Размах крыла: 7.8 м
Длина: 5.2 – 5.5 м
Высота: 1.5 м
Площадь крыла: 10.5 – 11.8 кв. м
Масса:
– пустого: 65 кг
– нормальная полетная: 125 кг (т.е. рассчитан на вес пилота 60 кг)
Удлинение: 5.8 – 5.15 (на моделях с большей площадью крыла удлинение выходит меньше).
Удельная нагрузка: 11.9 – 10.6 кг/кв. м (где больше площадь, там меньше и удельная нагрузка).
Аэродинамическое качество 11 – 12.
Крейсерская скорость планирования 40 км/ч = 11 м/с, при этом скорость снижения 1 м/с
Минимальная посадочная скорость 30 км/ч = чуть больше 8 м/с.
Для сравнения:
– чемпионы по бегу пробегают 100 м за 10 с = 10 м/с – дай такому в руки крылья, так он взлетит.
– средняя полоса России отличается слабыми ветрами, типичный ветер для нас это 3—5 м/с – то есть треть или даже половина от того, что потребно для взлёта планёра.
Как видим, оторваться от земли не так уж сложно. Разогнать летательный аппарат до взлётной скорости вполне по силам даже лошади. Ну или упряжке лошадей, как поступил Можайский. В распоряжении изобретателей конца XIX века уже были прекрасные паровые машины, заменявшие собой табун лошадей. И весили те машины не так уж много. А взлететь отчего-то не удавалось. Давайте продолжим наш экскурс в историю, посмотрим кто и почему именно не взлетел.
Клеман Адер
В те же годы что и Лилиенталь, только во Франции, изобретал самолёт инженер Клеман Адер (Clement Ader). К тому моменту он уже успел приобрести известность на усовершенствовании телефона Белла, а затем решил покорить небо.
Вряд ли он знал что-то о работах Можайского, хотя мог знать о работах Лилиенталя, ведь тот секрета из них не делал. Но похоже Адер решил идти своим самобытным путём.
9 октября 1890 г он вывел на поле аэроплан «Эол», похожий на летучую мышь. Ну а что, летучие мыши успешно летают и планируют неплохо. Хороший прототип, за миллионы лет отлаженный самой Природой.
Летучая мышь Адера вышла покрупнее мышек из животного мира.
Вес 300 кг.
Размах крыльев почти 13 м.
Паровая машина 20 л.с, на спирте, тянущий винт.
«Эол» самостоятельно разбежался по полю и оторвался от земли, пролетел 50 м – правда полёт не был управляемым, но тогда на эту мелочь никто не обратил внимания.
14 октября 1897 г Адер выводит на поле «Авион-3» – размах крыла 14.5 м, 2 паровых машины, возможно каждая мощностью по 30 л.с., тянущие винты. Но вместо успеха крушение при попытке взлёта. А ведь на постройку аэроплана казённые денежки дало венное ведомство.
Отсюда мораль, даже 3 морали:
– Управление полётом самое важное условие успешного полёта!
– Не стоит слишком копировать природу. Не всё существующее в мире животном, может быть успешно воплощено в мире механизмов.
– И не стоит подводить таких важных заказчиков как военное ведомство. Ведь из-за провала военные были так раздосадованы, что не сделали официального заявления – и приоритет успешного полёта Адера Клемана на «Эоле» оказался забыт в пользу полёта «Флайера» братьев Райт.
Но первым, кто доподлинно сумел, пользуясь только тягой своих двигателей, оторваться от земли – стал именно «Эол». Так что первым доподлинно известным настоящим авиатором является Клеман Адер. Вот только управляемым его полёт не был.
Октав Шанют
А теперь перенесёмся за океан. В США работал Октав Шанют (Octave Chanute). Да, американец, но с французскими корнями. Железнодорожный инженер. А по тем временам, это не просто какой-то технический работник – это глава всех работ на производстве. Октав Шанют занимался постройкой железно-дорожных мостов. И построил их множество, причём предпочитал ферменную конструкцию.
А что такое эта самая ферма в технике? А вот возьмём рейку. Она вполне прочная. Но коротковата. А хотелось бы удлинить. Но в наличии только короткие рейки. Приделаем одну к концу другой – увы, переломится посерёдке такая конструкция. Но возьмём вдобавок не одну, а сразу пару. Итого имеет 3 рейки. Соединим их треугольником. Треугольник выходит довольно жёстким и прочным, он не гнётся, не ломается. Теперь продолжаем добавлять ещё и ещё рейки, как бы набирая длинную полосу из треугольников. И вся эта полоса может выйти довольно длинной, и при том будет вполне жёсткой. То есть прочной. Хотя эта длинная полоса набрана из коротких реек.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.