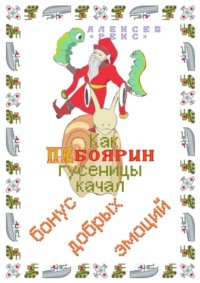Полная версия
Удивительная история аэронавтики от дымного шара до паровой ракеты

Удивительная история аэронавтики от дымного шара до паровой ракеты
Алексей «Рекс»
Однажды Вальтера Скотта спросили, почему он пишет о героях давно былых времён? Ведь есть же востребованные публикой современные темы про людей, деловой хваткой уверенно строящих свой успех. На что Вальтер Скотт ответил:
– У тех, кто посвятил себя наживе, нет биографии. О них можно написать, пожалуй, одну единственную строчку: дату рождения и дату смерти.
Дизайнер обложки Алексей «Рекс»
Иллюстратор Алексей «Рекс»
© Алексей «Рекс», 2025
© Алексей «Рекс», дизайн обложки, 2025
© Алексей «Рекс», иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0067-4927-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Присказка о лампочках
Все мы знаем про лампочку Ильича. Но это лишь лозунг. Придумал-то электрические лампочки конечно же не вождь мирового пролетариата, а Эдисон… Да вот нет. Томас Алва Эдисон (Thomas Alva Edison) хоть и правда был весьма изобретательным человеком, но электро-лампочку он не придумал сам – это сделал англичанин Уоррен де ла Рю (Warren de la Rue) ещё в 1840 г. Его лампочка уже имела платиновую спираль в стеклянной вакуумной колбе. А Эдисон аналогичную, только с дешёвой угольной нитью, лампочку – запатентовал в 1879 г. Почти на 40 лет позже. Ну а что, пусть вещь уже известная, но никем не запатентованная, так я первым буду! Чем вызвал недовольство многих. В числе коих оказался и химик Джозеф Уилсон Суон (Joseph Wilson Swan), чья фамилия в русской литературе обычно указывается как Сван или иногда Свен, напоминая этим о шведских корнях английского учёного. И он, в пику Эдисону, запатентовал способ изготовления герметичных стеклянных колб для лампочек. А без колбы лампочка Эдисона светить не могла. Пришлось Эдисону брать Свана в компаньоны, и производимые их предприятием лампочки в ту пору назывались лампами ЭдиСвана. И именно под таким названием вошли в произведения той поры и в частности в культовый детективный роман Конан Дойла «Собака Баскервилей».
Я эту занятную историю рассказал лишь к тому, что нынче, друг мой читатель, её уже нигде не прочтешь. Забылась она. И всезнающая Википедия как-то её позабыла. Так может и не было её?
Мы забываем историю – которая происходила на глазах наших отцов и дедов ещё вчера.
Я собираюсь рассказать, как Человек осваивал обитель богов – небеса. И всё о чём я буду рассказывать, по меркам истории произошло совсем недавно.
Но знаем ли мы правду про это недавнее время?
Знаю ли правду я?
Но если я умолчу то, что известно сейчас мне – то завтра и эти знания будут забыты. Как история лампочки ЭдиСвана. А я знаю кое-что посущественнее, чем история одной лампочки.
Обещаю:
от моего рассказа удивишься не раз.
А потом удивишься ещё больше.
Да вот прямо сейчас.
17 декабря 1903 г полёт аэроплана братьев Райт открыл эру авиации.
17 декабря 1903 г научило Человечество летать на аэропланах.
17 декабря 1903 г сделало для авиации… – ничего.
Вообще ничего.
Зеро. Ноль, Нет хуже, меньше ноля. И сказать спасибо за это мы должны братьям Райт. Но ведь они в тот день полетели, разве нет? Да полетели. Вот только… Впрочем, будем разбираться по порядку. Ведь началось всё намного раньше.
Пламенное сердце
Без мотора самолёт не полетит. И дирижабль с мотором полетит лучше, чем без него Хотя дирижаблю подняться в воздух и без мотора можно. Но вот чтоб лететь именно туда, куда хочешь – без мотора воздушному судну не обойтись. Но как мы все прекрасно знаем из истории, до братьев Райт подходящего мотора не было. И даже им ещё пришлось повозиться с улучшением бензомотора, чтоб он стал пригоден для полётов.
Но что не так было с другими моторами?
Когда вообще человечество изобрело первый мотор?
Коли уж мы размышляем про полёты в небесах, то первыми на ум приходят ветряные мельницы. Но вероятно раньше появились мельницы водяные. И современным археологам известны руины некоторых из подобных сооружений ещё древне-римской эпохи. Возможно были и более ранние, но от них и следа не осталось.
А из того что до наших времён сохранилось, самым древним механизмом, который можно в некотором роде отнести к примитивным моторам, является каменный гончарный круг из Междуречья. И пользовались тем гончарным кругом ещё древние шумеры около 4.5 тысяч лет назад. Здоровущий каменный диск с отверстием для оси, на которой он вращался. Ближе к краю ещё одно отверстие поменьше. В него вставлялась рукоятка. Гончар дёргал за рукоятку, раскручивая тяжёлый диск, и пока тот по инерции вращался, на нём из глины лепили новый кувшин. Очень простой механизм. Имя ему маховик. Механизм очень надёжный, ломаться в нём нечему. Но явно не только для аэроплана, но вообще для любого транспорта в таком виде он не годен. Потому что он всего лишь запасает энергию, которую ему сообщили. И гончар мог придать ему ровно одну человеческую силу. А это не так уж много, чтоб далеко на этом запасе энергии уехать.
Самый древний настоящий двигатель это паровая турбина Герона Александрийского, придуманная 2 тысячи лет тому назад. В самом примитивом виде это шар с припаянной к нему гнутой трубкой. В шаре вода, под шаром огонь, вода превращается в пар, который вырываясь через гнутую трубку, заставляет шар вращаться. Получилась самая настоящая паровая турбина реактивного действия. Современными реконструкторами построена чуть более сложная установка, в коей шар вращается на оси, сама эта ось при том является трубой для подачи пара из отдельно стоящего парового котла. И гнутых трубок к шару припаяно 2, это нужно для уравновешивания реактивного момента. В таком виде паровая турбина Герона уже не совсем игрушка, а даже может производить полезную работу.
Но современники хитроумного Герона не испытывали нужды в таком двигателе, и о забавной игрушке забыли.
Не поверите, но следующий изобретённый человечеством двигатель это опять-таки паровая турбина. Но теперь уже работающая по активному принципу – пар дул на лопасти, закреплённые по ободу колеса, заставляя его вращаться. Собственно так же пар вращает и роторы турбин современных электростанций. Но та древняя турбина электричество не вырабатывала. Её придумал живший в Египте в XVI веке турецкий учёный Такиюддин аш-Шами – для вращения вертела.
Видимо задача облечения труда на кухне, в средние века казалась очень актуальной, поскольку век спустя, для тех же целей в 1629 г аналогичную конструкцию предложил итальянец Джованни Бранка (Giovanni Branca).
Вот так человечество сразу начало с турбин – которые мы считаем самыми совершенными из двигателей. И когда, друг мой, ты уже удивлён и быть может даже ищешь следы вмешательства внеземных прогрессоров в судьбу человеческой цивилизации, позволь я тебя немного разочарую: те древние турбины – по сути своей колёса водяных мельниц. Разве что размером поменьше, да вместо воды бьёт поток пара. Как видим, никакого чуда или вмешательства инопланетного разума тут не потребовалось. Обычное размеренное развитие цивилизации.
Изобретения хорошо приживаются там, где они востребованы. Видимо повара не оценили услуг изобретателей. А вот шахтёры очень нуждались в устройствах для откачки воды из шахт. Шахта ведь под землёй. И вода в неё так и норовит затечь. И вычерпывать её руками очень утомительно.
Потому дальше развитие паровых машин пошло в виде паровых насосов. Они не были двигателями в нашем понимании. Откачка воды в них производилась путём её выталкивания паром. Таковы были машины англичанина Эдварда Сомерсета 1655 г и более поздняя установленная им в замке Реглан в 1663 г.
Следующий шаг в улучшении паровой машины произвёл работавший в Англии французский учёный Дени Папен (Denis Papin). Он хотел получить вакуум. Для чего подавал в цилиндр горячий пар, а когда тот охлаждался и конденсировался, то в цилиндре возникало разряжение. Папен сообразил вставить в цилиндр подвижный поршень, и так создал собственно машину с поршнем в 1680 г – правда это была строго стационарная машина. Но заслуга Папена ещё и в том, что он автоматизировал цикл работы машины – а это оказалось и возможно и необходимо, поскольку в его конструкции паровой котёл от самой машины отделён. Это было гениальное решение, позволившее инженерам в дальнейшем раздельно совершенствовать два агрегата – машину и котёл.
Всё это были по сути ещё только эксперименты. Очень интересные, но… кому вообще это надо?
И что же изменило отношение современников к этим забавным, но никому не нужным механизмам?
Экономика.
Вот тут самое время удивляться.
Ибо в 1694 г произошло крайне удивительное событие – был основан Центробанк Англии, за полновесные золотые раздававший бесполезные бумажные ассигнации в 20 фунтов достоинством каждая. Для большинства простолюдинов одна такая банкнота была целым состоянием. Потому-то подавляющее большинство населения Англии тех банкнот и в глаза не видело. Как расплачивались медным фартингом за еду с общего стола в дешёвой харчевне, так и продолжили. И даже в начале XX века, когда иной квалифицированный английский рабочий уже получал зарплату в пару фунтов в неделю, подержать в руках бумажную ассигнацию доводилось далеко не каждому жителю Великой Британии.
Совсем иное отношение к этим бумажкам возникло у обеспеченной прослойки английского общества. По сути, хитроумный Центробанк, вовлёк всех состоятельных людей Англии в коллективный сговор. Было обещано что через 20 лет банкноты можно будет обменять у банка обратно на звонкую монету. И тогда каждый вложенный фунт превратиться в полновесную гинею. То есть станет стоит на целый шиллинг дороже. Доходность в 5% за 20 лет тогда, при характерной для товарооборота за наличный благородный металл долгосрочной стабильности цен и практического отсутствия инфляции – да это было заманчиво выгодное предложение.
Конечно все деловые люди Англии поспешили обменять свои золотые на ассигнации. А вслед за тем и меж собой деловые расчёты стали вести в ассигнациях.
И внезапно в Англии случается бум производства. Ранее ограниченная нехваткой звонкой монеты, теперь промышленность воспрянула и расправила могучие плечи. И вот уже Англия отстраивает в третий раз морской флот, до того полностью потерянный дважды в ходе предыдущих англо-голландских войн – и третья война наконец-то выиграна. Благодаря чему теперь, подвинув только вчера практически монопольно владевшую всем рынком морских грузоперевозок Голландию, уже Британия Владычица морей диктует всем своё Морское право, лихо ведёт торговлю с колониями, как своими, так и чужими, а при случае и не стесняется прибрать к своим рукам всё, до чего те руки могут дотянуться.
Но не будем забывать Маркса, который мудро замечал, что цена денег зависит не от накопленного страной богатства – а от количества производимого в этой стране натурального продукта.
Итак, ловко провернув аферу с выпуском ассигнаций, теперь Англия оказалась перед необходимостью поддерживать их цену. И для этого был только один способ – развивать производство.
Вот тут-то и оказались внезапно востребованными все эти прежде ненужные забавные механизмы.
В 1712 г английский кузнец Томас Ньюкмен (Thomas Newcomen) создал свой атмосферный (или вакуумный) двигатель, который стал практическим воплощением машины Папена для откачки воды из шахт. И естественно в шахтах он быстро и нашёл широкое практическое применение, поскольку это было куда удобнее всяких норий, вращаемых лошадьми.
А спустя ещё 24 года родился Джеймс Уатт (James Watt). Тот самый Уатт, которого часто называют изобретателем паровой машины. Но нет, он не изобрёл саму машину. Он взял машину Ньюкмена, ту самую стационарную машину – и улучшил её установкой изобретённого им конденсатора.
Но это ещё были стационарные машины, где полезная работа осуществлялась при ходе поршня лишь в одну сторону, причём под действием атмосферного давления. А когда пар давил на поршень, то это был холостой ход при котором никакая полезная работа не производилась.
И лишь в 1782 году, продолжая размышления над недостатками конструкции Ньюкмена, Уатт изобретает паровую машину двойного действия – которая уже годится в качестве двигателя, а не только насоса для откачки воды.
Между прочим, для своего завода в Сохо, Уатт построил паровую машину «Олд Бесс», которая проработала 71 год. Неплохая надёжность была у старинных механизмов, не правда ли?
Именно Уатт ввёл первую единицу мощности – лошадиную силу. И его именем названа современная международная единица мощности – Ватт.
Однако, признавая заслуги Уатта, заметим, что ещё в 1720 г, то есть когда Уатт и родиться ещё не успел, немецкий физик Якоб Лейпольд (Jacob Leupold) изобрёл паровую машину высокого давления. И это его изобретение уже позволяло как резко повысить КПД, так и делать машины уже не стационарными, а гораздо меньших размеров. Однако практически такие машины были созданы лишь к концу XVIII века, и собственно усилиями Уатта.
Так что хоть Уатт и не был первым – но вклад его неоценим.
К слову, когда говорим о паре высокого давления того времени, это давление всего лишь около 3.5 атм. Для сравнения водопровод в типичном современном многоквартирном доме рассчитан на нормальное эксплуатационное давление 3 атм. Чего по нашим современным взглядам очень мало для работы двигателя. Но так мы полагаем сейчас. А в те далёкие времена рабочее давление аж в 3.5 раза больше давления в прежних атмосферных машинах (они же вакуумные), казалось настоящей технической революцией. К тому же у новых паровых машин отсутствовал холостой ход, теперь пар давил на поршень при его ходе в обе стороны – а значит и полезная работа совершалась постоянно, и КПД таких машин возрос сразу в разы. А главное такие машины уже могли быть не стационарными.
Занятный факт: давление в те времена ещё не указывали в числе атмосфер. А говорили «50 фунтов на квадратный дюйм». Такая сила давит примерно как 20 кг на 5 рублёвую монетку.
Собственно, кто держал в руках какой-нибудь пневматический гайковёрт – знайте, вы держали в руках самую настоящую паровую машину. Подайте в неё вместо сжатого воздуха хорошо разогретый пар, и будет крутить гайки ничуть не хуже. Отделённая от котла паровая машина может быть очень компактной и лёгкой. Да и котёл, по отдельности от паровой машины, можно сделать любым каким потребуется.
И вот он – важнейший для нас момент истории:
в 1764 г военный инженер Никола-Жозеф Кюньо (Nicolas-Joseph Cugnot) получает официальное поручение от французского военного министра маркиза де Шуазёль (de Choiseul) на создание парового тягача для артиллерии. В октябре 1769 года Кюньо представил свою «малую телегу». Двухцилиндровая паровая машина рабочим объёмом 50 л, выдавала аж 2 лошадиных силы, что позволяло «телеге» массой 5 т двигаться со скоростью 4 км/ч, то есть её легко обгоняли пешком. Паровой котёл не имел топки, под ним разжигали костёр, ждали пока давление пара станет достаточным, затем начинали демонстрацию. Воды и пара хватало на 12 минут, но демонстрация была признана успешной, даже несмотря на то, что из-за неудобства управления, закончилась столкновением со стеной арсенала. А в следующем 1770 г пришёл черёд и «большой телеги», котёл которой уже имел собственную топку и заправлялся дровами. Машина прошла пробег в 7 км, и кстати, сохранилась до наших дней. Но в том самом году министр попал в опалу по подозрению в недостаточной лояльности, а вслед за ним опала постигла и опекаемого министром изобретателя.
И про вредное изобретение забыли так, что спустя 30 лет в соседней Англии Ричард Третевик (Richard Trevithick) изобретал самостоятельно всё заново – и у него получился паровоз, чтоб таскать вагонетки по рельсовым путям в шахтах. Рельсовые-то пути в шахтах уже давно были, только вагонетки таскали либо люди, либо лошади. Паровоз с этим справлялся много лучше, а вскоре и рабочие приноровились ездить на вагонетках, а рельсы прокладывали уже не только под землёй, но по поверхности – между шахтами.
Через пару лет после публичной демонстрации паровоза Третевика, в 1813 г Уильям Хедли (William Hedley) строит своего «Пыхтящего Билли» (Билли уменьшительное от Уильям, то есть паровоз прозвали в честь его создателя). Если паровозу Третевика, чтоб двигаться, требовалась уложенная меж рельсов зубчатая рейка, то «Пыхтящий Билли» двигался только за счёт сцепления колёс с рельсами. И проработал он аж до 1871 г – то есть 59 лет. Надёжность старинной техники впечатляет, не правда ли? Кстати этот паровоз сохранился до наших дней. Будете в Лондоне проездом, загляните в Музей науки, полюбуйтесь.
Так что когда 15 сентября 1830 г Джордж Стефенсон (George Stephenson) официально открыл первую в Англии и в мире публичную железную дорогу Ливерпуль – Манчестер, уже давно имелось всё – и рельсовые пути, и паровозы и даже пассажирские вагоны. Собственно, сам Стефенсон строил железные дороги аж с 1814 г, но то были дороги частные для обслуживания шахт. И Стефенсон был не единственный их строитель, тот же Третевик был его конкурентом. И, как мы понимаем, не он один.
Но прежде нужно было преодолеть самую главную трудность на пути открытия первой публичной железной дороги. Что же это? А это – бесконечные слушания в различных бюрократических комиссиях, коих в Британской империи бесчисленное множество. И все радеют о пользе Британской короны, а пуще того о пользе подданных. Это ж пока ты частную дорогу в своих частных владениях прокладываешь, там твори чего хочешь. А коли для публики – попробуй-ка объясни разным чиновникам, а особенно общественным депутатам для чего это надобно-то? Жизнь нашу привычную ломать вздумал! Так в одной из комиссий Стефенсону задали вопрос:
– Рельсовый путь предполагается проложить через поля. Но скажите, не будут ли пасущиеся на тех полях животные пугаться раскалённых топки и трубы паровоза?
Не моргнув глазом Стефенсон ответил:
– Нет. Животные будут думать, что труба и топка выкрашены в красный цвет.
И вот же странное дело, чиновника такой ответ вполне удовлетворил. Хотя в те же самые годы законы против паровых омнибусов вводили как раз под предлогом, будто лошади пугаются паровых машин.
Но оставим этих странных англичан с их загадочными законами. Главное мы уже узнали.
В первой четверти XIX века уже существует множество различных паровых машин – в том числе достаточно широко распространены и машины, устанавливаемые в качестве двигателя на различный транспорт. И не было принципиальных препятствий создать машину и котёл лёгкими и компактными – как мы увидим далее ничуть не хуже бензомотора.
Казалось бы уже можно в полёт… но чего-то не хватает.
Немного аэродинамики
Дальше нам без знания азов аэродинамики не обойтись. Потому что как примутся любители истории спорить что могло летать, а что нет, так и несётся с разных сторон «Ну-ка, ну-ка какое там было аэродинамическое качество?» или «А скажи-ка какая была нагрузка на крыло?» – да о чём же спор?
Давайте начнём с самого понятного – с нагрузки на крыло.
Вот возьмём гирю пудовую – и нам сазу ясно, никуда эта гиря не полетит. Но любой самолёт многократно тяжелее этой гири – а летит. И мы знаем, он летит, опираясь на воздух. А гиря легче самолёта, но не летит. И мы понимаем почему. У самолёта большая площадь опоры крыльев на воздух, а у гири никакая. Нечем ей на воздух опереться, вот она и не летит.
Нагрузка на крыло это сколько килограмм полётного веса приходится на квадратный метр площади крыла. Вес тут важен именно полётный. Не сухой, а с полной заправкой топливом и пилотом на борту. А ежили положено в небо поднимать ещё какой груз, то и его учитываем в полётный вес. Иначе нельзя. Так вот, те этажерки, что храбро сражались в небесах в Первую Мировую, (и пилоты которых яростно перестреливались друг с другом из револьверов) – у них типичная нагрузка на крыло от 30 до 40 кг/кв. м. Но вот планёры, они должны быть очень лёгкими чтоб воспарять под облака на восходящих потоках нагретого воздуха. Вернее, у них должна быть как можно ниже нагрузка на крыло. Но не совсем, потому как если эта нагрузка уж очень мала, то взлетит конечно легко, но управлять полётом такого планёра станет невозможно, ибо его любым ветерком сдувать будет. В итоге проб и ошибок родился оптимум для планёров – минимальная удельная нагрузка на крыло 5 кг/кв. м.
Аэродинамическое качество, простыми словами, это сколько километров планер (или самолёт с неработающим мотором) пролетит будучи отпущенным в полёт с высоты в 1 километр.
Разумеется, для аэродинамического качества существует более научное определение. И формула. Даже целый график зависимости этого самого качества от установившейся скорости летательного аппарата. Ибо при разных скоростях и качество окажется разным. И разумеется для каждого аппарата график зависимости аэродинамического качества от скорости полёта будет свой. Но мы обойдёмся без этих сложностей, нас вполне устроит и самое простое объяснение.
Аэродинамическое качество пушечного ядра намного меньше 1, потому ядро в планирующем полёте улетит недалеко. Аэродинамическое качество воробья 4, с таким качеством уже можно летать, вот правда крылышками махать приходится часто. Зато у чайки аэродинамическое качество 10, и каждый из нас хоть раз в жизни любовался чайкой, парящей над волнами без единого взмаха крыла.
Есть, разумеется, и математически точная формулировка. К ней мы ещё вернёмся далее. А сейчас отметим вот что:
1) очевидно, что летательный аппарат тем дальше летит, чем меньше теряет скорость при движении в воздухе
2) а значит чем меньше лобовое сопротивление – тем дальше улетишь – тем выше должно получаться аэродинамическое качество
3) однако аэродинамическое качество так же улучшается – с ростом удлинения крыла
Я вам обещал, что в этой книге удивительное будет? А что же сейчас мы узнали удивительного?
Так ведь чем длиннее крылья – тем выше лобовое сопротивление. И от этого аэродинамическое качество должно падать казалось бы. А на деле выходит так, что не падает, а наоборот, лучше становится. Что за удивительный парадокс?
Но это ещё не всё. Куда удивительнее будет, когда узнаем, что же такое это самое удлинение крыла.
Ведь это определённо самый важный, нет, наиважнейший параметр любого самолёта! И в этом свято уверены все юные и даже не очень юные спорщики. Которым одного взгляда, к примеру, на аэроплан Можайского достаточно, чтоб уверенно заключить:
– Да как он в принципе мог взлететь с таким удлинением крыла?
А я вот смотрю на воздушного змея. Человечество эту забаву освоило так давно, что мы даже не знаем, когда именно. Сперва где-то на Дальне Востоке. А европейцы стали запускать воздушных змеев в XVIII веке. То есть, как раз когда впервые всерьёз задумались про полёты. Запускали змеев, впрочем, отнюдь не учёные мужи, и не ради науки. Голландцы придумали зимнюю забаву, катание на коньках по замёрзшему морю. А ещё веселее запустить змея и, держась за его леер, мчатся за ним как за парусом.
Так вот, классический воздушный змей имеет удлинение крыла ещё хуже, чем у самолёта Можайского. Однако и сам парит в небесах, да и ещё и развесёлого голландского конькобежца за собой утягивает. Уж не иначе как силой магии? Ну или кто-то плох учил аэродинамику. Либо воздушный змей, либо типичный юный (или не очень) спорщик.
Да что же это за таинственное удлинение крыла?
Удлинение крыла это отношение квадрата размаха к площади.
Вот теперь можете удивляться.
Спрашиваете, чему же теперь удивляться?
Хорошо, давайте все вместе в погожий летний день выйдем на мост над судоходной рекой. Поди под нами не только баржи грузы везут, но вон кто-то на катере решил прокатиться с ветерком. И я спрошу:
– Вон катер. На глаз, какое у него удлинение корпуса?
И любой тут же ответит что-нибудь в духе:
– Похоже 1 к 5, но нет, скорее 1 к 7, отсюда трудно точнее сказать.
Ответит, при том не задумываясь соотнося ширину катера в его самом широком месте, с его длиной. Именно это все мы понимаем под удлинением.
Но как только речь заходит об удлинении крыла – оставьте в стороне бытовую логику! Удлинение крыла это отношение квадрата размаха этого крыла к площади этого крыла.
Хорошо знающий математику читатель конечно уже смекнул в чём тут дело. Если мы возьмём прямоугольное в плане крыло, то как у любого прямоугольника, удлинение это отношение длины к ширине…
Вот тут и возникает первое небольшое недоразумение. Крыло-то поперёк самолёта стоит. И получается что ширина – это насколько крылья раскинулись в стороны. Это самая длинная сторона прямоугольника… А как же тогда называется другая сторона?
Хорда – вот как называется тот размер крыла, который направлен вдоль оси движения летательного аппарата. А размер крыла поперёк оси движения это – размах.