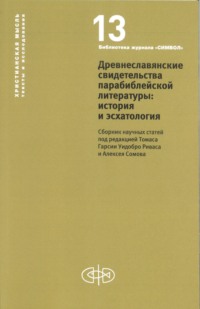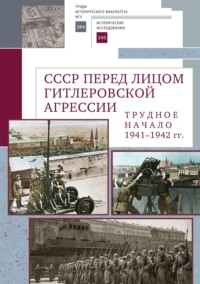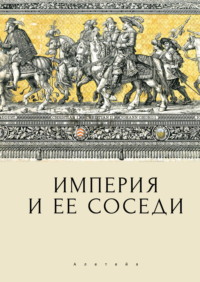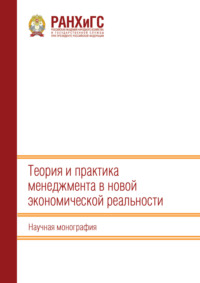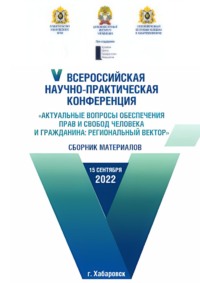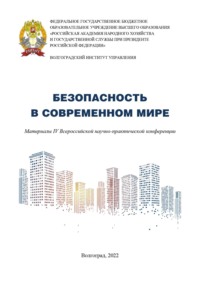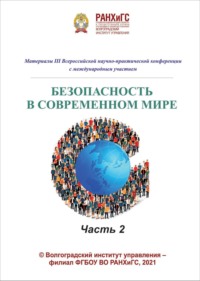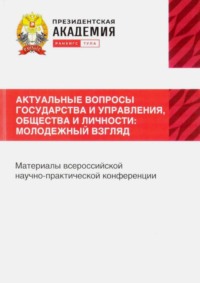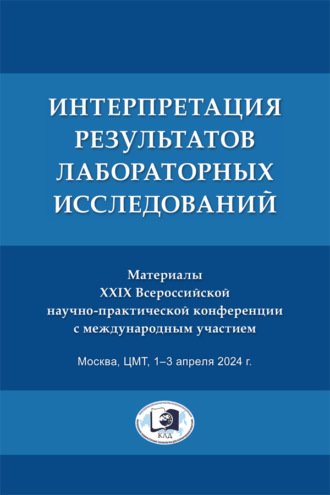
Полная версия
Интерпретация результатов лабораторных исследований
Заключение. Комбинированные исследования антител к sp100 и gp210 с помощью НРИФ-НЕр-2 и ИБ целесообразно использовать в качестве дополнительных лабораторных тестов при серонегативных по антимитохондриальным антителам вариантах ПБХ и перекрестного синдрома ПБХ/АИГ.
Новые критерии лабораторной диагностики антифосфолипидного синдрома (Александрова Е.Н., Новиков А.А., Лукина Г.В.)
ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва
Aleksandrova E. N., Novikov A. A., Lukina G. V.
NEW CRITERIA FOR LABORATORY DIAGNOSIS OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
Антифосфолипидный синдром (АФС) – системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся рецидивирующими тромбозами (артериальными и/или венозными), акушерской патологией и синтезом антифосфолипидных антител (аФЛ), включая волчаночный антикоагулянт (ВА), и/или антитела к кардиолипину (аКЛ) классов IgG/IgM, и/или антитела к β2-гликопротеину I (аβ2-ГП I) классов IgG/IgM. Новые международные классификационные критерии (ACR/EULAR, 2023), использующиеся для диагностики АФС, отличаются от предыдущих (Саппоро, 2006) выделением обязательного «входящего» критерия, который содержит хотя бы один клинический признак (подтвержденный медицинскими документами) в сочетании с положительным результатом исследования аФЛ (обнаружением ВА или средних – от 40 до 79 ЕД либо высоких ≥ 80 ЕД уровней IgG/IgM аКЛ или IgG/IgM аβ2-ГП I в крови) в течение 3 лет после выявления клинического симптома. При наличии «входящего» критерия используют дополнительные критерии с оценкой в баллах (в диапазоне от 1 до 7 баллов каждый), которые подразделяются на 8 доменов (D): 6 клинических (D1-D6) (макроваскулярные венозные тромбоэмболические нарушения, макроваскулярные артериальные тромбозы, микроваскулярные нарушения, акушерская патология, поражение клапанов сердца, гематологические нарушения – тромбоцитопения) и 2 лабораторных (D7-D8) домена. К лабораторным доменам относят:
D7 – выявление ВА в функциональных коагуляционных тестах (положительный ВА однократный – 1 балл; положительный ВА персистирующий, с обнаружением в 2 и более исследованиях с интервалом не менее 12 недель – 5 баллов).
D8 – персистирующее выявление IgG/IgM аКЛ и/или IgG/IgM аβ2-ГП I методом иммуноферментного анализа (ИФА) в 2 и более исследованиях с интервалом не менее 12 недель (умеренно позитивные от 40 до 79 ЕД или высоко позитивные ≥80 ЕД уровни IgM аКЛ и/или IgM аβ2-ГП I – 1 балл; умеренно позитивные от 40 до 79 ЕД уровни IgG аКЛ и/или IgG аβ2-ГП I – 4 балла; высоко позитивные ≥80 ЕД уровни IgG аКЛ или IgG аβ2-ГП I – 5 баллов; высоко позитивные ≥80 ЕД уровни IgG аКЛ и IgG аβ2-ГП I – 7 баллов.
В рамках каждого домена учитывается критерий с наибольшим количеством баллов; для постановки диагноза АФС следует набрать не менее 3 баллов из клинических и не менее 3 баллов из лабораторных доменов. Исследование ВА в фосфолипидзависимых коагуляционных тестах должно выполняться и интерпретироваться на основе рекомендаций Международного общества тромбозов и гемостаза (International Society of Thrombosis and Haemostasis – ISTH). Для подтверждения присутствия ВА необходима трехэтапная процедура (скрининг – исследование смешивания – подтверждение) с использованием 2 скрининговых тест-систем (времени свертывания плазмы с разведенным ядом гадюки Рассела – dRVVT и чувствительного АЧТВ с диоксидом кремния и низким содержанием фосфолипидов в качестве активатора). ВА считается положительным, если хотя бы одна из двух тест-систем дает положительный результат после всех трех этапов. Результаты тестирования ВА следует интерпретировать с осторожностью, поскольку во время приема антикоагулянтов могут возникать ложноположительные и отрицательные результаты. IgG/IgM аКЛ должны выявляться в сыворотке в средних (40–79 ЕД) или высоких (≥80 ЕД) концентрациях в 2 и более исследованиях с интервалом не менее 12 недель с помощью стандартного ИФА, позволяющего выявлять β2 – ГП I-зависимые аКЛ. IgG/IgM аβ2-ГП I должны определяться в сыворотке в средних (40–79 ЕД) или высоких (≥80 ЕД) концентрациях в 2 и более исследованиях с интервалом не менее 12 недель с помощью стандартного ИФА. С целью получения сопоставимых результатов не следует смешивать разные аналитические платформы при исследовании IgG/IgM аКЛ и IgG/IgM аβ2-ГП I. Для определения IgG/IgM аКЛ и IgG/IgM аβ2-ГП I не рекомендуется применять иные, кроме стандартного ИФА, методы твердофазного иммунного анализа (иммуноблот, новые автоматизированные методы хемилюминисцентного и мультиплексного иммунного анализа) из-за крайне низкой степени согласованности умеренно/высокопозитивных результатов тестирования.
Классификационные критерии АФС ACR/EULAR2023 имеют более высокую диагностическую специфичность (99% vs 86%) и более низкую диагностическую чувствительность (84% vs 99%) по сравнению с международными классификационными критериями АФС Саппоро 2006 г.
Исследование воздействия низкочастотных акустических колебаний на изменение концентрации биохимических маркеров повреждения тканей (Алексеева А.С., Алекперов С.И., Сажнев А.Н., Степанов А.В.)
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» МО РФ, г. Санкт-Петербург
Alekseeva A. S., Alekperov S. I., Sazhnev A. N., Stepanov A. V.
STUDY OF THE INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY ACOUSTIC OSCILLATIONS ON THE CONCENTRATION OF THE TISSUE ALTERATION BIOCHEMICAL MARKERS
Заболеваемость лиц, подвергающихся профессиональному воздействию низкочастотных акустических колебаний (НЧАК), обусловлена его способностью вызывать структурно-функциональные изменения практически во всех органах и системах организма.
Цель: оценить воздействия НЧАК на организм и головной мозг по появлению в крови лабораторных маркеров выраженной воспалительной реакции поражения ткани мозга.
Концентрация СРБ после воздействия НЧАК возросла у 62% добровольцев через 1 час, а достоверное снижение наблюдалось через 6 часов. Увеличение содержания фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) отмечали через 6 и 24 часа. Наиболее заметные изменения концентрации N-концевого предшественника натрийуретического пептида (NTproBNP) наблюдали на сроке 6 часов после воздействия. Изменения содержания моноцитарного хемотаксического белка-1 (МСР-1) не наблюдали. Через 3 часа после воздействия концентрация общего белка в крови добровольцев снизилась на 20% и далее снижалась через 6 и 24 часа. Концентрация альбумина снизилась на 14% через час после воздействия и продолжала снижаться через 3 и 6 часов. Снижение уровня альбумина обычно происходит на фоне обширных повреждений мягких тканей, а также при увеличении количества жидкости в организме в целом и в крови в частности. Уменьшение содержания белка в плазме может наступить в результате задержки воды при сердечной декомпенсации. Уровень глюкозы через час после воздействия имел тенденцию к повышению (на 7%), далее снижался в течение суток, что может быть связано с компенсаторными механизмами после стрессового воздействия. Не наблюдалось заметных изменений концентрации креатинкиназы, мочевой кислоты, АЛТ и АСТ. Содержание щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, билирубина увеличилось к 24 часам после воздействия. Повышение в крови указанных маркеров говорит о реакции организма на воздействие. Содержание триглицеридов снизилось на 12% через час после воздействия и продолжало снижаться в течение суток. Концентрация оксида азота значительно (в несколько десятков раз) повысилась через час и 3 часа, через 6 и 24 часа снизилась, но была значительно выше фона. Известно, что продукция оксида азота возрастает при черепно-мозговой травме за счет активности индуцибельной NO-синтазы.
Заключение. Лабораторные маркеры показали тенденцию к повышению концентрации после воздействия НЧАК, что подтверждает положение о повреждающем воздействии на организм в целом и мозг акустического (шумового) фактора. Перспективными для дальнейших исследований представляются СРБ, VEGF, ЛДГ и оксид азота.
Витамины D, B12 и гомоцистеин при хроническом атрофическом гастрите у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с метаболическим синдромом (Алхутова Н.А., Ковязина Н.А.)
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург
Alkhutova N. A., Kovyazina N. A.
VITAMINS D, B12 AND HOMOCYSTEINE IN CHRONIC ATROPHIC GASTRITIS IN PARTICIPANTS IN THE LIQUIDATION OF THE CONSEQUENCES OF THE CHERNOBYL ACCIDENT WITH METABOLIC SYNDROME
У участников ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС при обследовании в ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России в 2007–2020 годах установлен факт более высокой частоты хронического атрофического гастрита (ХАГ) относительно лиц группы сравнения. При наличии метаболического синдрома (МС) клинические проявления ХАГ характеризовались нечеткостью и разнообразием, что обусловливалось сочетанной, полиорганной патологией. В то же время известно, что с увеличением стадии ХАГ в 5–6 раз увеличивается вероятность развития аденокарциномы желудка. В последние годы все чаще высказывается мнение о повышенной вероятности развития рака желудка и частоте встречаемости аутоиммунной патологии на фоне дефицита витамина B12. Установлено, что степень снижения уровня витамина B12 пропорциональна увеличению концентрации гомоцистеина в крови. Опубликованы данные о значительном снижении уровня витамина D у пациентов с ХАГ. Следовательно, концентрацию в крови витаминов D и В12 следует также рассматривать в качестве потенциальных лабораторных маркеров состояния слизистой оболочки желудка у ЛПА.
Цель: выявить лабораторные маркеры сочетанного течения хронического атрофического гастрита и метаболического синдрома у ЛПА.
Обследовали 97 ЛПА (65,4 ± 1,1 лет), прошедших в 2019–2020 годах клинико-лабораторное обследование в ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России. В группу сравнения вошли мужчины, не получавшие профессиональную лучевую нагрузку и не имеющие онкологических и острых соматических заболеваний. Обследованные были разделены на группы с наличием и отсутствием МС. Количественное определение концентрации пепсиногена-I (PGI), пепсиногена-II, гастрина-17 (G-17) и H. pylori-IgG в плазме крови проводили иммуноферментным методом с использованием комплекса системы реагентов «Гастропанель» (BIOHIT, Финляндия). Иммунохемилюминесцентным методом определили в сыворотке крови витамина D (Access 2, Beckman Coulter, США), витамина B12 (UniCel DxI, Beckman Coulter, США) и гомоцистеина (Immulite 2000 XPI, Siemens, США). Статистический анализ проводили с помощью программы «Statistica 10.0».
На основании лабораторной оценки «Гастропанель» частота выявления ХАГ была выше у ЛПА при наличии МС. Частота выявления ХАГ у лиц группы сравнения также удваивалась при наличии МС. У ЛПА в 25,3% случаев был обнаружен дефицит витамина B12, подтвержденный повышением уровня гомоцистеина. У ЛПА с МС и дефицитом витамина В12 в 57,1% случаев уровень PGI был ниже 70 мкг/л. На фоне дефицита витамина В12 при наличии МС содержание к крови G-17 удваивалось, а медиана концентраций G-17 составила 25,2 пмоль/л. У ЛПА с фундальным ХАГ в отсутствие МС содержание витамина B12 и гомоцистеина находилось в границах референтного интервала. Напротив, 70% случаев у ЛПА с фундальным ХАГ и наличием МС выявили сочетание дефицита витамина B12, гипергомоцистеинемию, PGI < 30 мкг/л, G-17 >30 пмоль/л, PGI/PGII < 3. У большинства ЛПА с антральным ХАГ содержание в сыворотке крови гомоцистеина и витамина B12 находилось в пределах референтного диапазона. У ЛПА с атрофическими изменениями слизистой оболочки тела желудка содержание витамина D было недостаточным независимо от наличия у них МС. Уровень витамина D у ЛПА с антральным ХАГ без МС соответствовал достаточному количеству, в то время как при наличии МС отмечался недостаток витамина D близкий к дефициту.
Выводы. Лабораторные маркеры выявили хронический атрофический гастрит чаще при наличии МС как у ЛПА, так и у лиц группы сравнения. Наличие МС и дефицит витамина В12 являются факторами, ассоциированными с большей выраженностью лабораторных признаков атрофических изменений слизистой оболочки тела желудка у ЛПА. В алгоритм клинико-лабораторного наблюдения за состоянием здоровья ЛПА с наличием МС и ХАГ следует включать определение уровня витамина В12, витамина D и гомоцистеина.
Интерпретация маркеров регуляции костного метаболизма в аспекте общего адаптивного ответа (Алхутова Н.А., Ковязина Н.А., Рыбников В.Ю.)
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург
Alkhutova N. A., Kovyazina N. A., Ribnikov V. Yu.
INTERPRETATION OF MARKERS OF BONE METABOLISM REGULATION IN THE ASPECT OF GENERAL ADAPTIVE RESPONSE
Специфическим маркером остеосинтеза является остеокальцин. Увеличение продукции остеокальцина в ответ на стрессовую нагрузку является быстродействующим физиологическим адаптивным механизмом, а относительно костно-мышечной системы этот гормон выступает в роли антагониста кортизола. Большое значение в процессах ремоделирования костной ткани отведено витамину D, который стимулирует выработку остеокальцина, регулирует кальциево-фосфорный обмен и влияет на регенерацию кости.
Цель: поиск и установление лабораторных маркеров истощения остеокальцин-опосредованных механизмов адаптации.
Обследовали 119 мужчин, сотрудников ФПС ГПС МЧС России, прошедших в 2023 году клинико-лабораторное обследование в ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России. Иммунохемилюминесцентным методом определяли в сыворотке крови паратгормон, остеокальцин, инсулин, кортизол, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАС), витамин D. Во второй порции утренней мочи иммунохемилюминесцентным методом определили концентрацию дезоксипиридинолина (DPD).
В 82% случаев уровень витамина D был недостаточным, в том числе в 28% – дефицитным (< 50 пмоль/л). У 25% всех обследованных и более чем у 50% сотрудников ФПС ГПС с дефицитом витамина D наблюдали повышение уровня DPD в моче. Концентрация остеокальцина и ПТГ у обследованных с дефицитом и без дефицита витамина D не различалась. Группы с наличием и без наличия нарушений опорно-двигательной системы не различались по возрасту и индексу массы тела (ИМТ). Тем не менее, для здоровых лиц была характерна относительно более низкая концентрация инсулина (р < 0,05) и более высокая чувствительностью к инсулину, оцененная по индексу НОМА (p < 0,01). Эти изменения носили исключительно относительный характер, а все значения показателей находились внутри референтного диапазона. Тем не менее, учитывая характер выявленных жалоб и особенности профессиональной нагрузки обследованных лиц, допустимо предположить, что выявленные особенности обусловлены снижением интенсивности физиологических механизмов остеокальцин-опосредованной адаптации в группе с нарушениями опорно-двигательной системы. Так, соотношение концентрации остеокальцина к инсулину было выше (p < 0,01) в группе без наличия жалоб. Полученные данные согласуются с современными представлениями об остеокальцине как гормоне с анаболическим действием, усиливающим чувствительность органов-мишеней к глюкозе, пик концентрации которого в крови в физиологическом равновесии приходится на минимум концентрации инсулина. Тенденция к снижению остеокальцина и индекса остеокальцин/инсулин была также выявлена сотрудников по мере увеличения стажа их службы и возраста. Так, у лиц со стажем до 5 лет уровень остеокальцина был сопоставим с медианой референтного диапазона (19,8 нг/мл) и значительно снижался у сотрудников со стажем более 15 лет. Случаи превышения референтных пределов уровня остеокальцина были выявлены только в группе с индексом ДГЭАС/кортизол от 1,1 до 2,1 – в фазе расходования адаптационных резервов.
Заключение. Выявленные клинико-лабораторные взаимосвязи согласуются с современными теоретическими представлениями о регуляции костного метаболизма и участии костно-мышечной системы в механизмах общего адаптивного ответа. Предложенные критерии оценки уровня витамина D, индекса остеокальцин/инсулин и индекса ДГЭАС/кортизол могут быть использованы в программах профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья сотрудников ФПС ГПС МЧС России и коррекцию адаптивных сдвигов равновесия костного обмена, обусловленных образом жизни и профессиональной нагрузкой.
Результаты теста ДНК-комет. Описание клинического случая (Антакова Л.Н., Котова Ю.А., Шишкина В.В., Анохина Ю.М., Герасимова О.А., Ким О.Л.)
Антакова Л. Н.1, Котова Ю. А.1, Шишкина В. В.1, Анохина Ю. М.1, Герасимова О. А.1, Ким О. Л.2
1 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж
2 БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 10» Корпус № 6, г. Воронеж
Antakova L. N., Kotova Yu.A., Shishkina V. V., Anokhina Yu.M., Gerasimova O. A., Kim O. L.
RESULTS OF DNA “COMET ASSAY”. CLINICAL CASE REPORT
Метод ДНК-комет – быстрый и чувствительный тест, предназначенный для обнаружения повреждений ДНК.
Цель. Представить анализ теста ДНК-комет с помощью бесплатной программы CometScore, в которой профили «головы» и «хвоста» комет быстро визуализируются с использованием изображений, данные экспортируются в таблицу.
Исследование проводили на базе НИИ экспериментальной биологии и медицины Воронежскогой медицинского университета в рамках НИИ (протокол локального этического комитета № 7 от 19.10.2023). Образец крови исследовали в качестве образца контрольной группы спустя 3 недели после перенесенной COVID-19 инфекции, лабораторно подтвержденной. На момент проведения теста ДНК-комет жалоб не было, общий анализ крови соответствовал норме, индекс массы тела (ИМТ) 24, женщина, 44 года. Анамнез: первые сутки – боль в горле, заложенность носа, температура 37,9 °С градусов, вторые и третьи сутки – субфебрильная температура, слабость, головокружение. Восьмые сутки – заложенность носа, головные боли в лобной области, слабость, головокружение.
Проведение теста ДНК-комет осуществляли по методу https://cyberleninka.ru/article с модификацией. Вместо SYBR Green I применяли окрашивание DAPI (5 мкг/мл PBS; Sigma) в течение 15 секунд, промывали фосфатным буфером. Окрашенные препараты оценивали с использованием флуоресцентного микроскопа ZEISS Axio Imager.А2 с системой документирования изображений, включающей цветную цифровую камеру Camera Axiocam 506 color, а также с использованием программного обеспечения CometScore.
Обнаружено, что интервал изменения «момента хвоста» был больше интервала изменения «момента головы», что соотносится с литературными данными. Средние различия как по «моменту хвоста», так и по «моменту головы» были значительно выше в группе с COVID-19. Для оценки уровня повреждений ДНК использовали параметр %Tail DNA – процент ДНК в хвосте «кометы», который составил 20,166 ± 12,59, что значительно выше литературных данных по здоровому населению.
Заключение. Несмотря на отсутствие клинического проявления постковидного синдрома было обнаружено увеличение % ДНК в хвосте кометы. Фрагментация ДНК может быть основным патологическим механизмом постковидных состояний. Полагают, что фрагментация ДНК возникает вследствие развития оксидативного стресса и атаки молекулы ДНК активными формами кислорода. Параметр %Tail DNA (%TDNA) является одним из надежных показателей оценки степени повреждения ДНК. На основе полученных данных разработаны критерии исключения пациентов, перенесших COVID-19 в запланированные исследования.
Оценка распространенности энтеровирусов, выделенных от детей мигрантов и детей, проживающих на Северо-Западе России (Антоненков К.А.)
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург
Antonenkov K. A.
EVALUATION OF THE INCIDENCE OF ENTEROVIRUS ISOLATED FROM CHILDREN OF MIGRANTS AND CHILDREN LIVING IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA
С 2006 года в Российской Федерации реализуется программа по эпидемиологическому надзору за энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), которая является составляющей частью Программы глобальной ликвидации полиомиелита. ЭВИ носит спорадический характер и примерно в 85% случаев инфицирования не имеет выраженной клинической картины. Вместе с этим энтеровирусы (ЭВ) способны провоцировать развитие тяжелой формы заболевания – энтеровирусного менингита, что требует госпитализации.
Цель: молекулярно-генетическое исследование штаммов неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ) выделенных от детей из семей мигрантов и детей-резидентов Северо-Запада России.
Выделение НПЭВ проводили на культурах клеток RD и Hep-2 в соответствии с Руководством по лабораторным исследованиям полиомиелита ВОЗ. Экстракцию нуклеиновых кислот осуществляли тест-системой «Ампли-Прайм Рибо-Преп» (ФБУН ЦНИИЭ). Типирование ЭВ проводили секвенированием вариабельного участка генома – VP1.
Санкт-Петербургский региональный центр (СПб РЦ) курирует 14 территорий, включая 11 территорий Северо-Западного округа. В период с 2021 по 2023 г. в РЦ были типированы ЭВ, выделенные из 92 проб фекалий. Результаты типирования показали, что у детей мигрантов, прибывших из неблагополучных по полиомиелиту территорий (Дагестан, Таджикистан, Чеченская Республика, Украина) в структуре заболеваемости преобладают Coxsackievirus (Cox) вида В: Cox B4 (8,2%) Cox B5 (14,1%). Также часто выделяются ECHO-вирусы: ECHO 13 (9,4%), ECHO 11 (7%), ECHO 14 (7%), ECHO 6 (10,5%). В то время как у детей, постоянно проживающих на территории Северо-Западного округа, превалируют энтеровирусы вида А: Cox A6 (9%), Cox A2 (2%) и Cox A4 (18%). Стоит отметить, что один ребенок, инфицированный вирусом Cox А2, погиб вследствие острого серозного менингита.
Заключение. Спектр циркулируемых ЭВ у детей мигрантов значительно отличается от такового у детей резидентов. Молекулярный анализ позволяет определить генотип ЭВ, что дает возможность определения эндемичности выделенного вируса и заподозрить занос. Необходим эпидемиологический надзор за энтеровирусной инфекцией для предотвращения вспышек заболеваемости.
Содержание холестерина, липопротеинов низкой плотности и аполипопротеина E в крови больных с острой ишемией нижних конечностей (Арискина О.Б., Пивоварова Л.П., Осипова И.В., Магамедов И.Д., Поцхор-оглы С.Л., Количенко Л.В., Гаджигаева М.Г., Поповская С.Д.)
ГБУ НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург
Ariskina O. B., Pivovarova L. P., Osipova I. V., Magamedov I. D., Potskhor-ogly S.L., Kolichenko L. V., Gadzhigaeva M. G., Popovskaya S. D.
CONTENT OF CHOLESTEROL, LOW DENSITY LIPOPROTEINS AND APOLIPOPROTEIN E IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIA OF THE LOWER LIMB
Одним из биомаркеров метаболизма липидов является аполипопротеин E (АроЕ). Основной функцией ApoE является транспорт липидов между различными клетками и органами. В крови ApoE определяет поглощение остатков хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) печенью.
Цель: изучить содержание АроЕ, липопротеинов низкой плотности и холестерина у пациентов с острой ишемией нижних конечностей.
Пациенты и методы. Были обследованы 71 пациент с острой ишемией нижних конечностей (ОИНК), возраст 70 (64; 83) лет. Объем оперативного вмешательства заключался в выполнении тромбэктомии, по показаниям выполняли ампутацию конечности. В послеоперационном периоде все больные получали антиагрегантную и антикоагулянтую терапию. Группу сравнения составили волонтеры той же возрастной категории – 70 (55; 80) лет. У больных с ОИНК при поступлении на лечение: до операции, после операции, на 3, 5, 7, 10 сутки наблюдения исследовали содержание в крови холестерина и ЛПНП; Cobas 6000 C501) и АроЕ методом ИФА. Для статистической оценки использовали пакет прикладных программ Statistica 6.0, использовали медиану и межквартильный размах, применяли t-критерий Стьюдента и корреляционный анализ Спирмена. Критический уровень значимости p < 0,05.