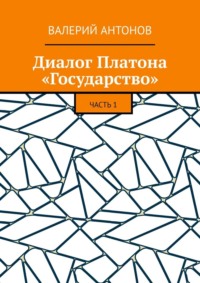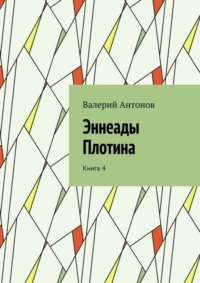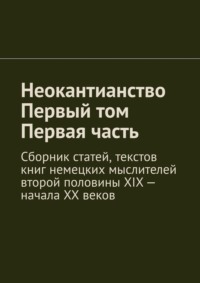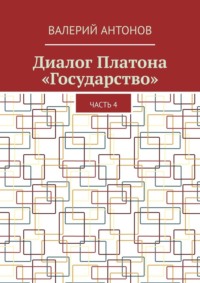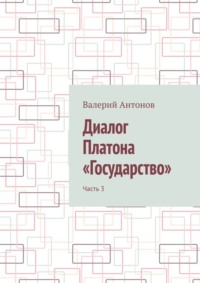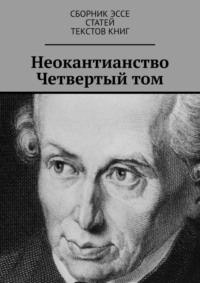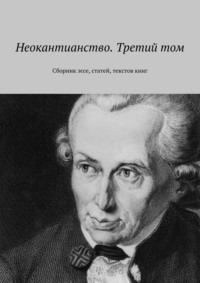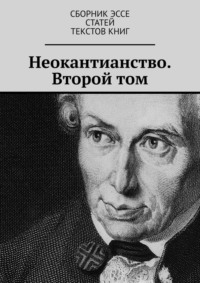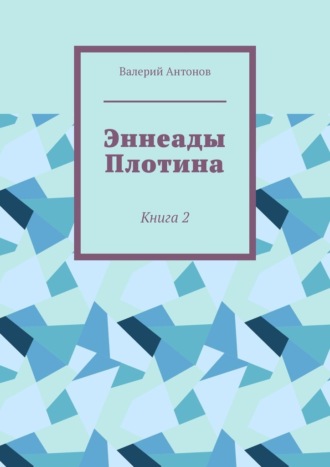
Полная версия
Эннеады Плотина. Книга 2
Так и в наших телах: когда душа движется иначе, например, в радости или при виде блага, тело тоже приходит в движение, даже пространственное. Там же, пребывая в благе и становясь более восприимчивой, душа движется к благу и колеблет тело, как свойственно там, пространственно. Ощущающая сила, получив благо свыше и насладившись своим, устремляется к нему, и, поскольку оно везде, движется повсюду.
Ум же движется так: он пребывает в покое и движется, ибо вокруг себя. Так и вселенная движется по кругу, одновременно пребывая в покое.
Комментарий
Плотин в Эннеаде II.2 (О круговращении) исследует природу кругового движения, связывая его с метафизическими принципами подражания Уму (νοῦς) и динамикой души. Этот трактат получил развернутые интерпретации у философов разных эпох. Прокл в Комментарии к «Тимею» (II.8.12) развивает идею Плотина, утверждая, что круговое движение – символ вечности, в отличие от прямолинейного, свойственного изменчивому миру: «Круг, не имеющий начала ни конца, есть образ вечности, тогда как линия, устремленная вперед, подражает времени». Гегель в Лекциях по истории философии (т. 2) подчеркивает диалектический аспект: «Плотин возвышает физическое движение до уровня метафизического символа, где круговорот есть выражение абсолютной саморефлексии Духа». Вопрос о том, принадлежит ли круговращение душе или телу, Плотин решает в пользу души, что расходится с аристотелевской традицией (О небе, II.3), где эфирным телам приписывается естественное круговое движение. Шеллинг в Философии мифологии (II.1.2) видит здесь противоречие: «Душа, стремящаяся к покою в Уме, вынуждена двигать тело, что создает диалектику активности и созерцания».
Николай Кузанский в Об ученом незнании (II.9) интерпретирует плотиновский «центр» как теологический образ: «Бог есть центр вселенной, но центр, который везде, а окружность нигде». Лейбниц (Монадология, §61) развивает эту мысль: «Душа есть живое зеркало вселенной, вращающееся вокруг собственного центра, но отражающее целое». Мейстер Экхарт в Проповедях (6) мистически переосмысляет круговращение: «Как небо вращается вокруг своей оси, так душа должна непрестанно обращаться к Богу, ибо в Нем ее истинное движение и покой».
Фома Аквинский (Сумма теологии, I.70.3) критикует Плотина, отвергая роль мировой души в движении небес: «Движение светил обусловлено интеллигенциями, ибо материальное тело не может быть движимо душой непосредственно». Кант (Всеобщая естественная история, I.1) предлагает компромисс, проводя аналогию с ньютоновской физикой: «Как тяготение правит движением планет, так духовное притяжение души к высшему началу может быть причиной круговращения».
Таким образом, комментаторы подчеркивают два ключевых аспекта:
1. Метафизический – круговое движение как символ вечности и подражание Уму (Прокл, Гегель, Кузанский).
2. Психологический – душа как источник движения, балансирующий между активностью и созерцанием (Шеллинг, Лейбниц, Экхарт).
Критические интерпретации (Аквинат, Кант) либо отвергают, либо трансформируют эти идеи в рамках своих систем.
Трактат 3 О том, влияют ли звёзды
1. О том, что движение звёзд указывает на будущие события для каждого, но не само по себе их производит, как думает большинство, уже было сказано ранее в других местах, и рассуждение привело некоторые доказательства. Но теперь следует сказать об этом точнее и подробнее, ведь немаловажно, придерживаться ли того или иного мнения. Говорят, что блуждающие светила (планеты) не только вызывают все прочее – бедность и богатство, здоровье и болезни, – но также безобразие и красоту, а главное – даже пороки и добродетели, а значит, и поступки, вытекающие из них, в каждый момент времени, словно гневаясь на людей, которые ничем их не обидели, но устроены ими так, как есть. И будто бы они даруют так называемые блага не из-за восхищения теми, кто их получает, но потому, что сами либо страдают из-за положения на орбите, либо наслаждаются, а также потому, что их мысли меняются: когда они находятся в соединении, они одни, а когда расходятся – другие. И самое главное: одни из них считаются злыми, другие – добрыми, но при этом те, кого называют злыми, даруют блага, а те, кого называют добрыми, делают людей дурными. Более того, видя друг друга, они производят одно, а не видя – другое, словно они не сами по себе, а зависят от взгляда: один, увидев другого, становится добрым, а если увидит иного – меняется. И ещё: они действуют по-разному в зависимости от того, под каким углом видят друг друга. В целом же смешение всех даёт нечто иное, как если бы смешение разных жидкостей создавало нечто отличное от составляющих.
Итак, рассматривая эти и подобные мнения, следует разобрать каждое. Начнём с подходящего начала.
2. Считать ли эти движущиеся тела одушевлёнными или неодушевлёнными? Если неодушевлёнными, то они могут давать лишь тепло и холод (если, конечно, некоторые звёзды мы назовём холодными), но тогда их влияние на нашу телесную природу будет объясняться лишь физическим воздействием их движения на нас, так что изменения в телах будут незначительными, ведь излучение от каждого из них одинаково, и всё смешивается в единое на Земле. Различия же возникают только из-за местоположения – близости или удалённости, а также из-за разницы в излучении тепла и холода.
Но как тогда объяснить мудрых и невежд, грамотных и ораторов, кифаристов и прочих мастеров, а также богатых и бедных? И как быть со всем остальным, что не имеет причины в смешении телесных элементов? Например, почему один становится таким-то братом, отцом, сыном или женой, или сейчас удачлив, или становится полководцем, или царём?
Если же они одушевлённые и действуют по выбору, то почему они добровольно причиняют нам зло, будучи помещёнными в божественное место и сами будучи божественными? Ведь то, что делает людей дурными, к ним не относится, да и вообще для них нет ни добра, ни зла в наших страданиях или наслаждениях.
3. Но, возможно, они делают это не по своей воле, а вынужденно – из-за местоположения и конфигурации. Однако если они вынуждены, то, находясь в одинаковых положениях и конфигурациях, все должны производить одно и то же. Но почему же тогда один и тот же участок зодиакального круга, проходя в разных местах, оказывает разное влияние? Ведь он не действует в самом знаке зодиака, а гораздо ниже, и его эффект зависит от того, где именно на небе он находится.
Смешно предполагать, что в зависимости от каждого своего проявления светило становится другим и даёт иное: восходя, оно одно, в соединении – другое, а в противостоянии – третье. Ведь оно не может радоваться в соединении, а в противостоянии – печалиться или бездействовать, или гневаться при восходе, а успокаиваться при заходе, или же одно из них становиться лучше при заходе. Ведь каждое из них всегда одновременно находится в соединении с одними и в противостоянии с другими. И уж конечно, оно не может одновременно радоваться, печалиться, гневаться и успокаиваться.
А утверждать, что одни из них радуются при заходе, а другие – при восходе, разве не нелепо? Ведь тогда выходит, что они одновременно и радуются, и печалятся. Да и почему их печаль должна вредить нам? Вообще, им нельзя приписывать ни печаль, ни даже временную радость: они всегда сохраняют благосклонность, радуясь тем благам, которые имеют, и тому, что видят. Ведь жизнь каждого из них сосредоточена на себе, и благо каждого – в его собственной деятельности, а не в отношении к нам. Особенно это касается существ, которые не связаны с нами по сути, а лишь случайно, не как с главной целью. Да и вообще их деятельность не направлена на нас, как если бы птицы предсказывали будущее лишь попутно.
4. И ещё нелепость: одно светило, видя другое, радуется, а видя третье – наоборот. Какая у них может быть вражда и из-за чего? Почему в тригональном аспекте они действуют иначе, чем в оппозиции или квадрате? Почему, находясь в одной конфигурации, они видят друг друга, а в следующем знаке, будучи ближе, не видят?
И вообще, каков механизм того, что они якобы производят? Как каждый в отдельности, а затем все вместе создают нечто иное из общего? Ведь они не договариваются между собой, чтобы так влиять на нас, не мешают друг другу силой, не уступают по убеждению. А если одно радуется, находясь в доме другого, а другое, наоборот, – как это не похоже на то, как если бы кто-то предположил, что двое любят друг друга, а потом сказал, что один любит другого, а тот, наоборот, ненавидит?
5. Говорят, что некоторые из них холодные, и, удаляясь от нас, они становятся для нас благом, поскольку их зло (холод) не достигает нас. Но тогда в противоположных знаках они должны быть для нас благом. А когда холодное противостоит горячему, оба становятся опасными, хотя должно быть смешение. И одно радуется дню, становясь благом от тепла, а другое – ночи, будучи огненным, словно для них не всегда день (то есть свет), или же одно из них не захватывается ночью, находясь высоко над земной тенью.
А Луна, будучи полной и яркой, благоприятна при соединении с одним, а ущербная – вредна, хотя должно быть наоборот, если уж так рассуждать. Ведь когда она полная для нас, для того, кто выше, она не освещает другую половину, а когда ущербная для нас, для того она яркая. Так что ущербная должна бы вредить ему, ведь он видит её в свете. Для самой Луны, конечно, нет разницы, ведь она всегда наполовину освещена. Но для того, возможно, есть разница в нагреве, как говорят. Но нагревалась бы она, если бы для нас была неосвещённой? А если для другого она блага в неосвещённости, то для него она полная. Разве это не признаки аналогии?
6. А если считать, что Арес или Афродита в определённом положении вызывают прелюбодеяния, словно они насытились человеческой распущенностью в том, что им нужно друг от друга, разве это не крайне нелепо? И если их взаимное созерцание в таком положении приятно для них, но не имеет предела, как это можно принять?
А если они дают славу, богатство, бедность, распутство бесчисленным миллионам существ и сами совершают все их действия, то что это за жизнь у них? И как возможно столько делать? А если они ждут восхождения знаков и тогда действуют, и для каждого восхождения в определённых долях есть столько-то лет, и они словно на пальцах рассчитывают, когда произведут эффект, но не могут до этих сроков – разве это не значит лишать главенства в управлении единого, от которого всё зависит, и отдавать всё им, словно нет верховного, от которого всё исходит, дающего каждому по природе завершать своё и действовать согласно своему порядку, согласованному с ним? Это значит разрушать и не понимать природу мира, имеющего начало и первопричину, простирающуюся на всё.
7. Но если они указывают на будущее, как мы говорим, и многое другое также предвещает грядущее, то что тогда является действующей причиной? И какова последовательность? Ведь знамения не могли бы указывать упорядоченно, если бы события не происходили закономерно.
Допустим, они – как буквы, постоянно пишущиеся или уже написанные и движущиеся на небе, совершающие иное дело, но за ними следует их значение, как если бы в едином живом существе от одного начала в одной части можно было узнать одно, а в другой – другое. Ведь и характер можно узнать, взглянув в глаза или на другую часть тела, а также опасности и спасения. И те части – части, и мы – части; одни указывают на другие. Всё полно знаков, и мудрый тот, кто научился читать одно по другому. Многое уже стало привычным и известно всем.
Так в чём же единый порядок? Так же разумно и с птицами, и другими животными, от которых мы получаем знамения. Всё должно быть взаимосвязано, и не только в одном из частных случаев (как единое дыхание), но гораздо более и прежде всего – во вселенной, и единое начало создаёт единое великое живое существо из всех, и как в каждом живом существе части выполняют каждая свою функцию, так и во вселенной каждая часть имеет свои действия, и даже больше, ведь они не только части, но и целые, и большие.
Каждая часть исходит от единого, совершая своё, но взаимодействует с другими, ибо не отделена от целого. Она и действует, и страдает от других, и к ней приходит иное, причиняя страдание или связывая. Но исходит она не случайно и не как попало, ибо из этого следует другое, а за ним – следующее по природе.
8. И душа, стремясь выполнять своё дело (ведь душа всё делает, имея в себе принцип разума), даже если идёт прямо или отклоняется, следует за происходящим во вселенной по справедливости, если только не будет разрушена. Но целое всегда сохраняет порядок силой правящего начала.
И звёзды, как немалые части неба, содействуют целому и предназначены для указания. Они указывают на всё в чувственном мире, но производят иное, что явно делают. Мы же, пока не заблудились в множественности мира, действуем согласно природе души; заблудившись, несём наказание – и само заблуждение, и последующую участь в худшей доле.
Богатства и бедности – это стечение внешних обстоятельств. А добродетели и пороки? Добродетели – от изначальной природы души, пороки – от её встречи с внешним. Но об этом уже сказано в других местах.
9. Теперь, вспомнив веретено, которое древние Мойры прядут, а у Платона веретено – это блуждающее и неподвижное вращение, и Мойры с Ананке-матерью вращают его и, пряду, вводят каждое рождающееся в бытие через него.
В «Тимее» бог-творец даёт начало души, а движущиеся боги – страшные и необходимые страсти: гнев, желания, удовольствия и страдания, а также иной вид души, от которого эти страсти. Эти рассуждения связывают нас со звёздами, получающими от них душу и подчиняющимися необходимости при нисхождении сюда. И нравы, а значит, поступки и страдания, происходят от них, согласно склонности страдательной природы.
Так что же остаётся нам? То, что мы есть по истине, – то, чему природа дала власть над страстями. И даже среди этих зол, связанных с телом, бог дал не подчинённую добродетель. Ведь добродетель нужна не в покое, а когда есть опасность оказаться во зле без неё.
Потому нужно бежать отсюда, отделяясь от привнесённого, и не быть сложным телом, одушевлённым, где природа тела, получив след души, господствует, так что общая жизнь больше принадлежит телу. Всё телесное – от неё. Другая же душа, устремлённая ввысь, к прекрасному и божественному, не подчинена ничему, а лишь пользуется, чтобы быть там и жить согласно этому, отступив. Или, лишённая этой души, живёт по судьбе, и тогда звёзды не только указывают ему, но он сам становится как бы частью и следует целому, частью которого является.
Ибо каждый двойствен: один – как некое соединение, другой – как он сам. И весь мир двойствен: один – как состоящий из тела и некой души, связанной с телом, другой – как душа всего, не в теле, но освещающая следы в телесной душе. И Солнце, и другие светила также двойственны. И чистой душе они не дают ничего дурного, но то, что происходит от них во всё целое, как части вселенной, будучи телом и одушевлённым, тело даёт телу по выбору звезды и её истинной души, устремлённой к лучшему.
Остальное следует за ним, вернее, не за ним, а за тем, что вокруг, как тепло от огня идёт во всё, или как от одной души к другой, родственной. А трудности – из-за смешения. Ибо природа этого мира смешанная, и если отделить отделимую душу, останется нечто невеликое. Бог – с ней, а остальное – великий демон, говорит он, и страсти в нём – демонические.
10. Если так, то следует признать их указания, но не обязательно их действия, во всяком случае, не полностью, а лишь то, что относится к страданиям целого и к их остаточному влиянию.
И душе до прихода в рождение следует признать принесение чего-то от себя, ибо она не пришла бы в тело, не имея большой склонности к страданию. И следует признать, что судьбы приходят с ней. И само движение содействует и дополняет от себя то, что должно совершить целое, каждое из его частей получив свой порядок.
11. Надо помнить и то, что исходящее от них приходит к принимающим не таким, каким было у них. Например, если огонь, то тусклый; если дружелюбное расположение, то, ослабев в принимающем, создаёт не очень хорошую дружбу; гнев не в меру может сделать не мужественным, а вспыльчивым или малодушным; стремление к почёту в любви, связанное с прекрасным, создаёт влечение к мнимым красотам; а истечение ума – лукавство, ибо лукавство хочет быть умом, но не может достичь желаемого.
Так что каждое из этих зол возникает в нас, хотя там их нет. Да и пришедшее, хотя и не то же самое, не остаётся таким, каким пришло, смешиваясь с телами, материей и друг с другом.
12. И приходящее соединяется в одно, и каждое из происходящего получает нечто из этой смеси, так что становится тем, что есть, и таким-то.
Ведь не коня создаёт, но даёт что-то коню, ибо конь – от коня, а человек – от человека. Солнце же содействует формированию, но человек происходит от логоса человека.
Но внешнее иногда вредит или помогает. Как отец, но чаще к лучшему, а иногда к худшему. Однако не выводит за пределы подлежащего. Иногда материя преобладает, а не природа, так что форма не может полностью осуществиться.
[А то, что Луна не освещена для нас в сторону земли, не вредит тому, кто выше. И без её помощи тому, кто далеко, кажется хуже; когда же она полна, её хватает для нижнего, даже если тот далеко. А для огненного она кажется благой, будучи неосвещённой для нас, ибо его более огненная природа компенсирует её. А исходящее от них – тела одушевлённых, одни более, другие менее тёплые, но не холодные, что подтверждается их местоположением.
Зевса, которого называют, – умеренно огненного; и Эос такова; потому они согласны по подобию. А к так называемому Пылающему – по смешению, а к Кроносу – враждебно из-за удалённости. Гермес же безразличен ко всем, как кажется, уподобляясь. Все же содействуют целому, и друг к другу так, как полезно целому, как в одном живом существе части соотносятся.
Ради этого, например, желчь полезна и целому, и ближайшему: она и гнев пробуждает, и не даёт наглеть. И в совершенном целом должно быть нечто подобное и нечто устремлённое к удовольствию; а глаза – чтобы видеть; и всё сочувствует их неразумной части, ибо так едино и гармонично.]
13. Итак, раз одно происходит от движения, а другое нет, надо различать и говорить, откуда что вообще.
Начало вот какое: всё это управляется душой согласно разуму, как и в каждом живом существе есть начало, от которого все его части формируются и согласуются с целым, частью которого являются. В целом все части есть, а в частях – лишь столько, сколько есть каждая.
Внешнее приходящее иногда против воли природы, иногда – способствует. Но целое, как состоящее из частей, всё упорядочивает, получив природу, какую имеет, и дополняет своим стремлением жизнь всего.
Неодушевлённые в нём – как орудия, движимые извне. Одушевлённые же одни движутся неопределённо, как кони под колесницей, пока возничий не направит их, ибо их движут ударами. Природа же разумного существа имеет возничего в себе. И если он знающий, идёт прямо, если нет – часто как попало.
Но оба – внутри целого и содействуют ему. Одни, более значительные, делают много великого и способствуют жизни целого, имея больше способности действовать, чем страдать. Другие постоянно страдают, имея мало силы действовать. Третьи – между ними: страдают от других, но и многое делают, имея от себя начало действий.
И всё целое – полная жизнь, где лучшее действует наилучшим, насколько лучшее есть в каждом. И это надо согласовать с правящим, как воинов с полководцем, которые, как говорят, следуют за Зевсом, устремляясь к умопостигаемой природе.
А менее совершенные по природе – второстепенны для целого, как в нас второстепенны части души. Остальное – соответственно частям в нас, ибо и в нас не всё равно.
Все живые существа – по разуму целого, и все небесные, и прочие, разделённые в целом, и ни одна часть, даже большая, не может изменить логосы или то, что произошло по логосам.
Но может вызвать изменение в обе стороны – к худшему или лучшему, но не вывести из собственной природы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.