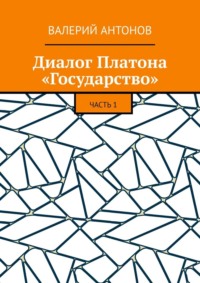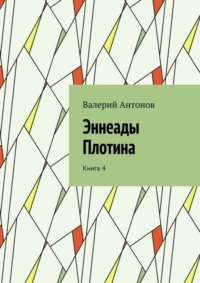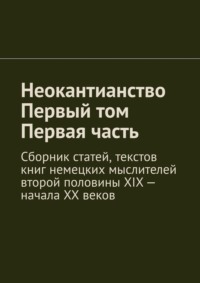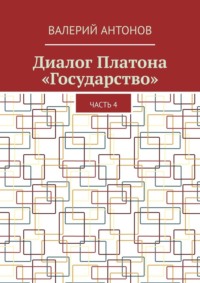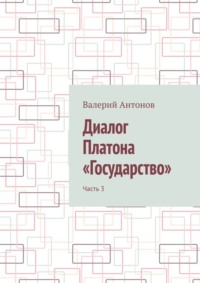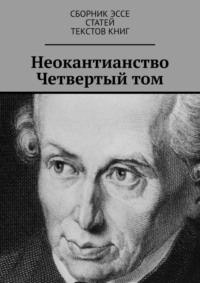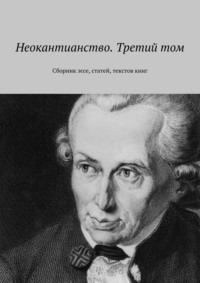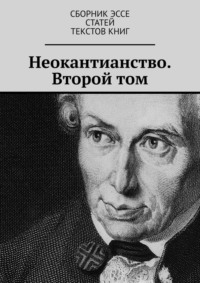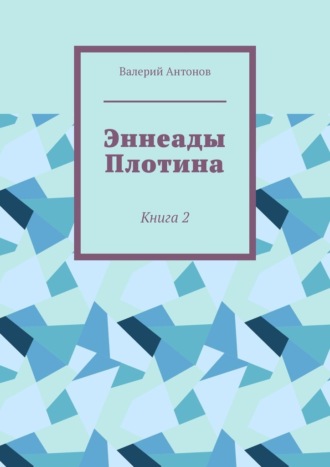
Полная версия
Эннеады Плотина. Книга 2

Эннеады Плотина
Книга 2
Валерий Антонов
© Валерий Антонов, 2025
ISBN 978-5-0067-4998-6 (т. 2)
ISBN 978-5-0067-1828-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Обзор второй Эннеады Плотина
Вторая Эннеада Плотина (204—270 гг. н. э.), основателя неоплатонизма, состоит из девяти трактатов, посвящённых преимущественно космологии, физическому миру, природе материи, судьбе и провидению. Ниже представлено краткое содержание каждого трактата:
1. О мире (Περὶ κόσμου) – Энн. II.1 (40)
Плотин обсуждает природу чувственного мира, его вечность и связь с умопостигаемым миром. Он утверждает, что космос не возник во времени, а существует вечно благодаря непрерывному воздействию высших принципов.
2. О движении неба (Περὶ τῆς κυκλοφορίας) – Энн. II.2 (14)
Рассматривается вопрос о движении небесных тел. Плотин объясняет, что небо движется благодаря своей разумной природе, стремясь к Единому, а не по механическим законам.
3. О влиянии звёзд (Περὶ τῶν ἀστέρων) – Энн. II.3 (52)
Здесь исследуется вопрос астрологии: Плотин отрицает, что звёзды определяют человеческую судьбу, но признаёт их как знаки высшего порядка.
4. О материи (Περὶ ὕλης) – Энн. II.4 (12)
Анализируется природа материи как небытия, лишённого формы. Материя – это чистая потенциальность, источник зла, поскольку она удалена от Единого.
5. О потенциальном и актуальном (Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας) – Энн. II.5 (25)
Плотин различает потенциальное (δύναμις) и актуальное (ἐνέργεια) бытие, связывая их с иерархией сущего.
6. О качествах и форме (Περὶ ποιοτήτων καὶ εἴδους) – Энн. II.6 (17)
Обсуждается природа качеств и их отношение к материи. Качества – не самостоятельные сущности, а проявления форм.
7. О полном смешении (Περὶ τῆς δι» ὅλων κράσεως) – Энн. II.7 (37)
Рассматривается вопрос о смешении элементов: Плотин критикует стоиков и предлагает свою теорию взаимопроникновения тел без потери их сущности.
8. О зрении (Περὶ ὄψεως) – Энн. II.8 (35)
Трактат о природе зрения: Плотин отвергает теорию истечений (как у Эмпедокла) и объясняет зрение как результат взаимодействия света и души.
9. Против гностиков (Πρὸς τοὺς Γνωστικούς) – Энн. II.9 (33)
Резкая критика гностиков, которые, по мнению Плотина, искажают учение Платона, преувеличивая роль зла и отрицая красоту мира.
Трактат 1 О мире
1. Утверждая, что мир всегда был, есть и будет, имея тело, если мы возведем причину к воле Бога, то, во-первых, возможно, скажем истину, но ясности никакой не предоставим. Затем, изменение элементов и гибель земных существ, сохраняющих вид, не означает ли, что и во всем мире происходит то же самое, поскольку воля способна на это, при вечно ускользающем и текучем теле накладывать один и тот же вид на разные субстраты, так что сохраняется не единое числом навеки, но единое по виду? Ибо почему одни вещи так сохраняют вечность лишь по виду, а небесные тела и само небо – по числу? Если же причиной неразрушимости мы назовем то, что мир все объемлет и некуда ему изменяться, и ничто внешнее не может его разрушить, то по этому рассуждению мы припишем неразрушимость целому и всему, но солнце и прочие звезды, будучи частями, а не целым и не всем, не получат от этого довода уверенности, что пребудут во все времена, а лишь по виду; так же, как огню и подобному, и даже всему миру. Ибо ничто не мешает, не разрушаясь извне, разрушаться изнутри, от взаимного уничтожения частей, всегда пребывая лишь по виду, и при вечно текучей природе субстрата, когда вид дает иное, происходить тому же в целом живом существе, что и в человеке, лошади и прочих: всегда есть человек и лошадь, но не тот же самый. Тогда не будет так, что одно вечно пребывает, как небо, а другое, земное, гибнет, но все одинаково, различаясь лишь временем; пусть небесное долговечнее. Если мы так допустим вечность целого и частей, то меньше затруднений будет для мнения; более того, мы вовсе избежим затруднений, если покажем, что воля Бога достаточна, чтобы и таким образом удерживать все. Но если скажем, что и по числу нечто в нем вечно, то надо показать, достаточна ли воля для этого, и затруднение остается: почему одно так, а другое иначе, лишь по виду, и как части неба, раз уж и они таковы.
2. Если примем это мнение и скажем, что небо и все в нем вечно числом, а подлунное – по виду, надо показать, как тело, будучи текучим, может числом оставаться тем же самым, как индивидуальное и неизменное. Ибо это кажется и другим физикам, и самому Платону, не только прочим телам, но и небесным. Как же, говорит он, тела, будучи видимыми, могут пребывать неизменными и одинаковыми? Соглашаясь, видимо, с Гераклитом, который сказал, что и солнце всегда становится. Для Аристотеля не было бы проблемы, если принять его гипотезу о пятом теле. Но для тех, кто этого не допускает, а считает небо из тех же элементов, что и земные существа, как же оно может быть числом одним? И более того: как солнце и прочие части неба? Поскольку всякое живое существо состоит из души и телесной природы, то небо, если вечно числом, должно быть таковым либо благодаря обоим, либо одному из них, например, душе или телу. Кто приписывает нетленность телу, тот не нуждается для этого в душе, кроме как для вечного состава живого. А кто говорит, что тело само по себе разрушимо, а причину приписывает душе, тот должен показать, что и состояние тела не противодействует составу и пребыванию, что нет ничего несообразного в естественно составленном, но материя соответствует воле создателя.
3. Как же материя и тело мира, вечно текучие, способствуют его бессмертию? Скажем: они текут внутри него, не выходя. Если внутри, а не из него, то, оставаясь тем же, оно не растет и не убывает; стало быть, и не стареет. Видим же, что земля всегда сохраняет форму и объем извечно, и воздух не иссякает, и природа воды; и их изменения не меняют природу целого живого существа. И у нас, хотя части меняются и уходят вовне, каждый остается долго; а там, где нет внешнего ухода, природа тела не противодействует душе в том, чтобы живое существо оставалось тем же и вечным. Огонь быстр и скор в движении, как земля – в стремлении вниз; но, оказавшись там, где должен стоять, не следует думать, что он в своем месте так же стремится к покою, как и прочее. Ввысь он не пойдет, ибо там ничего нет; вниз же ему не свойственно. Остается ему быть легко ведомым и по естественному влечению притягиваться душой к жизни, прекрасно движимым в своем месте. И если кто боится падения, пусть успокоится: душа охватывает всякое движение, удерживая властью. А если нет стремления вниз от себя, то он и не сопротивляется. Наши части, приняв форму, не держатся сами, требуя части от других, чтобы оставаться; если оттуда ничего не уходит, не нужно и питания. А если уходит, угасая, то нужен новый огонь, и если что-то еще уходит, нужно заменять. Но от этого целое живое существо не перестает быть тем же, даже так.
4. Но само по себе, независимо от вопроса, надо рассмотреть, уходит ли что оттуда, так что и там нужно питание, хоть и не в прямом смысле, или раз положенное там по природе пребывает без утрат; и больше ли там огня или иного, и прочее поддерживается силой властвующего. Если добавить главную причину – душу, с такими чистыми и во всем лучшими телами (ибо и в прочих живых существах природа выбирает лучшее для их главных частей), то мнение о бессмертии неба укрепится. И Аристотель верно говорит, что пламя – кипение и огонь, буйствующий от избытка; а там ровный и спокойный, подходящий природе звезд. Главное же – душа, следующая за лучшими, движимая чудесной силой: как уйдет что из раз положенного в ней? Думать, что есть узы крепче божественных, – признак неведения причин, связующих все. Ибо нелепо, чтобы то, что может держать сколько-то времени, не могло всегда, как если бы связь была насильственной, а не естественной, что в природе всего и в правильно устроенном, или будто есть сила, что разрушит состав и упразднит природу души. А то, что никогда не начиналось (ибо нелепо, как уже сказано), дает веру и на будущее. Ибо почему будет когда-то, чего нет теперь? Ведь элементы не изнашиваются, как дерево и прочее; а пока они пребывают, пребывает и все. И если всегда изменяется, то все пребывает; ибо пребывает причина изменения. А что душа передумает – пустое, ибо управление без труда и вреда; и если всякое тело может погибнуть, для нее это не будет переменой.
5. Как же там части пребывают, а здесь элементы и живые существа – нет? Платон говорит: те созданы Богом, а земные – богами, созданными Им; а созданное Им непозволительно разрушать. Это то же, что сказать: небесная душа близка творцу, и наши тоже; а от небесной души, как отражение, исходит и творит земные существа. Итак, душа, подражая тамошней, но не могущая из-за худших тел и места и взятых для состава нежелающих пребывать, не может удержать здешние существа, как и тела, ибо ими правит иная душа. А целое небо, если должно пребывать, то и его части, звезды, должны; иначе как же оно пребудет? А поднебесное – уже не части неба; или небо не до луны. Мы же, созданные душой, данной богами неба и самим небом по их образцу, соединены с телами; иная душа, которой мы суть, – причина благого, а не бытия. Уже при возникновении тела она немного помогает ему быть по расчету.
6. Но теперь рассмотрим, есть ли там только огонь, и если уходит, нуждается ли в питании. Тимей, создав тело мира сначала из земли и огня, чтобы оно было видимо от огня и твердо от земли, счел нужным и звезды создать не целиком, но большей частью из огня, ибо они кажутся твердыми. И, возможно, Платон, согласуя мнение с правдоподобием, правильно добавил. Ибо по чувствам, зрению и осязанию, они кажутся больше или целиком огненными; но по рассуждению, если твердость без земли невозможна, то и ее имеют. А зачем вода и воздух? Ибо нелепо, чтобы в таком огне была вода, а воздух, будь он там, превратился бы в огонь. Но если два твердых крайних нуждаются в двух средних, то можно спросить, так ли в природе; ибо землю можно смешать с водой без среднего. Если скажем: в земле и воде уже есть прочее, то, может, и верно; но кто-то скажет: но не для связи двух. Но скажем: они уже связаны, имея все в каждом. Но надо рассмотреть, видима ли земля без огня, и тверд ли огонь без земли; ибо тогда, может, ничто не имеет своей сути само по себе, но все смешано, и называется по преобладающему. Говорят, и земля без влаги не может состояться; ибо вода склеивает землю. Но если и допустим это, все же нелепо говорить, что ничто не стоит само по себе, но лишь с другим, когда каждое – ничто. Как может быть природа земли и ее суть, если нет частицы земли, которая была бы землей, без воды? Что склеит, если нет величины, что соединится с другой? Если есть какая-то величина земли, то земля может быть и без воды; а если нет, то и склеивать нечего. А воздух зачем земле, чтобы быть воздухом, пока не изменится? Об огне не сказано, чтобы он был землей, но чтобы она и прочее были видимы; разумно допустить, что видимость от света. Ибо тьма не видима, а невидима, как тишина не слышна. Но огня в ней не надо; света хватит. Снег и много холодного блестит без огня. Но, скажут, он был и окрасил перед уходом. И о воде вопрос: есть ли она без земли? А воздух, как может он, хрупкий, содержать землю? А огонь, если ему нужно от земли непрерывное, чего у него нет, и протяженность в трех направлениях. А твердость его, не по трехмерности, а по сопротивлению, почему не может быть, раз оно природное тело? Твердость же только у земли. Ибо и золото, будучи водой, уплотняется без земли, от сжатия или замерзания. И огонь сам по себе, при душе, почему не устроится по ее силе? И есть огненные демоны. Но скажем, все живое состоит из всего. Или скажут: земные – да, но поднимать землю в небо противно природе и установленному; и быстрое вращение не понесет земляные тела, они помешают и блеску тамошнего огня.
7. Лучше послушаем Платона, говорящего, что во всем мире должно быть твердое, сопротивляющееся, чтобы земля, стоя в середине, была опорой для стоящих на ней, и земные существа имели такую твердь, а земля была непрерывна сама по себе, освещаема огнем, имела воду против иссушения, и части не мешали соединению; воздух же облегчал земные массы; но в состав звезд земля не входила, а в мире, где все возникло, огонь получил долю земли, как земля – огня, и каждое – от каждого, не так, что участвующее стало из обоих, но по общности в мире, взяв не его самого, но его свойство, например, не воздух, но его мягкость, и земля – блеск огня; смешение же дает все, и совокупное тогда делает не просто землю и огненную природу, твердость и огненность. Сам он свидетельствует, говоря: Бог зажег свет во втором от земли круге, говоря о солнце, и где-то называет солнце ярчайшим и белейшим, отводя от мысли, что оно иное, чем огонь, но не в виде пламени, а свет, который он называет иным, чем пламя, лишь умеренно теплым; и этот свет – тело, а сияние от него, одноименный свет, мы называем бестелесным; он происходит от того света, изливаясь из него, как цвет и блеск его, и есть истинно белое тело. Мы же, беря земное как худшее, а Платон – твердость земли, называем одно различие, а он полагает иное. Такого огня, дающего чистый свет, помещенного в вышине по природе, пламя не должно смешиваться с тамошним, но, дойдя до некоторой точки, гаснуть, встретив больше воздуха, и, поднявшись с землей, не может идти выше, а ниже луны останавливается, делая тамошний воздух тоньше, и пламя, если остается, смягчается, теряя блеск для кипения, но лишь светясь от высшего света; а свет там, разнообразный в звездах, как в размерах, так и в цветах дает различия, а прочее небо – тоже такого света, но не видно от тонкости и прозрачности тела, не сопротивляющегося, как чистый воздух; да и далеко.
8. При таком свете, пребывающем в чистейшем месте, какой может быть уход от него? Ибо такая природа не склонна течь вниз, да и нет там ничего, что толкало бы вниз. Всякое тело с душой иное, чем одно; а тамошнее – не одно. А соседнее, будь то воздух или огонь, что сделает? Воздух – что? Огонь – не совместится для действия, не коснется; ибо стремительностью пройдет мимо, не задев, и слабее здешнего. Да и действие – нагревание; а нагреваемое не должно быть теплым само. Если что-то гибнет от огня, оно сначала нагревается и противоестественно меняется при нагреве. Потому миру не нужно иное тело для пребывания, ни для природного вращения; ибо не показано, что прямолинейное движение для него природно; ему природно либо покоиться, либо вращаться; прочее – насильно. Потому и не нужно тамошнему питания, и не следует судить о нем по здешнему, ибо не та же душа держит его, не то место, не те причины, что здесь, где питание нужно для текучих смесей, и изменение тел здесь идет от них при иной природе, правящей ими, которая от слабости не может удержать их в бытии, но подражает в становлении или рождении предшествующей природе. А что не все одинаково, как умопостигаемое, уже сказано.
Комментарий
Плотин, синтезируя платоновский идеализм с аристотелевской физикой, ставит вопрос о вечности мира через призму божественной воли, души и структуры материи. Его рассуждения нашли отклик у многих философов, от средневековых схоластов до немецких идеалистов.
Когда Плотин говорит, что мир всегда был, есть и будет, поскольку его причина – воля Бога, Августин («О Граде Божием», X) замечает, что хотя воля Бога и является теологическим объяснением, философски требуется более глубокое обоснование: «Бог творит мир не во времени, но вместе с самим временем, и потому вопрос о „вечности мира“ требует различения между временной и вечной природой творения». Фома Аквинский («Сумма теологии», I, q. 19) соглашается, что воля Бога – конечная причина, но подчёркивает необходимость рационального доказательства: «Мир мог быть вечным, если бы так пожелал Творец, но это не доказуемо разумом, а принимается лишь через откровение».
Далее Плотин рассуждает о том, что изменение элементов и гибель отдельных существ не отменяет вечности мира, поскольку форма сохраняется, даже если материя текуча. Аристотель («Физика», IV) утверждает, что «материя вечна, но формы изменчивы, и потому мир как целое пребывает, даже если его части исчезают». Лейбниц («Монадология», §10) развивает эту мысль, говоря, что «субстанции (монады) сохраняют идентичность не через внешнюю форму, а через внутренний закон развития».
Плотин также рассматривает аргумент, что мир неуничтожим, поскольку содержит всё и не имеет внешней причины разрушения. Однако, как замечает Кант («Критика чистого разума», А518/В546), «сама идея вечности мира есть антиномия разума: мир не может быть ни бесконечным, ни конечным в рамках чистого рассудка, ибо оба утверждения ведут к противоречиям».
Если принять, что небесные тела вечны численно, а земные – лишь по виду, то возникает вопрос: как текучее тело сохраняет индивидуальность? Платон («Тимей», 37d) объясняет это причастностью к идеям: «Небесные тела вечны, ибо их природа ближе к умопостигаемому миру». Гегель («Философия природы», §254) видит в этом проявление абсолютной идеи: «Вечность неба есть не что иное, как объективация логической необходимости в материальном мире».
Плотин обращается к аристотелевскому эфиру как возможному объяснению вечности небесных тел, но отмечает, что те, кто его не признаёт (например, Джордано Бруно в труде «О бесконечности, вселенной и мирах»), должны искать иное объяснение. Бруно отвергает эфир, утверждая, что «мир бесконечен и однороден, а потому нет принципиального различия между небом и землёй».
Вопрос о том, как материя, будучи текучей, способствует бессмертию мира, получает оригинальную трактовку у Шеллинга («Философия откровения»), который называет материю «застывшим духом», а у Ницше («Воля к власти», §1062) платоновская вечность трансформируется в идею вечного возвращения: «Мир не имеет начала и конца, но бесконечно повторяется в своих циклах».
Плотин утверждает, что если душа мира происходит от Бога, то она должна удерживать мир вечно. Эту мысль развивает Прокл («Начала теологии», §75), для которого «вечность есть атрибут божественного, и потому мир как эманация Бога не может быть преходящим». Спиноза («Этика», I, p21) отождествляет вечность с существованием Бога: «Всё, что существует, существует в Боге, и потому мир не может быть временным».
Различие между вечными небесными и преходящими земными телами, по Платону, связано с тем, что первые созданы непосредственно Богом, а вторые – через посредников. Фихте («Назначение человека», III) видит в этом «иерархию свободы и необходимости: небо символизирует чистую духовность, а земля – обусловленность материей».
Наконец, вопрос о том, почему земля не поднимается в небо, получает различные объяснения: Демокрит (фр. 68A) связывает это с естественным движением атомов, а Кеплер («Гармония мира», III) – с математическими законами гармонии. Платоновское разделение элементов (огонь – чистый свет, земля – устойчивость) интерпретируется Гёте («Учение о цвете», §739) как «духовный символизм света, который в небесах остаётся нетленным».
Трактат 2 О круговращении
1. Почему движение происходит по кругу? Потому что оно подражает уму. И чье это движение – души или тела? Так что же, душа находится в нем и устремлена к нему? Или она спешит идти? Или пребывает в нем, не будучи непрерывно связана? Или, будучи увлекаема, она увлекает? Но если она увлекает, то уже не должна быть увлекаема, а, напротив, должна остановиться, то есть скорее пребывать в покое, а не вечно вращаться по кругу. Или же и сама она остановится, или, если движется, то уж точно не пространственно. Как же тогда она движется пространственно, если сама движется иным способом? Или, возможно, круговое движение не пространственно, а если и является таковым, то лишь по совпадению. Каково же оно тогда? Это движение внутрь себя, осознающее, мыслящее и жизненное, не направленное вовне и не исходящее извне. И должно ли оно охватывать все? Ведь главное в живом существе – это способность объединять и делать единым. Но оно не сможет охватывать жизненно, если остановится, и не сохранит внутреннее, имея тело, ибо жизнь тела – это движение. Если же движение пространственное, то оно будет двигаться так, как может, и не только как душа, но как одушевленное тело и как живое существо. Таким образом, это движение будет смешанным – из телесного и душевного: тело по природе стремится прямолинейно, душа же удерживает его, и из обоих получается движение, которое и движется, и пребывает.
Но если сказать, что круговое движение принадлежит телу, то как же тогда быть с тем, что все тела, даже огонь, движутся прямолинейно? Прямолинейно они движутся, пока не достигнут места, куда направлены, ибо, куда бы ни были устремлены, там они по природе и пребывают, и движутся к назначенному. Почему же, достигнув, они не останавливаются? Потому ли, что природа огня – в движении? Если бы он не двигался по кругу, то рассеялся бы прямолинейно; значит, он должен вращаться. Но это уже дело промысла – однако промысла, заключенного в нем самом. Поэтому, оказавшись там, он вращается по собственной природе. Или же, стремясь к прямолинейному движению и не находя больше места, он, словно скользя по краю, возвращается в доступные ему пределы, ибо за собой места не оставляет – ведь это крайний предел. Итак, он движется в том, что имеет, и сам для себя является местом – не для того, чтобы пребывать в покое, но чтобы двигаться.
И в круге центр по природе пребывает в покое, а внешняя окружность, если бы остановилась, стала бы большим центром. Поэтому она скорее будет вращаться вокруг центра, и это соответствует природе живого и одушевленного тела. Так оно будет склоняться к центру – не через опускание (ибо потеряет форму круга), а через вращение, поскольку иначе не может. Только так оно удовлетворит свое стремление.
Если же душа приводит его в движение, она не устанет, ибо не тянет его и не действует против природы: природа – это то, что установлено всеобщей душой. Более того, душа, будучи везде целой и нераздельной, дает и небу, насколько это возможно, быть везде. А возможно это потому, что она может все обнимать и проникать повсюду. Если бы она где-то пребывала, то, достигнув того места, остановилась бы. Но теперь, поскольку она везде, она стремится к себе самой повсюду. Что же тогда? Разве она никогда не достигнет? Напротив, она всегда достигает, вернее, сама вечно ведет себя к себе, и в этом вечном ведении вечно движется – не перемещаясь в другое место, а обращаясь к себе в том же самом, не прямолинейно, а по кругу, и так дает телу обладать ею везде, куда бы оно ни пришло. Если же оно остановится, то, словно душа лишь там, где оно пребывает, оно тоже остановится. Поэтому, если душа не только там, но везде, тело будет двигаться повсюду, не выходя вовне, – значит, по кругу.
2. Как же тогда с остальными вещами? Они не цельные, а частичные и ограничены отдельными местами. Небо же цельно и как бы само есть место, и ничто ему не мешает, ибо оно – все. А как же люди? Поскольку они от всего, они – часть, но поскольку сами по себе, они – собственное целое. Если душа везде, где бы ни была, обладает собой, зачем ей двигаться по кругу? Затем, что она не только там. Если же ее сила сосредоточена вокруг центра, то и она будет вращаться. Но центр тела и центр душевной природы – не одно и то же: там – средоточие, откуда исходит остальное, а здесь – пространственный центр тела. Поэтому должно быть соответствие: как там, так и здесь должен быть центр, который единственно является центром тела и сферы. Ибо как то вращается вокруг себя, так и это.
Если же это свойство души, то, обтекая бога, она объемлет его любовью и вокруг него, как может, ибо от него зависит все. Поскольку же она не может быть в нем самом, она – вокруг него. Почему же не все души так? Потому что каждая такова, где находится. Почему же тогда и наши тела не так? Потому что они склонны к прямолинейному движению, устремлены к другому, а наша шарообразная форма не способна к легкому вращению, ибо тяжела. Там же все тонко и подвижно: почему бы чему-либо остановиться, если душа движется? Возможно, и в нас дух, окружающий душу, делает это. Ибо если бог во всем, то душа, желающая быть с ним, должна вращаться вокруг него – ведь не где-то в одном месте.
И Платон дает звездам не только сферическое движение вместе со всем, но и каждому – вокруг их собственного центра, ибо каждое, где бы ни было, объемлет бога и радуется не расчетом, а естественной необходимостью.
3. Можно рассмотреть и так: одна сила души, низшая, начинается от земли и пронизывает все, другая, способная ощущать и воспринимать мнения разума, обращена ввысь и в сферах держится, опираясь на первую и давая от себя силу для более живой деятельности. Итак, она движется по кругу, объемля и утверждая все, что поднялось в сферы. Поскольку та объемлет кругом, она, склоняясь, обращается к ней, а это обращение вращает тело, в котором она заключена. Ибо если хоть малейшая часть в сфере придет в движение, она потрясет то, в чем находится, и движение передастся сфере.