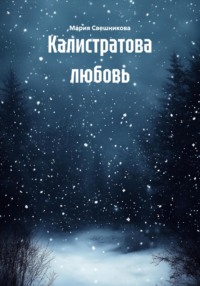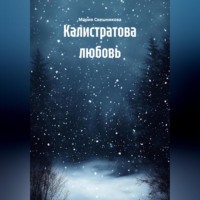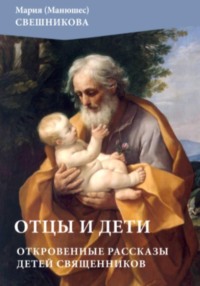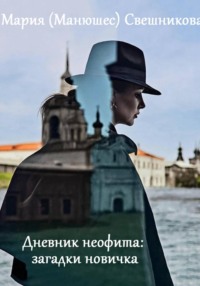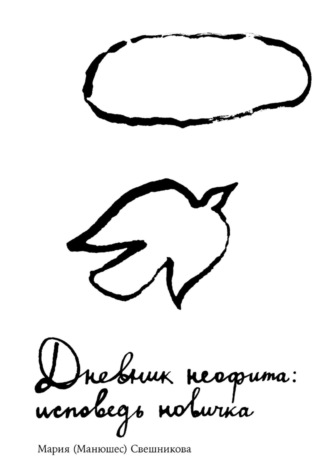
Полная версия
Дневник неофита: исповедь новичка
Гулкие шаги указывали, что женщины приближаются к выходу, то есть ко мне. Проворно отступив в самый темный угол, я притворилась, что только зашла. Не знаю, насколько удачно, но мне показалось, что им было не до рассматривания посторонних.
Вышла следом: мозг взрывался клубами ярости. Хотелось их догнать и обнять и одновременно рвануть внутрь, в церковь, чтобы наорать на бездушную тетку. Но зная за собой чрезмерную вспыльчивость, я заставила себя успокоиться. Настолько, чтобы понять, что этим женщинам не нужны лишние эмоции. Что касается тетки, самое правильное решить, что Бог ей судья. А в эту церковь я больше никогда не зайду.
Резко выдохнув, трясущимися руками достала наушники, мобильник и включила альбом «Беспечный русский бродяга», найдя нужное:
Духовные люди – особые люди, Их сервируют в отдельной посуде. У них другая длина волны, И даже хвост у них с другой стороны. Если прийти к ним с насущным вопросом, Они могут выкурить тебя с папиросом. Ежели ты не прелюбодей,
Лучше не трогай духовных людей.
Прослушав на репите четыре раза, зло рассмеялась: прав БорисБорисыч. Мне захотелось бежать от такой церкви. Вместе с тем я ощутила, что, если уйду с таким настроением, потеряю нечто важное, может, и самое главное в своей жизни. И тогда произойдет что-то такое, что потом не исправить, поэтому мне обязательно нужно докопаться до истины.
*****
Слово «истина» прозвучало в голове гулко, как те шаги по плиткам церкви, будто произнес их чужой голос. Так что я продолжила бродить по местным достопримечательностям. Заодно, наконец, оценила красоту района, в котором мы живем. Стала замечать дома, скверики. Где было открыто, заходила во внутренние дворики ― иногда там было голо и пусто, но порой приключались открытия.
То покато-выпуклая боками церковь, которая, как я прочла, вернувшись домой, строилась как масонская ложа. Немудрено, что она показалась мне чужой. То деревянный дом в старом саду за деревянным же забором. Очень хотелось проверить, открывается ли калитка, но стало неловко: а что делать, если дверь и правда откроется, а там люди? Ушла.
А в переулке на доме стоит печальный рыцарь в доспехах: будто с него Георгий Юдин создавал иллюстрации к книге «Черная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского, которая у меня была в детстве. Стоит высоко на постаменте, и я стала с ним здороваться каждый раз, как прохожу мимо: скучно ему одному.
Вдруг ― встреча: во дворе, открывшемся за невзрачной подворотней, на табуретке, стоявшей у голубятни, с трудом поместился большого объема седой человек.
– Заходите, заходите, ― приветствовал он меня с такими интонациями, будто мы расстались полчаса назад. – Голуби мои разных пород. За тем кустом ослик живет, в пруду лебеди плавают, а в бассейне черепахи живут. Я раньше сам плавал, но перестал помещаться (он засмеялся, похлопав себя по откормленным бокам), поэтому черепах пустил.
А еще в одном дворике стояло разваливающееся белое пианино, росла ива, за которой спрятались мангал и столик с чашками и чайником ― будто кто-то только что встал из-за стола или, наоборот, ждет гостей, готовя угощение. На стене плюшевый ковер с нарисованными животными. Говорят, лет семьдесят назад такие в каждом доме висели.
Что там за звери, я узнать не успела, потому что из маленькой полуподвальной двери показалась человеческая голова. Затем протиснулись ноги и только потом туловище. Когда человек распрямился, разогнув все собранные воедино части, оказалось, что тело узнаваемо ― оно принадлежит тому самому священнику со строгими глазами.
– Иди сюда, Андрюша! У нас тут гостья. ― Оказывается, в кустах стоял человек, которого я поначалу не заметила: с маленькой бородкой, усами, в круглых очках.
– Отец Андрей, – не подавая руки для пожатия, произнес священник.
– Значит, Александром его называть было неправильно, – задумавшись, я сказала первое, что пришло в голову. Руку тоже не протянула, мама научила, что мужчина должен первым проявить себя.
– Имя такое есть. Но если вы говорите не о македонском царе, то не всякого мужчину зовут Александр.
Оказывается, глаза серьезные, а шутить он умеет. Пришлось объяснить, что я уже знаю одного священника, который сказал, что его зовут Александр, так я его и называла. Рассказала заодно и как поздравила его с Пасхой, а он в ответ рассмеялся.
Отец (теперь мне этого обращения не забыть до конца дней) Андрей посмотрел на меня очень внимательно и строго. Но, не выдержав своего серьезного вида, начал хохотать. Кажется, не такой уж он и сердитый, как я поначалу решила. Об этом тоже сказала, упомянув, что хожу по церквям и у него уже была.
– Чего ищешь?
Они со стариком уставились на меня с одинаковым интересом. Помедлив с ответом, я честно призналась, что не знаю. Вроде и ищу чего-то, а вроде бы и нет. И у него уже была.
– Приходи завтра с утра, часам к девяти. Народу в четверг немного ― кто на работе, кто детьми занят, остальные спят еще.
А я-то ждала, что отец Андрей спросит, понравилось ли мне у него, уже и комплимент начала придумывать, поэтому приглашение прозвучало настолько неожиданно, что мне захотелось прийти.
*****
К девяти я опоздала, хотя поначалу все складывалось как нельзя лучше: накануне вечером мы начали эксперимент на работе, результаты которого будут готовы только через сутки. Но утром, собравшись бодро и вовремя, внезапно расхотела идти, одновременно испытывая смутный стыд и раздражение на саму себя, хотя ничего не обещала. А даже если бы обещала ― не под дождем же он у памятника Пушкину стоит.
И все же вынудила себя пойти, опоздав всего-то на полчаса. Но, кажется, дело шло к концу: по крайней мере, хор уже ничего не пел, а мой новый знакомец не выкрикивал из алтаря свой текст, а стоял с крестом перед горсткой людей, что-то им рассказывая. Из предыдущих посещений церкви с Колей и без него я усвоила, что этим действием служба обычно заканчивается.
Встречаться со священником взглядом не хотелось, наоборот, стало неловко. Поэтому, решив не подходить близко, я спряталась за толстую колонну с нарисованными на ней святыми: отец Андрей обладал звучным голосом, хорошо владел мелодекламацией, его и в том закутке было отлично слышно.
А рассказывал он о мужчине, жившем несколько веков назад на озере Селигер. На этих словах я мгновенно потеряла нить повествования, потому что те места люблю с детства: мы с родителями все там изъездили-исходили, в палатках на островах не раз стояли. Кажется, на острове Хачин было внутреннее озеро Белое, где дно видно на любой глубине… Я так разошлась, что уже вспомнила вкус и запах копченого угря. Пришлось усилием воли выдрать себя из воспоминаний.
«Вернулась» я, когда отец Андрей закончил: поздравив всех с днем памяти Нила Столобенского, произнес аминь.
Жаль, что я не слушала. С другой стороны, о Ниле я, может, знаю побольше. Искорками в мозгу начали одна за другой выстреливать картинки. Как бывает, когда в несколько секунд (или всего за одну) будто миллионами разрядов в голове проносится настоящее кино из прошлой жизни. Вот и я вспомнила друга родителей – похожего на доктора Айболита мужчину с лысиной, которую он прикрывал кепкой. Мужчина ходил чуть переваливаясь, но при этом легко и будто весело. О! Владимир Иванович Шуста его звали.
Приезжая в стоящий на берегу озера Селигер городок Осташков, родители всегда заходили к нему, и он угощал нас самым вкусным в мире копченым угрем, а иногда возил по разным островам. Когда на машине, когда на моторной лодке.
Чаще всего мы с ним ходили на лодке на остров с развалинами старинного монастыря – будто это место ему было близко и дорого. Владимир Иванович много рассказывал и об острове, и о монастыре, и о местном святом. Став сиротой, Нил ушел в монастырь, где его сделали монахом. Но там ему не понравилось, а может, народу было много, поэтому он ушел сначала жить возле речки, а потом и оттуда перебрался в совсем дикий лес на острове Столобный на Селигере, где остался почти на тридцать лет. Жил сначала в землянке, потом построил келью и часовню рядом. И спал не в кровати, а стоя опирался на вбитые в стену крюки. Когда Нил умер, его сделали святым (в проповеди отца Андрея я услышала, что правильно говорить ― канонизировали) и на острове построили монастырь в его честь. Позже кто-то придумал крестный ход в день памяти святого водить не вокруг церкви, где хранились его мощи, а оплывать вокруг всего острова.
После революции монастырь закрыли и разрушили, крестный ход запретили, но Владимир Иванович верил, что его обязательно восстановят, и называл Нилова пустынь. Дома у него на стене висела старинная литография с изображением торжественного «обплыва» острова с храмами и монастырскими зданиями на корабликах и всяких маленьких лодочках. В памяти возникла гостиная в его доме, дорожки во всю длину половиц и в красном углу этажерка ― на ней под кружевной салфеточкой стояли иконы, а между ними черная статуэтка с костылями под локтями: Нила Столобенского выстругивали из дерева и красили в черный цвет монашества.
Решив поискать в интернете, что там сейчас, вышла и села на улице под набирающим летнюю силу розовым кустом, усыпанным издающими тонкий аромат бутонами. Солнце сквозь куст пробивалось тонкими лучиками, а небо виднелось голубыми прожилками. Стала набирать в поисковике разные сочетания слов.
Прав был Владимир Иванович, монастырь восстановили и назвали по-правильному – Нилова пустынь. Теперь там жили монахи, туда же перенесли мощи святого, хранившиеся до времени в церкви Осташкова.
Но больше всего меня поразило другое (в конце концов, восстановлением монастыря сегодня никого не удивить). Оказывается, Владимир Иванович был священником. Значит, отцом Владимиром. Священником он стал в 1955 году, сразу был приписан к церкви в Осташкове и более сорока лет служил там, а после перестройки стал добиваться открытия монастыря. И ровно в день официального принятия решения о восстановлении монастыря отец Владимир стал монахом Вассианом (оказывается, монахи меняют имя). Еще через три месяца его назначили начальником этих самых руин. И он получил должность наместника, что бы это ни значило. Там же, в Ниловой пустыни, он и похоронен.
Обогащенная знаниями, задумалась о высоком ― смысле и перипетиях чужой жизни…
– Хорошо, что пришла.
Голос я узнала, так что глаза можно было не открывать. Я снова не угадала его реплику, думала, что он станет ругаться, а он хвалит. Почти заинтриговал.
– Зачем ему это надо было?
– Жить в землянке?
Отец Андрей догадался.
– Ну да. И от людей прятаться. Разве нельзя быть хорошим верующим и молиться в своем городе или в деревне? Зачем уходить куда-то?
– Может, характер у него такой был, он любил одиночество.
Настолько элементарное решение мне в голову не приходило. Наверное, было что-то еще, более высокое и правильное, но знать этого мне не хотелось.
19 июня
Троица мне не понравилась. Сегодня я снова пошла в церковь, причем успела к началу. Отец Андрей в прошлый раз сказал, что будет очень большой праздник. Не как Пасха, потому что она самая главная, поменьше. Но тоже главный. Пришла и сразу вышла, задыхаясь: церковь была вся покрыта травой, по углам стояли березы. Настоящий праздник аллергика.
Решила подождать отца Андрея на лавочке, представляя, как он обрадуется, что я пришла. Свободных не было, так что присела на ту, где было местечко возле группы женщин. Конечно же, начала подслушивать.
– Ты травы не набрала, что ли?
– Нет еще.
– Так беги скорее. Во время чтения Евангелия самое сильное действие. Потом уже не то.
От группки отделилась пара женщин, они стремительно исчезли в храме. Остальные, держа в руках по пучку травы, слушали свою «предводительницу».
– Плести надо, вплетая травинки и листики по кругу.
Женщина в юбке в пол и наглухо обмотанная платком говорила и одновременно так ловко вертела и скручивала травинки, сворачивая их в венок, что оторваться было невозможно: как завороженные мы следили за руками факирши.
– А зачем? ― услышала я свой собственный голос.
Она, видимо привыкшая к этому вопросу, отвечала, не переставая трудиться:
– На Троицу обязательно надо плести венок ― туда заплетается Святой Дух. Веночек дома на стену повесите, и он будет у вас весь год жить, квартиру охранять от нечисти. Так меня научили в Сербии.
– А старый куда девается?
– Кто старый?
Она оторвалась от плетения и смотрела на меня в упор, ожидая ответа: вопрос, конечно, задала я. Тем временем во мне проснулся бывалый боец интернет-сражений, и он совершенно невинным голосом произнес:
– Святой Дух. Которого вы в прошлом году заплели в венок, и в позапрошлый, и поза поза… Получается, что он действует только год, а потом ему пора в утиль, на свалку? Два года подряд он в одном и том же веночке жить не может, ему скучно? Домовенок Кузя в мультике раз и навсегда поселился.
– Не обращай внимания, она тебя троллит. Вот же искушение перед причастием. Идите, женщина, идите, раз не понимаете.
И я пошла, смеясь и удивляясь дремучести христиан и тому, что православие так сильно напоминает мне неоязыческие обряды, которыми я увлекалась подростком.
21 июня
Сегодня я видела небо и солнце. Такое ― впервые, поэтому хочу записать, пусть это и не имеет отношения к религии.
В десять утра воздух не протолкнуть внутрь себя: он стоял плотной душной массой.
Небо слоилось, выстилая пространство облаками, мягко и нежно укутывая землю в ватно-пуховую перину, сквозь дыры которой синели, плескались лужицы небесной лазури.
Порой они грозили упасть, свалиться, и в эти мгновения ужасно хотелось их поддержать руками или хотя бы приклеить скотчем.
А потом пространство неожиданно превратилось в белую медведицу, которая огромными прыжкам мчалась прочь, оставляя за собой маленькие перистые клочки, напоминающие то собачку, то дракончика, а под конец голову улыбающегося чему-то Шляпника. Чтоб наконец раствориться в идеальную синеву.
А над этим сказочно-прекрасным миром, обжигая кожу, солнце огненно улыбалось Равноденствию.
21 сентября
В церковь я больше не ходила. Чего угодно я ждала от нее, но уж точно не шаманства, с которым встретилась на Троицу. Такое я и без христианства регулярно вижу. Например, наша коллега, которая никак не может родить, регулярно в Коломенском сидит на «женском камне», ездила она и в Бурятию к шаману, и в церкви молилась. Но камню почему-то доверяет больше всего. По крайней мере, мне так показалось.
Я нисколько не разозлилась, но прочно разочаровалась в православии. Там и без язычества полно косяков: жутковатые, как во второсортном театре, крикливые парчовые костюмы, на мужчинах украшения дорогие и здоровенные ― такие рэперы носят, внутри помещения почему-то всегда душно и попахивает странно, молитвы зачем-то читают на старинном языке, будто за многие века не нашлось хороших переводчиков. В конце концов просто надоело пробивать головой стену.
Но главное, я так и не нашла ответ, зачем люди возвращаются туда снова и снова. И вообще, что такое церковь? Зачем ее иногда пишут с большой буквы, а иногда с маленькой ― где ошибка? Почему священник ― отец? Зачем вставать на колени или бесконечно креститься? Или, например, недавно прочла у одного френда: «Всякий ревнитель совершенства достигает его через подъятие произвольных и непроизвольных трудов и лишений. Но одни свои произвольные не так благотворны, как находящие извне не по нашей воле». Причем автор поста уверял нас, своих читателей, что это «важная цитата из Паламы». Откуда? И если она такая важная, кто в курсе, что такое «подъятие трудов и лишений» и кто такой «ревнитель совершенства»?
Я ходила по улицам взад и вперед, а у меня возникали и крутились как белка в колесе вопросы. И задать их было некому.
Начала спрашивать Колю, а он принялся отвечать настолько туманно, что я только разозлилась. Спросила Олежку. Он сказал: крестишься, и все поймешь, дескать, извне понять невозможно. Я не то что хочу или не хочу креститься, мне надо знать, зачем люди идут на это, а после их ответов говорить о крещении расхотелось.
Потом мы разъехались в отпуск – кто куда.
Первый раз за долгое время собрались в зале только в середине сентября. И сразу стали обсуждать книгу Раймонда Моуди «Жизнь после жизни: исследование феномена – переживание смерти тела», которую прочли по Колиной рекомендации. Это исследование и описание клинической смерти, которые Моуди назвал околосмертными переживаниями, описав их после разговора с полутора сотнями людей, переживших клиническую смерть. Книга нас увлекла и своей исследовательской базой, и выводами, и мы много говорили о ней.
На днях (как бывало практически каждый раз) спокойный разговор закончился, когда вместо приведения аргументов я начала, закипая, бегать по гостиной и размахивать руками, как крыльями. А уже в следующую минуту в запальчивости проорала: «Мне не нужны научные доказательства существования Бога. Вера на то и вера, чтобы верить, а не научно доказывать». Выкрикнув, настолько удивилась своим словам, практически точь-в-точь повторяющим сказанное массажисткой Мартой, что, нахохлившись, угнездилась с ногами на стуле, уткнувшись лицом в скрещенные руки. Коля и Олег молча вышли.
Утром следующего дня Олег поманил меня к себе. Пошла: обычно он не любил никого звать в свою комнату, предпочитая встречаться на нейтральной или чужой территории. Он явно нервничал: несколько раз сменил дислокацию, выбирая место. В итоге зачем-то забился в узкую щель между окном и комодом, под любимой картиной с усталым путником на столь же усталом, понуром ослике и сказал, что с Пасхи начал ходить в церковь. Что ему нравится разговаривать с отцом Александром, и тот рекомендовал ему переписать Новый Завет от руки, что Олег и делает все свободное время. Иногда нормально, а какие-то куски так трудно идут, что он весь покрывается потом, будто от физического труда. А еще священник назвал наш брак блудом, пусть и с благими намерениями. И сказал, что нам нужно венчаться. Но до того я должна креститься.
– Нет.
Олег стал уговаривать, приводить доводы, некоторые – откровенно манипулятивные. Обычно я прислушиваюсь ко всем советам Олежки, но тут была непреклонна: не стану креститься, пока не найду ответ, зачем мне это надо, даже если допустить, что я верю в Бога, хотя я бы не стала уверенно утверждать этого. А уж венчаться и вовсе не хочу ― это какие-то доисторические предрассудки или слепое следование моде.
– Может, тебе с отцом Александром поговорить?
В этом отказать было неловко, и я уклончиво согласилась на «как-нибудь». Зря. Олег тут же вцепился в данное мной слово и сказал, что 21 сентября ― отличный повод пойти, поскольку это праздник Рождество Богородицы. Красивый и радостный день.
Я попыталась отмазаться тем, что 21-е – это среда, а значит, рабочий день. Вышло неубедительно даже для себя самой. Олег не хуже меня знает, что в среду у нашего коллектива (то есть у нас троих) неофициальный библиотечный день, который мы часто проводили не в библиотеке, на что начальство смотрело сквозь пальцы, учитывая бесконечные неоплачиваемые переработки.
Неосмотрительно дав согласие, я только накануне, то есть вчера вечером, выяснила, что в будни служба на час раньше. Это означало побудку в пять тридцать. На подвиги я точно не подписывалась, поэтому, взяв адрес, пообещала приехать.
*****
В сентябрьское, чуть тронутое желто-красной осенней палитрой утро церковь отца Александра смотрелась куда приветливее, чем в первые ее посещения. Сам он сначала не узнал меня, потом рассмеялся:
– Как поживаете, «И вам того же»?
– «Гарри, все это не очень нормально,
Жизнь как качели – то вира, то майна.
Так что, дружище, биткоины майня,
Не забывай про нас».
Ответила я словами песни Саши Сплина и, заметив, что священник ничего не понял, добавила, что поживаю вполне себе, но хотела бы поговорить.
– Если долго, придется подождать.
Откуда мне было знать сколько. Тем более что у меня и заготовки никакой не было ― сколько ни пыталась что-то придумать, ничего не складывалось, так что, плюнув, решила: как пойдет. Но подождать согласилась.
Ждала-ждала и заснула на лавочке под фикусом размером с хорошее дерево. Со сна я вообще ничего не соображала, поэтому, когда пришел отец Александр, самой себе больше напоминала Ждуна, чем Homo sapiens, так что говорил в основном священник, а я все больше мотала головой в разные стороны, выражая то согласие, то протест.
Первым дело он спросил, готова ли я креститься. Увидев, что голова моя с сомнением покачивается из стороны в сторону, догадался, что не слишком.
– Тогда вы походите в церковь, захочется вам креститься, я покрещу.
Ходить, сказал отец Александр, лучше утром. Оказывается, утром и вечером службы не только по-разному называются, но и разные по смыслу и построению. Мне это ни о чем не говорило, но существенным показалось, что на утренней службе, которую он назвал литургия, большая часть молитв (он называл их какими-то другими словами, которые я не рискну повторить) ― константа и лишь небольшая часть меняется в зависимости от календарного дня и церковного праздника. И мне ужасно понравилось, что он показал в телефоне, как можно следить за литургией, пообещав, что мне никто не сделает замечание, что я «туплю в мобильник».
– Было бы неплохо прочесть книгу «Евхаристия» архимандрита Киприана Керна, ― добавил он под конец. ― Поначалу вам будет казаться, что там «все сложно», есть такой статус в соцсетях, но вы – человек ученый, приноровитесь. Вам должно быть интересно: там разбирается, систематизируется и раскладывается по полочкам структура литургии.
На том и расстались. Радости праздника я не ощутила, скорее напротив, досаду на себя, что забыла спросить: какого лешего он лезет в мою личную жизнь и постель. Придется снова идти.
27 ноября
Название книги я записала. Нашла и даже заказала бумажную. Она так и лежит в пакете доставки нераспечатанной. Несколько раз порывалась открыть, и сразу нестерпимо хотелось гулять: обожаю осенние краски днем, шепот деревьев и звуки домов ночами. В общем, деньги потратила зря.
Тем более что наш дом за последние месяцы превратился в религиозную библиотеку. Мальчики купили несколько Библий и разложили их по квартире так, чтобы они всегда были под рукой. Рядом лежали и стояли многочисленные Отцы Церкви (мне ужасно нравилось это словосочетание, поэтому я запомнила его с лету). Оставшееся свободное пространство заняли религиозные философы разных веков и направлений, толкования, переводы и диски с записями любимых проповедей.
Мой вклад ограничился «Евхаристией» Керна и книгой, которую я скрыла от ребят, чтобы они не подняли меня на смех. Подслушав от них восхищение неким Константином Леонтьевым, стала читать о нем, чтобы выяснить, что в начале прошлого века жил дипломат, философ, публицист и монах Климент, настолько оригинального склада ума, что и при жизни был малоизвестен, и потом нечасто переиздавался. И что однажды он сочинил сказку-притчу «Дитя души» на стыке похождений Ходжи Насреддина и сказок Шахерезады, где одна история перетекает в другую.
Ее-то я и прятала и потихоньку от всех читала, потому что всегда любила народные сказки. А тут автор обещал соединение молдавских и греческих преданий. Начала читать и… не захотела расставаться. Дитя души ― так называют на востоке приемных детей, «не телом рожденное, а душой принятое, по душе признанное, а не по плоти». От этих слов Леонтьева тепло внутри стало. Идеально мой вариант чтива.
А в церковь ходить начала. Каждое воскресенье вместо того, чтобы спать или тупить в сериалы, как на работу иду на литургию. Естественно, ничего не понимаю, но есть у меня такое правило, можно сказать, жизненное кредо: стараться не спрашивать советов, как жить вообще или поступать в заданной ситуации. И если уж я от этого правила отступаю, то слушаю внимательно человека и стараюсь его инструкциям соответствовать. Так что в церкви я бывала часто. Выбрать какую-то конкретную так и не смогла, поэтому ходила «как Бог на душу положит». Но только не к отцу Александру. Я бы и у него побывала, но путь туда больше соответствовал серьезному однодневному паломничеству, чем устоявшемуся выражению «пойти в храм».
Сначала ничего не понимала, даже следя за текстом. Потом появились точки опоры, что ли. Как костыли, они поддерживали меня во время службы. Вот служка (его как-то иначе называют) выходит из алтаря с большой книгой и красиво поют «Святый Боже», значит, скоро будет читаться Евангелие: понять принцип, по которому выбирается отрывок, я пока не пытаюсь.
Следующий маячок ― когда толпа людей выходит из алтаря и просит Бога спасти всех кого ни попадя. Потом что-то поют всем составом, кто есть в церкви (от разнобоя нестройных голосов разобрала только первое слово «Верую» и последнее «Аминь», но поют с таким азартом, что мысленно отметила почитать что-то об этой молитве).