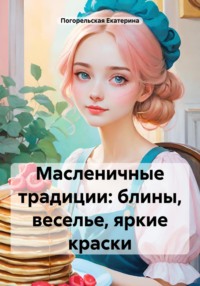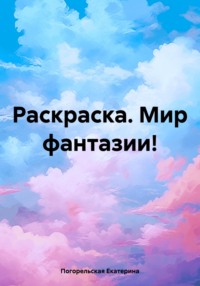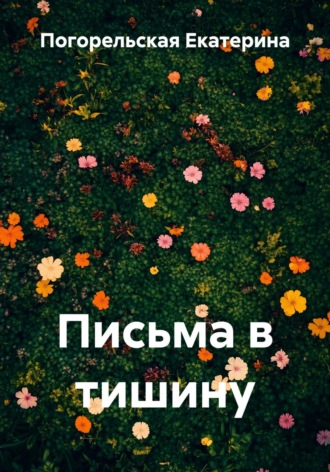
Полная версия
Письма в тишину

Погорельская Екатерина
Письма в тишину
Глава 1. Память в каждом шаге.
Валентина снова проплакала всю ночь.
Слёзы начали подступать ещё с вечера, когда небо за окном медленно темнело, а тени в комнате становились длиннее, будто сама ночь растягивала пальцы, чтобы дотронуться до её сердца. Она не хотела плакать – сколько можно? Сколько ещё можно рыдать в подушку, пока та не станет сырой и холодной, как будто сама пропиталась её болью?
Сначала она просто лежала, не двигаясь, уставившись в потолок. Мысли бились в голове, как птицы в клетке: рваные, бессмысленные, отчаянные. Почему всё так вышло? Где она свернула не туда? Она снова перебирала события последних недель, будто от этого что-то могло измениться. Отчётливо всплывали в памяти взгляды, слова, жесты – каждый словно маленький укол под кожу.
Валя крепко зажмурила глаза, надеясь, что темнота поглотит всё: и боль, и обиду, и воспоминания. Но вместо этого пришли слёзы. Сначала тихо, медленно, как весенний дождь – редкими каплями, что щекочут кожу. А потом – потоком. Захлёбываясь, всхлипывая, она сжалась в комок, обхватив себя руками, будто пытаясь удержать что-то внутри, не дать душе вывалиться наружу.
«Почему я такая слабая?» – пронеслось в сознании. «Почему каждую ночь всё по новой? Разве я не должна быть сильной?» Но эти слова внутри не давали утешения, только усиливали внутренний крик, заглушенный одеялом и сжатыми губами.
Комната вокруг казалась чужой. Всё – мебель, обои, даже фотографии на стенах – казалось, отвернулось от неё, стало безразличным. Сердце билось где-то глубоко в груди, глухо и тяжело как молот.
В какой-то момент она перестала понимать, плачет ли она от грусти или от усталости. Плакать всю ночь – это словно идти по песку босиком, без конца, без цели, пока не сотрёшь ноги в кровь. А потом снова встать утром и делать вид, что ничего не случилось. Надеть лицо. Причесаться. Улыбнуться.
А ночь всё помнит. И подушка всё знает.
И вот снова утро. Глаза опухшие, тело выжато как лимон. Но она встаёт. Потому что надо. Потому что никто не должен знать. Потому что, может быть, однажды слёзы иссякнут. А может, и нет.
Она не верила, что его больше нет.
Эта мысль – чужая, жгущая, как ледяной ожог – никак не укладывалась в голове. Каждый раз, когда она просыпалась, сердце выстреливало в грудной клетке с той же тупой болью:
«Как будто всё это не по-настоящему. Как будто вот сейчас – он зайдёт в комнату, улыбнётся, скажет что-нибудь глупое, и всё станет, как было…» Но проходили минуты, часы, дни – и он не заходил. Никогда больше.
Её мир, который раньше был тёплым, живым, наполненным его голосом, жестами, запахом утреннего кофе и шуршанием страниц, – теперь казался картонным, плоским, будто выцветшей фотографией, оставшейся под солнцем слишком надолго. Всё стало черно-белым. Даже звуки вокруг потеряли глубину. Люди что-то говорили, улица шумела, чайник кипел – но до неё это не доходило.
Она смотрела в окно и не видела ничего, кроме пустоты. Ветра, который гонит пыль по асфальту. Случайной прохожей, что поправляет шарф. Собаки, перебегающей дорогу. Всё это было – но казалось ненастоящим. Ненужным. Неважным.
«Как всё могло так измениться? Как может один человек уйти – и унести с собой весь смысл?» – думала она, уставившись в чашку, в которой давно остыл чай.
Её пальцы лежали на коленях, тонкие, безжизненные, словно чужие. Она даже не замечала, что сжимает ладони так сильно, что ногти впиваются в кожу. Это не больно. Боль теперь жила в другом месте – где-то глубже, за пределами тела.
«Я не готова была тебя отпустить. Не сейчас. Не так. Я ведь даже не успела сказать тебе то главное, что носила в себе столько лет. Ты всегда торопился, а теперь я осталась с этой медленной, вязкой вечностью, без тебя.»
Она обхватила себя руками, как будто это могло согреть. Но тепло не приходило. Её сердце стало заледеневшим, и никто не мог растопить его.
Она не плакала. Плакать – значит выпустить наружу то, что болит. А у неё всё застряло внутри, как чёрная глыба, немая, тяжёлая, неподъёмная.
«Ты обещал быть рядом. Навсегда. А теперь я сижу здесь одна и слышу только своё дыхание. Как мне жить в этом "навсегда" без тебя?»
Время шло. Но для неё оно остановилось.
В комнате было темно. Тьма казалась густой, вязкой, будто её можно было зачерпнуть ладонью. Плотные шторы были плотно задёрнуты, не пропуская ни единого луча утреннего света. Воздух стоял тяжёлый, спертый, наполненный невыносимой тишиной. Всё внутри, и комната, и сама Валентина, застыло в каком-то безвременье, где ни прошлое, ни будущее не имели значения.
Она лежала на кровати, не шевелясь, с открытыми глазами, уставившись в потолок. Глаза жгло – не от слёз, они давно высохли, – а от бессонницы и пустоты. Мысли были вязкими, как грязь, и с трудом пробивались сквозь её сознание.
И вдруг – поворот ключа.
Тихий, еле различимый щелчок, и скрип замка.
Валентина замерла.
Нет – она не удивилась. В глубине души она догадалась сразу. Мама. Конечно, мама. Только она имела ключ. Только она могла приехать вот так, внезапно, как буря, как спасательный круг, который никто не просил.
«Зачем?» – мелькнуло раздражённо. – «Я же сказала, что всё в порядке. Мы говорили. Я не хотела никого видеть. Тем более – её. Тем более – из другого города, через всю страну… Это же не пять минут на автобусе…»
Сердце болезненно сжалось. Её не злило даже само присутствие мамы – злила невозможность сохранить свою скорлупу, это хрупкое убежище из боли и молчания. Мама ворвётся, принесёт с собой свет, запах духов и тревожные взгляды. Будет пытаться говорить. Обнимать. Сочувствовать. Валентина не хотела слов. Не хотела глаз, полных жалости. Не хотела, чтобы кто-то видел её такой – пустой, сломанной, сгоревшей изнутри.
«Почему нельзя просто по телефону… Как всегда? Мы же всегда так. Пять минут, короткий голос, дежурные фразы, и – тишина. Всё под контролем. Безопасно.»
Тяжело вздохнув, она отвернулась к стене. Она не в силах была встретить этот приход лицом. Не готова была вновь стать дочерью. Не готова снова оказаться маленькой, нуждающейся в утешении, когда сама не знала, хочет ли жить завтра.
«Если она заговорит… я не смогу. Если она прикоснётся… я сломаюсь. Почему она не поняла этого?»
Ключ провернулся до конца. Послышался шаг – осторожный, медленный, как будто мама боялась потревожить что-то хрупкое.
И Валентина поняла – она всё-таки придётся столкнуться с реальностью, как бы ни хотела спрятаться.
Мама открыла дверь и включила свет. Резкий электрический свет разрезал темноту, как лезвие, выдернув Валентину из её глухого оцепенения. Она зажмурилась – не столько от света, сколько от вторжения.
– О, боже, Валя… – выдохнула Зинаида Николаевна, застыла на пороге, словно её ударило током. Глаза её метались по комнате, полные невыносимой смеси боли и упрёка.
Пустые бутылки из-под вина и чего-то крепче валялись у дивана, немытая посуда громоздилась в раковине, пропитанная запахом несвежего жира и времени. Мусор был не просто в пакете – он выбрался наружу, как будто пространство не справлялось с внутренним хаосом. Коробки из-под еды, засохшие салфетки, разбросанные вещи – квартира утопала в заброшенности, точно отражая состояние хозяйки.
– У тебя дышать нечем, – сказала она и тут же решительно направилась к окну.
Шторы с лёгким скрипом поддались, и комнату озарил приглушённый дневной свет. Потом хлопнула створка окна, и в комнату ворвался прохладный ветер с запахом пыли, далёкой листвы и жизни.
– Мама… – хрипло проговорила Валентина, поднимаясь на локтях. Голос её был слабым, как будто сама она состояла из пепла.
– Я уже 27 лет мама, – отрезала Зинаида, не оборачиваясь.
Она двигалась по комнате быстро, точно шторм, убирая со стола упаковки, расправляя покрывало на диване, открывая дверь в кухню.
– Зинаида Николаевна… – попыталась с иронией Валя, но голос дрогнул.
– А это ещё дольше, – бросила мать, поднимая носки с пола и кидая их в корзину.
Валентина села, натянув на себя одеяло как щит. Её глаза были пустыми, лицо – бледным. Она говорила тихо, как будто боялась, что громкие слова разбудят что-то внутри, что давно болит:
– Я хочу побыть одна…
– Свежий воздух, – сказала Зинаида, вдыхая полной грудью у раскрытого окна. – Какой кайф. А у тебя тут – будто воздух сдох, прости за выражение.
Валентина опустила взгляд. Она чувствовала, как с каждой минутой эта внешняя активность начинает царапать изнутри. Её маленький, закрытый, мёртвый мир трещал по швам от прикосновений чужой жизни.
– И зачахнуть в четырёх стенах, да? – продолжала мать, отряхивая подоконник. – Превратиться в живую тень?
– Ну и что? – голос Вали задрожал. – Я… не могу жить без него. Понимаешь? Я не умею. Не хочу… не могу.
Зинаида замерла. Посмотрела на дочь. Долго, пристально. Потом медленно, спокойно проговорила:
– Он умер. Год назад.
– Как… как год? – Валентина подняла голову, как будто впервые услышала эту фразу. – Прошёл год?..
Она приложила ладонь к губам, глаза расширились, губы задрожали. – А чувство… как будто вчера… Как будто только что.
Слёзы хлынули внезапно, как дождь в разгар лета. Валентина сжалась, уткнулась в колени, а её плечи затряслись в беззвучном рыдании.
Мама подошла. Села рядом. Осторожно, без слов, обняла, начала гладить по голове, как когда-то в детстве, шепча что-то успокаивающее. Но Валя резко отстранилась.
– Не надо, пожалуйста… – прохрипела она. – Не надо меня жалеть. Это не поможет. Это… его не вернёт.
Зинаида опустила руки. Смотрела на неё, будто в пропасть. В её глазах было всё: усталость, сострадание, страх – но и решимость.
– Твои слёзы тоже не вернут. Но ты же плачешь. Значит, живёшь. А если живёшь – давай хотя бы попробуем.
– Я не хочу…
– А мне нужна помощь! – вдруг резко, неожиданно сказала мама.
Она встала, достала из сумки свежее, аккуратно сложенное платье – синее, в белый цветочек. Такое, как носила Валентина в университете, когда у неё были ещё мечты. Подала.
– Одевайся. Пойдем, прогуляемся. Хоть освежишься, отвлечёшься. Ты нужна мне. Я не справлюсь одна.
Валентина взяла платье, посмотрела на него, как на предмет из чужой жизни. Пальцы её слабо дрожали. Она не знала – то ли из-за тепла, внезапно ворвавшегося в её мёрзлый кокон, то ли от того, что впервые за долгое время почувствовала: кому-то она ещё нужна.
Валя нехотя надела на себя платье.
Пальцы дрожали, когда она разворачивала ткань. Синее, в мелкий белый цветочек – оно пахло чем-то домашним, выстиранным, знакомым… и чужим. Её собственная кожа отдавала холодом, как будто платье касалось не живого тела, а ледяной оболочки.
– Ну давай… – прошептала она самой себе, словно уговаривая, словно надеясь, что голос хоть как-то оживит эту обёртку, в которую она теперь превратилась.
Ткань прохладно скользнула по плечам. Она накинула платье через голову, медленно, будто через сопротивление, как будто каждое движение – предательство её горя. Всё внутри протестовало: не хотелось переодеваться, выходить, «освежиться»… Она не хотела быть красивой. Её не интересовали платья. Мир продолжал вращаться, а её личная орбита рухнула давно.
– Вот, видишь… – сказала мама, наблюдая со стороны и стараясь говорить ободряюще. – Уже другое дело. Словно жизнь в тебе просыпается.
– Не просыпается… – пробормотала Валентина, поправляя ворот. – Просто делаю вид. Для тебя.
Голос был ровным, без эмоций, но в нём слышалась щемящая тоска.
Она подошла к зеркалу. В отражении – бледное лицо, потускневшие глаза, волосы, небрежно собранные в узел. Платье сидело на ней свободно, слишком свободно – за год боль выела из неё плоть, оставив одни углы и тени.
– Ты… стала худее, – осторожно произнесла мама, подойдя ближе. – Но всё равно красивая. Ты – моя девочка.
– Не надо, – Валя отвернулась от зеркала. – Красота не нужна мёртвому сердцу.
Мама молчала. Но в этом молчании было всё: понимание, усталость, нежность и страх. Она видела, как дочь идёт через боль, как по горящим углям, без возможности остановиться.
– Может, хоть причешемся? – предложила она мягко.
Валентина посмотрела на свои волосы, тронула прядь, потом кивнула.
– Если уж в спектакле участвовать – нужно быть в образе, да?
– Не в спектакле. В жизни. В твоей. Которая всё ещё продолжается.
Валя вздохнула.
«Жизнь… Как же странно звучит это слово. Не как обещание, а как обязанность. Как тень, которую надо тащить за собой, пока не научишься дышать без боли.»
Она взяла щётку и медленно провела по волосам, словно разучилась делать это заново. Платье колыхалось при каждом её движении, как будто напоминало: ты не одна. Ты здесь. И кто-то ждал, чтобы ты сделала этот первый шаг.
В коридоре лежали её ботинки. Она смотрела на них, как на часть жизни, к которой больше не принадлежала. И всё же – шагнула вперёд. Маленький шаг.
Но шаг.
Они вышли с мамой из квартиры.
Дверь за спиной мягко щёлкнула, словно отсекла старый воздух, боль, тени и беспамятство, оставив их внутри. Валентина стояла на площадке, растерянная, будто впервые оказалась вне своего убежища. Свет в подъезде был тусклым, но даже он резал глаза после долгого пребывания в полумраке.
Она с трудом удерживалась от того, чтобы не вернуться назад, не захлопнуть дверь и не нырнуть обратно в привычную тьму. Пальцы на автомате сжались в кулак. Тело напряжено как струна. Даже воздух казался слишком громким.
– Не спеши, – сказала мама тихо, словно почувствовала эту внутреннюю дрожь. – Просто иди рядом. Дыши. Мы никуда не торопимся.
Валентина кивнула, не говоря ни слова. Каждое движение давалось ей с усилием, как будто мышцы давно забыли, как ходить. Спускаясь по лестнице, она чувствовала, как в груди глухо стучит сердце – оно отзывалось на каждый шаг, как рана при каждом касании.
На улице было прохладно. Легкий ветер тронул её лицо, и она едва заметно вздрогнула. Солнце стояло низко, золотя крыши домов. Воздух был чистый, прозрачный, и пахнул листвой, пылью и далёкой весной.
– Смотри, как красиво, – сказала Зинаида, остановившись и глядя на клён у обочины, чьи ветки нежно покачивались от ветра.
Но Валентина не смотрела. Её взгляд был обращён внутрь. Всё снаружи казалось ненастоящим. Люди проходили мимо, смеялись, говорили по телефону, катали детей в колясках. У них были цели. Были дела. У неё – только пустота.
«Как они могут жить, когда он умер? Как вообще может вращаться Земля?» – глухо думала она, ощущая, как внутри неё поднимается волна протеста.
– Я помню, как вы с ним гуляли здесь… – вдруг сказала мама, не глядя на неё. – Он всё время шутил, делал тебе смешные фото на телефон. И заставлял пить этот ужасный латте с карамелью…
Валентина закрыла глаза. Сердце сжалось.
– Не надо… – прошептала она. – Я не готова вспоминать. Это как соль на свежую рану.
– А если не вспоминать – ты совсем потеряешь его.
Мама посмотрела ей в глаза. Не обвиняя. Просто – правда. Горькая, обнажённая.
– Память – это то, что останется с тобой. Но ты должна идти. Пусть медленно. Пусть тяжело. Но идти.
Они пошли дальше. Медленно. Валентина чувствовала, как с каждым шагом она будто протыкает кокон боли, в котором жила всё это время. Платье колыхалось у ног, ветер трогал волосы, шаги отдавались эхом внутри.
Это был путь сквозь печаль.
Но она всё-таки шла.
И рядом была мама.
А пока – этого хватало.
Они шли. Медленно, почти бесшумно, будто каждая их тень могла спугнуть покой улицы.
Валентина ступала осторожно, будто асфальт под ногами был хрупким стеклом. Ветер трепал подол её платья, запутывался в прядях волос, дышал прохладой на щеке. Но всё вокруг – каждый звук, каждый запах, каждый взгляд мимо проходящих людей – напоминало ей о нём.
Вот скамейка у подъезда – на ней он когда-то ждал её с работы, притворяясь угрюмым сторожем, а потом резко вставал и устраивал театральный поклон.
Вот кофейня за углом – там он уговаривал её попробовать кофе с тыквенным сиропом, от которого она потом морщилась, но каждый раз брала снова, чтобы услышать его смех.
Вот витрина цветочного магазина – в ней по-прежнему стояли ромашки, такие же как он приносил без повода.
Каждый знакомый угол сверлил сердце. Всё казалось частью спектакля, который продолжал идти… без главного актёра.
– Всё напоминает… – пробормотала она почти неслышно.
Мама обернулась.
– Я знаю, – тихо сказала она. – Но это значит, что он с тобой. В каждом шаге. В каждом дыхании.
– Мне не легче от этого, – ответила Валентина, сжав губы.
Глаза у неё снова налились влагой. Она боролась со слезами, словно те были чем-то постыдным. Но внутри поднималась волна – вязкая, тяжёлая, как болото, в котором невозможно дышать.
«Почему всё так несправедливо?.. Почему его больше нет, а мир остался?.. Почему деревья цветут, дети бегают, птицы поют, а я будто застряла где-то между жизнью и смертью?..»
Они свернули в знакомый двор. Там, на лавочке, когда-то он читал ей вслух стихи, а потом рассматривал облака, придавая им нелепые формы.
– Смотри, облако в форме утюга, – говорил он, – а вот то – будто крокодил с крыльями.
Валентина остановилась. Глаза её поднялись вверх – небо было ясным, лёгкие перистые облака медленно плыли в вышине.
– Он бы сейчас сказал, что вот то облако – это я, с растрёпанными волосами, – произнесла она с горькой улыбкой. – А следом придумал бы историю, как мы все летим на нём на Марс…
– Прекрасная история, – сказала мама, беря её за руку. – Значит, она всё ещё жива в тебе.
Они немного постояли. Валентина чувствовала, как земля под ногами становится устойчивее. Как ветер больше не режет, а касается. Как в груди всё ещё тяжело – но уже не пусто.
– Мне страшно, мам, – вдруг вырвалось у неё. – Страшно, что я когда-нибудь привыкну к тому, что его нет.
– А ты и не обязана привыкать, – ответила Зинаида. – Ты просто научишься жить так, чтобы он жил внутри тебя. В памяти. В сердце. В каждом шаге.
Они снова пошли.
И каждый шаг, несмотря на боль, был всё же движением. Сквозь тьму. Сквозь память.
К жизни.
– Тебе надо уехать, – сказала мама после долгой паузы. Её голос прозвучал мягко, но в нём звучала та внутренняя решимость, которой Зинаида Николаевна не теряла ни в одни трудные времена.
Они сидели на скамейке во дворе, согретые вечерним солнцем. Вокруг плыли тихие звуки жизни: кто-то вел ребёнка за руку, кто-то выгуливал собаку, где-то во дворе глухо гремел бас из открытого окна. Всё было… как обычно.
И от этого Валентине становилось невыносимо.
Она чуть повернулась к маме, уставившись в трещину на асфальте под ногами.
– Уехать?.. – эхом повторила она. – Но… куда?
Словно даже эта простая идея звучала чуждо.
Уехать – значит признать, что здесь, в этих стенах, в этих улицах, в этих звуках и тенях – ничего больше не держит. А ведь здесь он был. Здесь звучал его смех. Здесь тень от его пальто всё ещё, казалось, затаилась в углу.
Мама смотрела на неё с терпением.
– Ко мне.
Простая фраза. Почти будничная. Но Валентина вздрогнула.
– Ко… тебе? – переспросила она, как будто не верила, что такое возможно.
В её памяти всплыла родительская квартира: просторная, с балконом, занавесками, пропитанными запахом утреннего кофе, книгами на каждой полке и вечно щебечущим чайником. Там было безопасно. Там когда-то была она – другая, молодая, живая.
– На время, – добавила мама. – Не насовсем. Просто смена обстановки. Немного другой воздух. Другие стены. Немного тишины. Там никто не будет напоминать тебе о нём – в каждом углу, в каждом шорохе.
Зинаида внимательно наблюдала за дочерью.
– Я не предлагаю забыть. Я знаю, что это невозможно. Я предлагаю выдохнуть.
Валентина уставилась в пустоту перед собой. Её пальцы вцепились в край скамейки.
«Сменить обстановку… Но я боюсь. А вдруг я и там не найду покоя? А вдруг боль поедет со мной в поезде, распакует чемодан, сядет на подушку рядом и будет смотреть в спину каждую ночь?»
Она глубоко вздохнула.
– Я не знаю, смогу ли, – тихо произнесла она. – Мне страшно двигаться. Страшно отпустить это… всё. Даже если оно причиняет боль. Это как… как держаться за обломок в открытом море. Да, он режет, он колет. Но это – единственное, что осталось.
Мама чуть склонила голову.
– Значит, я стану твоим новым обломком. Помягче. Потеплее. Пока не научишься плавать.
Тишина повисла между ними. И только ветер тронул листву, словно подслушал.
Валя закрыла глаза.
Она чувствовала – эта мысль пугает и одновременно тянет.
– Ладно, – прошептала она. – Только… не жди, что я сразу стану прежней.
– И не надо, – сказала мама и сжала её руку. – Станешь новой. Своеобразной. Такой, как надо тебе. Но живой.
И в этот момент Валентина почувствовала – впервые за долгое время – что, возможно, движение вперёд не всегда предательство памяти. Иногда – это способ её сохранить.
Глава 2. Дом, где ждут.
Ещё немного пройдясь по вечернему двору, они вернулись в квартиру Валентины.
Дорога назад была тихой, почти без слов. Не потому что сказать было нечего, а потому что за это короткое время уже было сказано слишком много – голосами и молчанием, глазами и тяжёлыми вдохами.
Воздух стал прохладнее, солнце клонилось к закату, окрашивая верхушки деревьев мягким, золотисто-медным светом. Валя машинально тянула пальцами край платья, будто бы оно могло защитить от возвращающейся тревоги.
Когда они дошли до подъезда, Валя замедлила шаг. Она посмотрела на старые, обшарпанные ступени, на выцветшую краску перил, на свои окна на третьем этаже – и в груди что-то сжалось.
«Вот он, мой ров. Моя крепость. Мой мрак…» – промелькнуло в голове.
Она поднялась по ступеням, как будто вела на себе весь этот год боли.
Ключ заскрежетал в замке, и дверь отворилась.
И снова – тот же воздух. Пропитанный застоем, пылью, не открытыми окнами и… отсутствием. Всё осталось на своих местах: чашка с засохшими разводами кофе, плед, скомканный на диване, книги, как свидетели прошлого, забытые на подоконнике.
Зинаида вошла вслед за дочерью и не стала ничего говорить. Она просто аккуратно сняла обувь, поставила её у двери и тихо прошла в комнату. В её движениях не было суеты – только внимание, как у человека, заходящего в храм, где живёт чья-то боль.
– Хочешь, я приготовлю тебе что-нибудь? – мягко спросила она.
Валентина покачала головой.
– Не голодна. Всё внутри забито. Как будто там только глыба. Тяжёлая и неподъёмная.
Она прошла к окну, провела ладонью по стеклу. Снаружи уже сгущались сумерки, небо темнело, загорались фонари.
– Всё было как будто чуть легче, – пробормотала она. – Там, на улице. Пока мы шли. Но стоило вернуться – и будто всё снова упало на плечи. Как будто это место помнит боль за меня.
– Потому я и сказала: уехать, – напомнила мама. – Дом – это не всегда стены. Иногда это ловушка. Если он пропитан слишком многим, что тебя разрушает – стоит выйти. И попробовать заново.
Валя опустилась на диван. Платье мягко расправилось по коленям. Она провела рукой по подлокотнику – по тому самому месту, где когда-то сидел он, обняв её за плечи.
– Я боюсь, что если уеду, предам его. Будто выберусь на свободу без него. Как будто продолжаю жить, а он – нет.
Мама опустилась рядом, не касаясь. Только рядом.
– Ты не предаёшь. Ты живёшь. А он – в тебе. Он не исчезает, пока ты его помнишь. Но ему бы точно не хотелось, чтобы ты гнила в этих стенах. Ты ведь сама знаешь – он бы развернул всё вверх дном, если бы увидел, что ты так себя теряешь.
Валентина не ответила. Она просто сидела. Смотрела вперёд. Слушала, как тикают старые часы на стене, как с улицы доносится лай далёкой собаки, как рядом дышит её мать.
И впервые за долгое время – она не чувствовала себя совсем одинокой. Пусть ненадолго. Пусть зыбко.