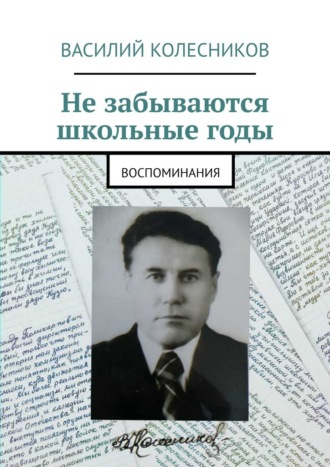
Полная версия
Не забываются школьные годы. Воспоминания
ШКМ найти было не трудно: она была тут же, напротив церкви. К нам вышел кто-то из учителей и, узнав, зачем мы пришли, сказал, что мы опоздали, школа уже набрала учеников, даже больше, чем нужно, и посоветовал моим друзьям, которые все были старше меня, приходить в будущем году и не опаздывать. «А тебе ещё надо подрасти, и тогда тоже приходи годика через два и тоже не опаздывай», – сказал он, обращаясь ко мне.
Может, кто-то подумает, что я ошибся, написав «школа крестьянской молодёжи». Здесь ошибки нет. Школами колхозной молодёжи стали называться ШКМ в период сплошной коллективизации, и этим подчёркивалось то, что закостенелым единоличникам в этих школах места нет.
Дома, узнав о моей неудаче, отец сказал: «Ну, ничего, не горюй. Походи в эту зиму ещё раз в четвёртый класс, чтобы ничего не забыл, а на будущий год я сам повезу тебя в ШКМ». Так я ходил вторую зиму в 4-ый класс, и Владимир Иванович сделал меня вроде как своим помощником. По его поручению я помогал одноклассникам решать примеры и задачи, писать затруднительные слова, разучивать стихотворения. Нередко, объясняя новый материал и видя, что он не совсем понятен, Владимир Иванович говорил: «Ну-ка, разъясни им ты своими словами». Я «разъяснял», и ребята в самом деле начинали понимать. «Да, – говорил Владимир Иванович, – тебе надо учиться и быть учителем, у тебя есть способности». А я и сам мечтал стать учителем.
Так прошла зима с 1931 по 1932 год. Но не пришлось отцу везти меня в ШКМ. Жизнь поворачивала круто. В деревню зачастили из Архары уполномоченные, пошли нескончаемые разговоры о сплошной коллективизации, о колхозах, и единоличная Ново-Алексеевка бурлила, как кипящий чугунок. Все новосёлы, в основном земляки, приехавшие из той же местности, откуда и мы, хотели организовать свой, отдельный от других колхоз и создать его на новом месте, где-то дальше, в сопках, по речке Домикан11. Но таких набиралось чуть больше десяти дворов, да и то, в основном, такие же бедолаги, как мой отец, которые все вместе не смогли бы вывести на поле и полдесятка плугов, а на трактор надеяться тогда ещё не приходилось. А тут началась прокладка второй колеи Транссибирской железной дороги, рядом с Ново-Алексеевкой строился разъезд Журавли: молодые мужики и парни пошли работать на железную дорогу, и задуманный колхоз в нашей деревне так и не состоялся.
К весне 1934 года у отца создалось безвыходное положение. Зерна дома не было ни продовольственного, ни семенного. С колхозом ничего не получилось, а жить дальше единолично было невозможно, и тогда отец ушёл из деревни устраиваться на работу на пригородное хозяйство паровозного депо станции Облучье. Оно тогда только создавалось в семи километрах от Архары. Так потомственный хлебороб – мой отец – из класса крестьян перешёл в класс рабочих. Мы все были рады такому повороту в жизни: отцу на всю семью давали паёк, а это было большим счастьем для нашей большой, беспросветно бедствовавшей семьи. Нас только детей к тому времени было уже восемь человек, а мать часто болела, хороших помощников в семье родителям не было, и отец, как говорится, бился, как рыба об лёд. Каждую зиму его по трудгужповинности (гужповинность – это значит с конём) отправляли на лесозаготовки. Дома на хозяйстве оставались мы с матерью, так как брат Иван учился в Благовещенске. Мне было ещё не под силу справляться со всем мужскими делами в хозяйстве, но я был мужчина, и я старался: ездил один в лес за дровами, научился валить и пилить, грузить на сани не очень толстые деревья, дома тоже один пилил и колол дрова, чистил стайки и кормил нашу комолую12 корову и серую монгольской породы кобылу, норовистую и злую. Ездил на ток, где молотил осенью зерновые, за овсяной половой для коровы, ездил за сухостойным осинником для растопки печи, занимался другими более мелкими делами, которых в деревенской единоличной жизни было всегда край непочатый. Так нигде не пришлось мне учиться ещё два года.
Я вспоминаю так более подробно те пять лет с весны 1929 года по весну 1934 года, потому что все обстоятельства складывались так, что надежд на дальнейшую учёбу у меня становилось всё меньше и меньше. И как же я был рад, когда отец, устроившись работать на пригородное хозяйство, сказал мне: «Ну, сын, теперь и ты можешь учиться в железнодорожной школе-семилетке. Теперь и мы стали железнодорожниками».
Отец наш Семён Трофимович всячески поощрял нас, детей своих, учиться грамоте. Потомственный деревенский мужик-хлебороб, он приобщился к грамоте с детства, закончив церковно-приходскую школу в родном селе на древней Черниговщине. Солдат русской армии, георгиевский кавалер в Первую мировую войну, будучи грамотнее многих своих сослуживцев, он очень хорошо понял лозунги большевиков: «Долой войну!», «Мир хижинам, война – дворцам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», и оказался в той солдатской массе, которая после октябрьского переворота, воткнув штыки в землю, устремилась из окопов в родные селения помогать большевикам устанавливать новую власть.
Но события той огненной революционной поры и особенно немецкая оккупация Украины, Белоруссии и других областей, в том числе и родного села Смяльч в 1918 году, привели отца сначала в партизанские отряды, а затем и в Щорсовскую дивизию, боровшуюся с немецкими оккупантами, а позднее и с белополяками, также посягавшими на земли Украины. Те же бурные события привели его в Первую конную армию Будённого, когда она, громя войска пана Пилсудского, рвалась на запад с боевым кличем «Даёшь Варшаву!» И вернулся он к родному очагу после разгрома «чёрного барона Врангеля в Крыму».
В кровавой кутерьме империалистической13 войны, в вихрях революции и огне войны Гражданской, понял он, как нужно людям образование. Особенно ясно он это увидел в Гражданскую войну, когда ротами, эскадронами и даже полками командовали люди с такой, как у него, грамотой.
В Первой конармии он не до конца находился в боевых порядках. Как грамотный по тем временам боец, он был прикомандирован к штабу одной из воинских частей и, оказавшись в окружении по-настоящему грамотных штабных командиров, постарался научиться и перенять от них всё, что могло пополнить его знания и повысить грамотность.
Помню его чёткий красивый почерк, выработанный на штабной работе, бережное, аккуратное обращение с любыми бумагами, что говорило о штабной культуре, к которой он был приучен, и его огромное уважение к печатному слову. Он любил книги, любил читать, если была у него минута свободного времени. Для деревенского мужика по тем временам обладал немалыми знаниями. По любому непонятному вопросу шли к нему сельчане за разъяснениями, а если кому-то было нужно написать в волость или уездному начальству «прошение» (заявлений тогда не знали) или другую какую бумагу, и даже письма далёко живущим родственникам, то другой дороги, кроме как к нему, у соседей и знакомых сельчан не было.
С самого раннего детства, как я себя помню, дома у нас были в почёте книги. Отец не упускал случая, если можно было где-то взять книжку и принести её домой. Он брал их и в избе-читальне, которая была открыта в бывшем поповском доме. Старшему моему брату Ивану, ходившему тогда в школу, охотно давали книги учителя. Книги тогда были редкостью, и дома у нас все были рады, когда появлялась новая книга. Помню, как долгими зимними вечерами собирались к нам в избу соседские мужики и наши с братом друзья-сверстники, ещё не умевшие читать, и начиналось у нас громкое чтение заинтересовавшей всех книги. Читали мы с братом по переменке, а отец разъяснял всё, что было непонятно. А самое интересное было, когда начинались оживлённые обсуждения прочитанного. Всё, что узнавали слушатели из книги, воспринималось ими как истинное происшествие. Разгорались горячие споры, словно они сами были участниками описываемых событий, или происходили эти события у них на глазах, и самым авторитетным в этих обсуждениях было мнение нашего отца. Потом говорили о том, что есть и ещё интересные книги, о которых кто-то от кого-то слышал, почти всегда вспоминали мужики о том, что в имении пана Михаевского14 было очень много книг, которые сгорели вместе с «дворянским гнездом», когда смяльчане разгромили и сожгли барскую усадьбу в 1905 году, и очень жалели те книги.
Для нас, детей, эти споры-разговоры были не менее интересны, чем то, о чём мы читали в книгах. Мы многое узнавали и многое начинали понимать совершенно по-иному, чем прежде. Все мы, младшие в семье, учились азбуке друг у друга и ещё до школы умели читать, писать и считать. Даже наша мать Марина Кондратьевна, обременённая многочисленными заботами, до того не знавшая ни одной буквы, от нас, детей своих, научилась читать по слогам. Такая наша любовь к книгам, к учёбе, очень радовала отца, и когда при встрече с ним учителя с большой похвалой отзывались о нашей учёбе, он думал о том, как бы дать хоть кому-то из нас, девяти своих детей, возможность учиться дальше после сельской школы.
Вот почему, когда он устроился на работу в пригородное хозяйство депо, он с большим удовольствием сказал, зная, что меня обрадует: «Ну, сын, теперь и ты сможешь учиться в железнодорожной семилетке».
И вот, когда в августе 1934 года в канцелярии Архаринской семилетней железнодорожной школы мне было сказано, что, может быть, я пришёл не в ту школу, потому, как в эту школу записывают только детей железнодорожников, я так заторопился, объясняя своё право на учёбу в этой школе, что у меня даже язык стал заплетаться, а женщина, сидевшая за столом, весело рассмеявшись, сказала: «Постой, постой, не торопись», – и стала задавать вопросы, требуя на них спокойных ответов. Сделав нужные записи в своих бумагах, она сказала: «Приходи 31-го числа, узнаешь, в какой класс ты будешь зачислен, но в интернате у нас места нет: там будут жить ребята с разъездов, а тебя родители пусть устроят на квартиру у кого-либо из знакомых. А теперь иди посмотри классы, где будешь учиться».
Я перешёл школьный двор и поднялся на невысокое крыльцо учебного корпуса, где стояло несколько таких же, как и я, будущих учеников. В это время из двери вышел кто-то из учителей:
– Что, ребята, в школу пришли? Хотите учиться у нас? – спросил он.
– Да, нас уже записали в семилетку – в разнобой отвечали все мы.
– Ну, ну. Это хорошо, одобрил он и, обратившись ко мне, вдруг спросил: – Ты тоже будешь учиться в нашей школе?
От такого вопроса у меня тревожно сжалось сердце. Ведь должно же быть понятно этому человеку, что я потому и пришёл сюда, что хочу учиться. Какие у него могут быть сомнения на этот счёт, и почему он спрашивает именно меня? Не скажет ли он, что мне не место в этой школе. Я по-настоящему испугался, и, проглотив сухой ком, вдруг появившийся в горле, пробормотал:
– Да, меня уже записали в пятый класс…
– А вот в школу, братец, надо ходить обутому, а не босиком. Ты где живёшь?
– В Ново-Алексеевке. Это я записываться пришёл босиком…
Он ещё раз оглядел меня, засмеялся, мотнул головой и ушёл.
Да, я был босиком. Ноги у меня были грязные, всё лето не знавшие обуви, посбитые и усеянные цыпками. Весь мой вид не мог не вызвать смеха. Я был не стрижен, рубаха на мне была из домотканого полотна, привезённого матерью ещё с родной Брянщины и сшитая её руками, простая деревенская рубаха с широкими без обшлагов рукавами, без отложного воротника ну и, конечно, она не отличалась незапятнанной чистотой. На мне были штаны моего старшего брата настолько мне не по росту, что я их подтянул по самые мышки и подвязал верёвочкой, а внизу штанины подсучил, чтобы не путаться и не спотыкаться. Да, наверное, и физиономия моя была чумазая. Я сейчас уже не помню, умывался ли я, собираясь в «храм науки».
Помню школьный двор 31-го августа 1934 года, гудевший от сотен голосов собравшихся учеников и взрослых. Я не знал, что надо делать и толкался в густой толпе, пока кого-то спросил:
– А что сейчас будет?
– Сейчас будут зачитывать, кто в каком классе будет учиться, – пояснил мне знающий паренёк, и в это время все обратили внимание на группу учителей, взошедших на возвышавшийся чуть в стороне бугорок, откуда их хорошо было видно и слышно.
– Тихо, ребята, тихо! – громко обратился к нам один из учителей. – Слушайте внимательно классные списки. Я буду зачитывать, а потом вас будут разводить по классам, – чуть выждав, когда воцарилась тишина, он продолжал: – Пятый класс «А», – и начал перечислять фамилии учеников. Он назвал около трёх десятков фамилий, а моей среди них не было. Я тревожно недоумевал, не зная о том, что при большом количестве учеников всех в один класс не поместишь. Стали зачитывать список пятого класса «Б». Стоявший рядом со мной «знающий» паренёк сказал:
– В пятый «А» класс записали самых лучших учеников, а в пятый «Б» – кого похуже.
В списке тех, кто «похуже» меня тоже не было, и я совсем приуныл. Назвали пятый «В» класс, и я слушал так, как, наверное, слушает приговор тот, кто стоит перед судом. А «знающий» паренёк и совсем убил во мне надежду, сказав, что это, наверное, последний пятый класс, в который записали не то, чтоб худших, а тех, кто хуже некуда. А по списку уже читали фамилии, начинающиеся с букв, стоящих в алфавите после буквы «К», и мне стало ясно, что не попал я в пятый «В» класс, «худший из худших».
Ушли в учебный корпус счастливчики, зачисленные в этот, пусть и из рук вон плохой класс, как ушли перед этим пятый «А» и пятый «Б» классы. И вот начинали зачитывать список учеников, зачисленных в пятый «Г» класс. А у меня стало тяжело на душе, тяжело и обидно. Что из того, что если меня и зачислили в этот, оказавшийся на четвёртом месте, класс? Ясно, что в него попали самые никудышные полоумки, и будет стыдно сознаться, что меня зачислили в пятый класс «Г», в самый последний из пятых классов. Увы, так оно и оказалось: зачитали в списке и мою фамилию. Оказывается, так думал не один я.
Собранные учительницей, мы побрели в свой класс не в радужном настроении. Когда рассаживались за парты, я пробрался на самую последнюю, решив, что в самом последнем классе мне место на самой последней парте, коль я уж такой я неполноценный человек, и нечего мне мозолить глаза учителей, сидя где-нибудь впереди.
Знакомство с учительницей началось с того, что ребята посмелее так и спросили: а правда ли, что в пятый «Г» класс записали самых плохих учеников?
– Кто вам сказал, что вы – самые плохие ученики? – рассмеявшись, спросила она. – Вот начнём заниматься, тогда будет видно, какие вы есть на самом деле.
Многие осмелели. Раздались обидчивые выкрики:
– А что мы – хуже всех, что нас записали в пятый «Г»?..
– В пятый «А» самых лучших позаписали…
– Мне в тетрадке по письму учительница всё время ставила «ус.»
– У меня за задачки был «ус.»
Я не отличался смелостью и молчал, хотя мне, когда я учился в своей деревенской школе и по письму, и по чтению, и за задачки учителя ставили даже «Вус.», и мне, пожалуй, было даже обиднее, что я оказался в пятом «Г» классе. Сейчас я уже не помню, кто тогда из учительниц была с нами в классе, кажется, это была Панна Захаровна Ганенко, но она сначала недоумённо слушала, а потом, поняв в чём дело, высоко и громко расхохоталась:
– Ой, какие же вы глупые! Да какая разница – пятый ли «А» класс или пятый «Б», «В» или «Г»? И в пятом «А» лодыри получат «нус», если будут не успевать и лениться, и вы в своём пятом «Г» будете получать «Вус.», кто будет стараться и хорошо учиться.
Я воспрянул духом: если дело только в том – стараться или нет – то мы ещё посмотрим, где лучшие ученики – в пятом «А» классе или в пятом «Г»! Уж я-то постараюсь!
Считаю, что надо сделать маленькое пояснение. Не все, даже работники народного образования, теперь знают, что в то далёкое время существовали такие оценки успеваемости учащихся: «не успевает» это был «Нус.», «успешно» – это был «Ус.» и «весьма успешно» – это был «Вус.» – самая высокая оценка. Позднее оценок стало пять: «очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично». Вот откуда пошло определение лучшим ученикам «хорошисты» и «отличники». Цифровая пятибалльная система была введена намного позднее и соответствовала предыдущей: «очень плохо» стало единицей («кол», как презрительно её называли), «плохо» стало двойкой, «посредственно» – тройкой, «хорошо» – четвёркой, «отлично» – пятёркой.
И вот началась моя учёба в Архаринской железнодорожной семилетней школе. Всё здесь было совсем не так, как в деревенской. На каждый день было расписание уроков, на каждый урок приходил новый учитель или учительница.
На уроки арифметики приходила к нам Софья Михайловна Кондратьева. И начинали мы с ней переливать воду из одного бассейна в другой по трубам разного диаметра, считали эту воду литрами, вёдрами и чуть ли не стаканами. Нам край, как надо было знать, сколько этой воды надо было перелить туда-сюда, и сколько времени мы будем этим заниматься. То мы мерили материю у двух, а то у трёх купцов-продавцов, у которых и материи было не поровну, и цена у этой материи была разная. Вот и считали мы метры, рубли, копейки, чтобы эти пройдохи- купцы не надували покупателей. А сколько мы с Софьей Михайловной ездили на поездах и пароходах, на лошадях рысью и галопом, ходили пешком шагом и бегали бегом из пункта «А» в пункт «Б», то навстречу друг другу, то друг друга догоняли, выходили и выезжали и вместе, и в разное время, двигались с разными скоростями, встречались, догоняли и обгоняли друг друга, считали километры, метры, часы и минуты, высчитывали, на каком расстоянии от пункта «А» или пункта «Б» должны были происходить эти встречи и обгоны, кто когда прибудет в эти пункты. А потом учились в тёмном лесу цифр и чисел искать таинственный «икс», так хитро прятавшийся, что кое-кому из нашей стриженой братии так и не удавалось его найти, а если и находили, то настолько непохожего, что Софья Михайловна аж удивлялась:
– Да где же ты взял этот «икс»? Ставлю тебе «неуд», а дома поищи получше. На следующем уроке проверю. Думать надо!..
Софья Михайловна учила нас арифметике и заставляла думать, думать и думать, и писать ответы цифрами, да не какими-нибудь, а арабскими. Ох, уж эти арабы! Оказывается, они даже алгебру придумали на нашу голову, а нам приходилось крепче шевелить мозгами над всякими квадратами или кубами суммы или разности двух количеств. А количества эти в каждом новом примере и задаче были разные, то они заключены в круглые скобки и стоят в числителе, то забрались в знаменатель и упрятались в скобки квадратные, а то и в фигурные, и надо эти скобки пораскрывать, да не проворонить, где надо поменять знаки плюс на минус или минус на плюс. Иначе растянешь многочлен на весь тетрадный лист, да так и не увидишь благополучного конца этому примеру. И будет тогда стоять под этим примером красиво выведенное красными чернилами словечко «плохо», которое, хотя и не с удовольствием, но напишет Евдокия Алексеевна Логинова.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Некрасовка – ныне не существует
2
Первый пятилетний план политики форсированной индустриализации 1928 – 1932, вторая «пятилетка» – 1933 – 1937 гг.
3
ГОЭЛРО – Государственный план электрификации России, принятый в 1920 г.
4
Село Смяличи находится в Шкотовском муниципальном округе Приморского края
5
На самом деле Ново-Алексеевка была основана в 1904 году
6
Крестьяне-единоличники – те, которые ещё не вступили в колхоз.
7
Изба-пятистенок – изба прямоугольной формы, в которой жилая площадь была разделена поперечной стенкой.
8
Драматический этюд (пьеса) Яниса Райниса, 1925 г.
9
Дерюжки – домотканые половики
10
Аркадие-Семёновка – село Аркадие-Семёновское (осн. 1892 г.) – село на правом берегу Архары. Ныне Аркадьевка. В 30-е гг. в Хингано-Архаринском районе было только две школы-семилетки – в Архаре – для детей железнодорожников, и в Аркадьевке – для сельских ребят.
11
Домикан – левый приток Буреи.
12
Комолая корова – безрогая корова
13
Империалистическая война – Первая мировая война 1914—1918 гг.
14
Имение пана Михаевского – находилось на малой родине автора, в Брянщине



