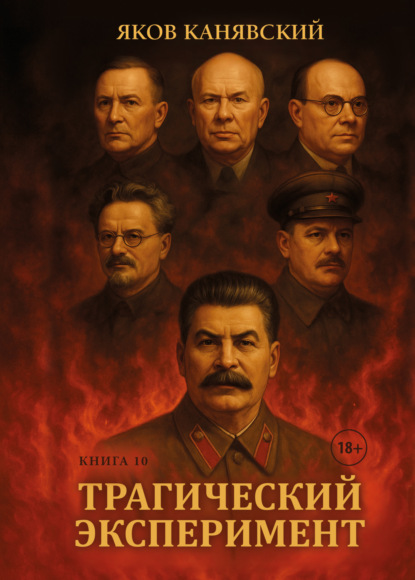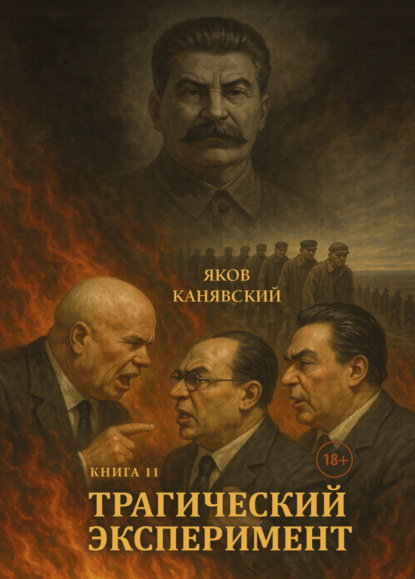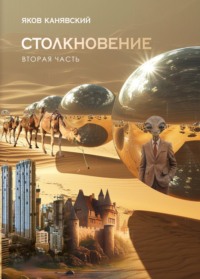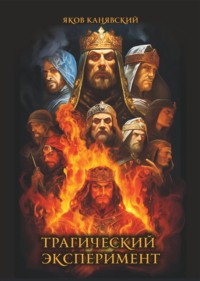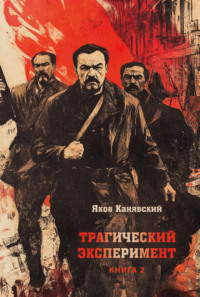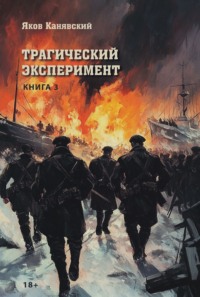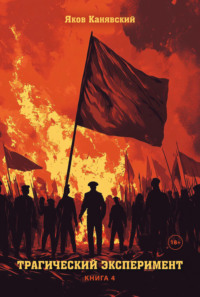Полная версия
Трагический эксперимент. Книга 9
Михаил Фёдорович Лукин, генерал-лейтенант, участник ещё Первой мировой войны, в Красной армии с 1918 г. В начале Великой Отечественной войны – командарм 16‐й армии. При выходе из окружения 14 октября 1941 г. командарм М. Ф. Лукин был тяжело ранен и без сознания попал в плен, где достойно держал себя в тяжелейших условиях. Во время допросов в плену допускал возможность создания антисталинского русского правительства, союзного по отношению к Германии, излагал идеи, впоследствии углублённые А. А. Власовым. Поскольку М. Ф. Лукин находился в немецком плену, то сразу же после освобождения в мае 1945 г. был арестован и содержался в Лефортовской тюрьме. Освобождён по личному приказу И. Сталина, передавшему ему «спасибо за Москву», имея в виду героические усилия командарма во время Смоленского сражения.
Так что не всё однозначно с нашими генералами, пленёнными фашистами. Но вернёмся к А. А. Власову. Он составляет (или подписывает) письмо «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом?». Приведём основные его мысли:
«Призывая всех русских людей подниматься на борьбу против Сталина и его клики, за построение Новой России без большевиков и капиталистов, я считаю своим долгом объяснить свои действия. <…> История не поворачивает вспять. Не к возврату к прошлому зову я народ. Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение Национальной Революции, к борьбе за создание Новой России ‒ Родины нашего великого народа. Я зову его на путь братства и единения с народами Европы и в первую очередь на путь сотрудничества и вечной дружбы с Великим Германским народом. Этот союз, одинаково выгодный для обоих великих народов, приведёт нас к победе над тёмными силами большевизма, избавит нас от кабалы англо-американского капитала.
Генерал-лейтенант A. А. ВЛАСОВ».
Можно ли верить в подобные откровения генерала? Придерживайся он подобных взглядов, вряд ли был допущен до разведывательной деятельности в Китае и к командованию крупными воинскими соединениями по возвращению в Союз. Скорее всего, данное письмо – попытка убедить немцев в существовании в СССР оппозиции, уцелевшей под катком сталинских репрессий, идеологически обосновать своё предательство Родины – фашистские бонзы были весьма щепетильны, к предателям относились брезгливо. Стоит отметить, что в разгар Великой Отечественной войны даже давние противники советской власти, эмигрировавшие из России в годы Гражданской войны, призывали к единению всех патриотов Родины в борьбе против фашизма, а не против режима И. С. Сталина.
В. М. Чернов, председатель Учредительного собрания России, разогнанного большевиками в январе 1918 г., в разгар Великой Отечественной войны в письме И. В. Сталину предлагает объединить усилия всех патриотов России, в том числе и эмигрантов, бывших когда-то противниками большевиков, – в минуты, когда Отечество в опасности, не до идеологических разногласий. Призыв Чернова убеждает: письмо А. А. Власова – фальшивка, рассчитанная лишь на недальновидность гитлеровцев.
А. А. Власов прилагает много усилий для создания РОА – Русской освободительной армии. В ней служили несколько Героев Советского Союза. Его ближайшие сподвижники – люди дела, профессионалы, орденоносцы. Неужели все они были трусами, ушедшими в услужение к немцам ради спасения собственной жизни?! Очевидно нет. Удивительные метаморфозы, происшедшие лично с А. А. Власовым и его ближайшим окружением в плену, можно объяснить очень просто. «Предательство Родины» генерала А. А. Власова, создание им в немецком тылу «Комитета освобождения народов России» (КОНР) и «Русской освободительной армии» (РОА) – тщательно спланированная операция советской военной разведки, о которой знало лишь высшее руководство страны, по всей вероятности, только Политбюро ЦК ВКП(б), если провожали Власова на выполнение ответственного задания лично люди из Политбюро. Косвенно эту версию подтверждает одно из писем А. А. Власова жене, содержащее информацию о встрече генерала со Сталиным: «Меня вызвал к себе самый большой и главный хозяин. Представь себе, он беседовал со мной целых полтора часа. Сама представляешь, какое мне счастье…»
Трудно поверить в гуманизм И. В. Сталина, но одной из целей разведывательной операции генерала А. А. Власова могло быть спасение жизней сотен тыс. советских военнопленных. А. А. Власов, сумевший «продавить» у гитлеровцев идею создания Русской освободительной армии, рассчитывал поставить под ружьё до одного миллиона человек, или каждого четвёртого-пятого из числа попавших в плен. В итоге ему удалось довести численность РОА до 124 тыс. человек.
Почему выбор И. В. Сталина пал на А. А. Власова? Представляется, что поначалу эта задача была возложена на генерала М. Ф. Лукина. Тот в плену позволял себе многое. В 1994 г. в исторический оборот были введены отрывки из стенограмм его допросов: «Вы, немцы, можете сокрушить систему, но вы не должны думать о том, что народ может это сделать сам, несмотря на свою ненависть к режиму. И вы не должны упрекать или наказывать русских за то, что они не восстают». Аккурат в духе сочинений А. А. Власова, якобы в СССР существует оппозиция… Но что-то у Лукина не заладилось: то ли авторитета среди военнопленных и фашистов не хватало, но немцы не «клюнули» на предложения Лукина. Тогда советская разведка по инициативе И. В. Сталина и могла пойти на внедрение А. А. Власова к фашистам. В пользу этих предположений говорят факты.
М. Ф. Лукин свою службу в Красной армии начал с учёбы в… разведывательной школе РККА. Умер М. Ф. Лукин в Москве в 1970 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище, пантеоне самых выдающихся героев нашей страны, от царских времён до сегодняшнего дня. Почётнее в советский период российской истории являлось только захоронение у Кремлёвской стены на Красной площади.
1970 год, строительство социализма, всевластие КПСС и КГБ. Председателем КГБ СССР четвёртый год как работал Ю. В. Андропов. Могла ли всевластная «контора» допустить захоронение на Новодевичьем кладбище автора столь одиозных слов в адрес коммунистического режима? Не могла. Но допустила. Вывод напрашивается сам собой: сказанное М. Ф. Лукиным в фашистском плену не отражало его истинных убеждений и явилось лишь частью легенды о существовании оппозиции советской власти в СССР. Имел ли отношение к разведке А. А. Власов? Имел, и самое прямое! В 1937 г. тогда ещё полковник Власов был одним из руководителей второго отдела штаба Ленинградского военного округа. Второй отдел – это разведка и контрразведка округа. В разгар репрессий полковник Власов, получивший оперативный псевдоним «Волков», был отправлен с глаз долой советником к Чан-Кайши… Читаем мемуары участников тех событий. Все, как один, утверждают: в Китае работал советский разведчик … полковник Волков. Он дружил с немецкими дипломатами, водил их в рестораны, поил водкой до обморочного состояния, ‒ что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Способен вести себя так в 1937‒1938 гг., в разгар репрессий, обычный советский полковник, прекрасно знающий, что людей в СССР арестовывали только за то, что на улице Москвы объясняли иностранцам, как пройти в Александровский сад? Все женщины агенты Рамзая – Рихарда Зорге не могли поставлять информацию, сравнимую с данными жены Чан-Кайши, с которой русский полковник Волков был в «тесных» отношениях…
О разведывательной работе полковника Власова свидетельствовал его личный переводчик в Китае, утверждавший, что «Волков» приказал ему при малейшей опасности пристрелить его. Получается, что оба генерала – и Лукин, и Власов – не новички в разведке. После пленения А. А. Власова за ним «охотилось» более 42 разведывательных и диверсионных групп общей численностью 1 600 человек. Можно ли поверить, что в разгар 1942 г. чекисты не могли «достать» одного пленённого генерала, даже если его хорошо охраняли? Скорее всего, подобная «охота» была операцией прикрытия, призванной убедить фашистов в значительности персоны А. А. Власова. Власову удалось заставить немцев обратить на себя внимание. Й. Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии: «Генерал Власов в высшей степени интеллигентный и энергичный русский военачальник; он произвёл на меня очень глубокое впечатление». Были и прямо противоположные мнения. Рейхсфюрер СС Г. Гимлер: «У русских есть свои идеалы. А тут подоспели идеи господина Власова: Россия никогда не была побеждена Германией; Россия может быть побеждена только самими русскими. И вот эта русская свинья (diese russische Schwine) господин Власов предлагает для сего свои услуги. Кое-какие старики у нас хотели дать этому человеку миллионную армию. Этому ненадёжному типу они хотели дать в руки оружие и оснащение, чтобы он двинулся с этим оружием против России, а может, однажды, что очень вероятно, чего доброго, и против нас самих!»
Как ни парадоксально, но Г. Гиммлер оказался прав. 28 января 1945 г. генерал Власов встал во главе Вооружённых сил КОНР. Они состояли из трёх дивизий, одной запасной бригады, двух эскадрилий авиации и офицерской школы, всего около 50 тыс. человек. Плохо вооружённые, эти силы всего два раза, 9 февраля и 14 апреля 1945 г., участвовали в боях на Восточном фронте. В первом бою на сторону Власова переходит несколько сот красноармейцев. 6 мая 1945 г. в Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. По призыву восставших чехов в Прагу входит… Первая дивизия армии генерала Власова. Она вступает в бой с… вооружёнными до зубов частями СС и вермахта, захватывает аэропорт, чтобы не допустить возможность прибытия в город свежих немецких частей – сделано всё точно по канонам военной науки! ‒ и освобождает Прагу. Чехи ликуют. Прославленные командиры Красной армии вне себя от злости: опять этот «выскочка» Власов. Мало ему было прозвища «спаситель Москвы», теперь вот ещё и «спасителем Праги» оказался… Под давлением советского командования чехи просят Власова… покинуть Прагу, поскольку «русские друзья недовольны». Власов отдаёт команду об отходе…
В. С. Абакумов, начальник Смерша, издаёт приказ об аресте А. А. Власова. 12 мая 1945 г. он был арестован на юго-западе Чехии. Контрразведчики Смерша в полной парадной форме спокойно ждали колонну власовской армии на обочине дороги. Остановив машину генерала, отдали ему честь и пригласили выйти из машины. По свидетельству юриста танковой дивизии, Власов был одет в… генеральскую форму РККА (старого образца), со знаками различия и орденами, предъявил прокурору расчётную книжку начальствующего состава РККА, удостоверение личности генерала Красной армии № 431 от 13.02.41 г. и партийный билет члена ВКП(б) № 2123998 ‒ все на имя Власова Андрея Андреевича…
За день до прибытия Власова в дивизию понаехало немыслимое количество армейского начальства. По прибытии Власова был организован совместный обед. Читатели нашего поколения должны помнить финальную сцену четырёхсерийного фильма «Щит и меч» (песня «С чего начинается Родина?» как раз из этого фильма) ‒ советского разведчика Александра Белова с гимнастёркой, полной орденов и медалей, встречает на берлинских улицах глава советской разведки. Весьма похожая сцена…
Дальше был суд – не показательный, как можно было предположить, а закрытый, и приговор, приведённый в исполнение 1 августа 1946 г. в Москве. Место захоронения Власова неизвестно…
Теперь несколько фактов для размышления. После войны началась массовая реабилитация сидевших в тюрьмах и лагерях. Первыми помиловали… «власовцев». «Судьба Андрея Власова всем хорошо известна… Впрочем, известна ли? О том, что Власов и его движение были «большой подставой», игрой НКВД по типу операции ”Трест”, не раз приходилось слышать. И не только от историков, специалистов по РОА и эмиграции, но и от стариков ‒ участников тех событий. Кое-кто даже уверял, что Власов спокойно доживал свои дни на спецобъекте КГБ то ли под Москвой, то ли под Нижним Новгородом», ‒ отмечал А. Меленберг в «Новой газете» ещё в 2002 г. И последнее. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 1 октября 1993 года № 1553 «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов», генерал-лейтенанту М. Ф. Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль Героя России № 46…
Октябрь 1993 г., противостояние властей, буквально через несколько часов начнётся штурм Белого дома в Москве – президент же подписывает указ, которым спустя 23 года после смерти удостаивает покоящегося на Новодевичьем кладбище Москвы генерала – соратника А. А. Власова по работе в фашистском плену высшей государственной награды новой России… Не пора ли государству поставить точку в споре «кто вы, генерал Власов, – герой или предатель?» Или вновь придётся ждать, когда гриф секретности можно будет убрать с его фондов? Впрочем, о не засветившихся агентах не говорят почти никогда…
К осени 1942 г. на оккупированной фашистами территории оказалось более 80 млн человек. Страна лишилась не только огромных людских ресурсов, но и крупнейших промышленных и сельскохозяйственных районов.
Трагедия произошла и на юго-западном направлении в районе Харькова. Зимой – весной 1942 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов вели наступление против донбасско-таганрогской группировки немцев. Продвинувшись на 90–100 км, они закрепились в образовавшемся в линии фронта Барвенковском выступе. Отсюда 12 мая войска Юго-Западного фронта (командующий – маршал С. К. Тимошенко) начали новое наступление, первые дни проходившее с видимым успехом. Однако противник нанёс встречные удары по северному и южному фасам Барвенковского выступа, и крупная группировка наших войск попала в окружение. Операция закончилась тяжёлым поражением, потери обоих фронтов превысили 277 тыс. человек, из них более 170 тыс. – безвозвратные.
Катастрофически завершилась и попытка советского командования изгнать врага из Крыма. Готовившееся к наступлению командование Крымским фронтом (командующий – генерал-лейтенант Д. Т. Козлов) не смогло своевременно вскрыть планы противника. К тому же и Ставка, и Генштаб буквально до последнего дня не могли определиться: против всех правил военного искусства фронту ставилась задача и обороняться, и наступать.
8 мая соединения 11‐й немецкой армии генерал-фельдмаршала Э. Манштейна нанесли внезапный удар. Несмотря на значительное превосходство в силах и средствах, советские войска после двухнедельных боёв были вынуждены оставить Керченский полуостров и эвакуироваться на Тамань. Безвозвратные потери Крымского фронта и Черноморского флота составили более 176 тыс. человек. Наряду с командующим и штабом фронта главную ответственность за катастрофу несёт представитель Ставки ВГК армейский комиссар 1 ранга Л. 3. Мехлис, активный, но часто бездумный проводник сталинской линии. С потерей Керченского полуострова советским войскам 3 июля пришлось оставить и Севастополь.
29 июня 1942 года в Севастополе были взорваны Инкерманские штольни, в которых, помимо винных складов и складов боеприпасов, находились медсанбаты № 427 и № 47, а также бежавшие из Севастополя старики и женщины с детьми. 3000 мирных людей и тысячи раненых были похоронены заживо под многотонными глыбами камня по приказу своего же командования. Приказ о подрыве отдал начальник тыла ЧФ контр-адмирал Заяц.
А уже в ночь на 1 июля 1942 года командование обороной Севастополя во главе с вице-адмиралом Филиппом Октябрьским, получив «добро» от Сталина, поспешно бежало из Крыма с Херсонесского аэродрома на 13 самолётах «Дуглас» под возмущённые крики и стрельбу в воздух своих же бойцов. Всего 13 самолётов вывезли на Кавказ 222 начальника, 49 раненых и 3490 кг грузов.
Историк Г. Ванеев, долгое время занимавшийся изучением второй обороны Севастополя, приводит такой факт: «Когда к самолёту подходили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский и член военного совета флота дивизионный комиссар Кулаков, их узнали. Скопившиеся на аэродроме воины зашумели, началась беспорядочная стрельба в воздух… Но их поспешил успокоить военком авиационной группы Михайлов, объяснив, что командование улетает, чтобы организовать эвакуацию из Севастополя».
Свидетель эвакуации Ф. Октябрьского лейтенант В. Воронов писал в воспоминаниях, что командующий флотом прибыл к самолёту, переодевшись в какие-то гражданские обноски, «в потёртом пиджаке и неказистой кепке». Подобного рода зрелище произвело на присутствующих очень плохое впечатление.
Другая часть руководящего состава армии и партийных чинов (во главе с генералом Петровым) с членами их семей и ценными вещами незаметно бежали из Севастополя на двух подводных лодках Щ‐209.
Начальник отдела укомплектования Приморской армии подполковник Семечкин рассказывал: «Мы шли на посадку на подводную лодку. Я шёл впереди Петрова. В это время кто-то из толпы стал ругательски кричать: “Вы такие-разэдакие, нас бросаете, а сами бежите”. И тут дал очередь из автомата по командующему генералу Петрову. Но так как я находился впереди него, то вся очередь попала в меня. Я упал… Людей с причала переправляли на небольшом буксире “Папанин” на подводные лодки. На лодки попадали только счастливчики, имевшие пропуска за подписью Октябрьского и Кулакова».
Официально Севастополь покинули 600 человек руководящего состава армии и партработников, но на самом деле их было 1228 человек. Те командиры и политработники, которым не хватило места в самолётах и подлодках, загрузились на небольшой катер № 112 и в ночь на 2 июля, выйдя в море, были на рассвете обнаружены и пленены итальянскими торпедными катерами. Допрашивавший генерала Новикова Манштейн обратил внимание на то, что пленённый советский генерал одет в форму рядового (!), и немедленно приказал переодеть его в соответствующее обмундирование.
79 956 оборонявших город солдат были оставлены на верную гибель и плен. Даже нацистский фельдмаршал Паулюс не покинул обречённые на гибель и плен свои войска под Сталинградом, он разделил их участь.
3 июля оборона Севастополя, продолжавшаяся 250 дней, завершилась поражением, и весь Севастополь был оккупирован гитлеровскими войсками. Заняв город, немцы заявили о захвате 100 тыс. пленных. В качестве трофеев немцам достались 758 исправных миномётов, 622 орудия, 26 танков.
Выживший снайпер из 25‐й Чапаевской дивизии вспоминал: «Когда нас уже пленными гнали, немцы смеялись: «Дураки вы, иваны! Вам надо было ещё два дня продержаться. Нам уже приказ дали: два дня штурм, а затем, если не получится, делать такую же осаду, как в Ленинграде!» А куда нам было держаться! Всё начальство нас бросило и бежало. Неправда, что у нас мало было боеприпасов, всё у нас было. Командиров не было. Если бы начальники не разбежались, мы бы города не сдали…»
А вот что писал на эту же тему в мемуарах «Утерянные победы» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, который командовал 11‐й армией вермахта, наступавшей на Севастополь в июне – июле 1942‐го года: «…судьба наступления в эти дни, казалось, висела на волоске. Ещё не было никаких признаков ослабления воли противника к сопротивлению, а силы наших войск заметно уменьшились… кто мог бы в тот момент, видя, как заметно иссякают силы наших храбрых полков, дать гарантию в скором падении крепости?»
А теперь о цинизме советско-сталинского режима. Последний абзац сообщения Совинформбюро от 4 июля 1942 г. звучал так: «Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя – вице-адмирале Октябрьском, генерал-майоре Петрове… – войдёт в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц». Есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть ложь кремлёвская… Советские войска не оставляли Севастополь. Наоборот, это их оставило там, бросило на произвол судьбы собственное командование: Октябрьский, Петров, Заяц.
Вскоре после этих событий была учреждена медаль «За оборону Севастополя». Первые её номера получили… Октябрьский, Петров, Заяц и прочие из списка 1228 фамилий. В 1958 г. адмирал Ф. С. Октябрьский получил звание Героя Советского Союза, стал почётным гражданином Севастополя; его именем назвали боевой корабль, учебный отряд Черноморского флота, улицу. Генерал армии И. Е. Петров в 1945 г. стал Героем Советского Союза, был награждён пятью орденами Ленина, двумя полководческими орденами…
Неудачи Красной армии в районе Любани, под Харьковом и в Крыму позволили противнику, вновь захватившему стратегическую инициативу, приступить к осуществлению собственного плана на южном участке советско-германского фронта. Он состоял в уничтожении войск РККА западнее Дона с целью захвата нефтеносных районов Кавказа. В конце июня, нанеся удар на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов, немцы прорвали оборону советских войск и стали быстро продвигаться в направлении Воронежа и к Дону. 6 июля был частично захвачен Воронеж. Южнее противник отбросил наши войска за Дон и продолжал развивать наступление по западному берегу реки к югу, стремясь во что бы то ни стало выйти в большую излучину Дона. К середине июля стратегический фронт Красной армии оказался прорванным на глубину 150–400 км, что позволило вермахту развернуть наступление в большой излучине на Сталинград. С захватом немцами Ростова-на-Дону (24 июля) и форсированием Дона в его нижнем течении непосредственная угроза нависла и над Северным Кавказом.
Войска Юго-Западного, Южного и Брянского фронтов понесли тяжелейшие потери. Чтобы восстановить устойчивость стратегической обороны, Ставка ВГК вынуждена была использовать значительную часть своих резервов – шесть общевойсковых армий и шесть танковых корпусов.
В соответствии с директивой, подписанной А. Гитлером 23 июля, группа армий «А» должна была наступать на Кавказ, а перед группой армий «Б» поставили задачу, носившую вначале вспомогательный характер – силами 6‐й армии генерал-полковника Ф. Паулюса овладеть Сталинградом. Правда, уже 30 июля это решение было пересмотрено, и сталинградское направление стало приоритетным, сюда с кавказского направления была повёрнута 4‐я танковая армия. Из города, лежащего на второстепенном направлении, Сталинград быстро превратился в ключевой пункт, где решалась судьба всей кампании 1942 года.
Вероятность того, что вермахт может предпринять наступление на сталинградском направлении, советское командование не исключало и ранее. Чтобы отразить немецкое наступление в большой излучине Дона, Ставка ВГК ещё 12 июля 1942 г. образовала Сталинградский фронт (командующий – маршал C. K Тимошенко, затем генералы В. Н. Гордов, А. И. Ерёменко), перед которым была поставлена задача занять рубеж западнее Дона и не допустить прорыва противника.
Несмотря на то, что соединения 6‐й армии уступали войскам Сталинградского фронта в живой силе, артиллерии и особенно в танках, им удалось к концу июля добиться заметных успехов. Немцы смогли на двух участках выйти к Дону, создав угрозу окружения 62‐й армии в междуречье Дона и Чира. В ходе контрудара Сталинградский фронт потерял бóльшую часть имеющихся у него танков, лишившись бронированного «кулака», и оказался не в состоянии изменить обстановку к лучшему.
Бесспорно, сказывалось недостаточное умение высшего командного звена управлять большими массами живой силы, бронетанковой техники и другими средствами боя. Но надо прямо сказать, что поражение советских войск было во многом обусловлено и ярко выраженным оборонительным синдромом.
Отходили на многие сотни километров, отходили, разумеется, с тяжёлым сердцем, уступая более изощрённому противнику, но в мозгу у многих теплилась успокоительно-предательская мысль: Россия велика, авось враг не проглотит всю, подавится.
Двухмесячное поспешное отступление, а порой и бегство действовали на людей угнетающе; стойкость, упорство, воинская дисциплина дали глубокую трещину. В те самые июльские дни 1942 г. в ЦК ВКП(б) направил письмо полковник Тётушкин, командир 141‐й стрелковой дивизии, которая занимала оборонительный рубеж в районе Воронежа. Офицер, прошедший ещё школу Первой мировой войны, стал свидетелем беспорядочного отступления наших войск, о чём он с огромной болью писал секретарю ЦК Г. М. Маленкову: «Какую же картину отхода армий Ю. З. (Юго-Западный) и Брянского фронтов я наблюдал? Ни одной организованно отступающей части я не видел на фронте от Воронежа на юг до г. Коротояк. Это были отдельные группки бойцов всех родов оружия, следовавшие, как правило, без оружия, часто даже без обуви, имея при себе вещевые мешки и котелок. Попутно они (не все, конечно) отбирали продовольствие у наших тыловых армейских учреждений и автомашины. Кто идёт с винтовкой, то она обычно ржавая (а производства 1942 г.). Картина эта мне знакома по прошлому году».
Полковник Тётушкин обращал внимание на недостаточную стойкость и плохую обученность пехоты, отсутствие беспрекословного повиновения младшего старшему, особенно в звене младший командир – боец. О какой дисциплине можно говорить, если бойцы на походе или вообще вне боя бросали противогазы, сапёрные лопатки, шлемы, оружие (даже пулемёты), лошадей. «Противник в отношении дисциплины намного сильнее нас», – замечал комдив, вспоминая немецких пленных, которых гнали десятки километров до советских штабов и у которых всё было цело до последнего личного номерка, у всех обязательно вычищены сапоги и выбриты лица.