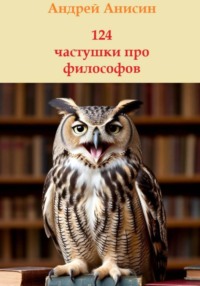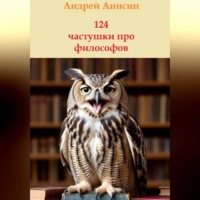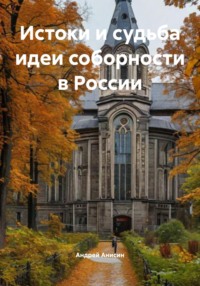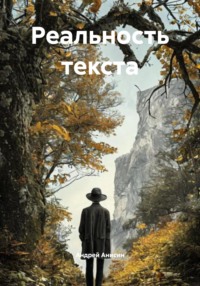Полная версия
Мыслить мир осмыслить жизнь: Статьи по философии
Человек способен отгораживаться от духовного бытия, отрицать реальность духовных законов. Более того, – человек склонен к этому. Такое самоопределение воли есть причина духовной гибели человека. На языке религии такая склонность человека к отпадению от полноты бытия называется грехом. Первичный грех, несколько неудачно называемый первородным, имел своими следствиями расслабление воли, помрачение ума и воспаление чувств, а в качестве своего итога – смертность, тленность, страстность человеческой природы. «И человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им», – говорит об этом Славянская Псалтирь.
Такая поврежденность человеческой природы является причиной того, что человек утрачивает целостную полноту своего бытия и становится неспособен ее восстановить своими силами. Борьба с грехом, о которой говорит религия, – это и есть главное содержание духовной жизни, усилие к обретению целостного бытия. Речь при этом, конечно, не идет только о внешнем поведении, речь идет об «очищении сердца», об исправлении внутреннего существа человека. И вот, – опыт говорит, – чем успешнее эта борьба, тем глубже открывается человеку бездна греха. Чем более очищает человек свое сердце от страстей, убивающих целостную жизнь души, тем яснее видит он глубину своего отпадения от Бога. А это открытие – необходимое условие воссоединения с Богом. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мф. 9: 12, Мр. 2: 17, Лк. 5: 31), считающий себя праведником не чувствует нужды в спасении от Бога.
Слезы покаяния и страх Божий являются началом настоящей духовной жизни. Плод духовной жизни заключается в любви, которая изгоняет всякий страх и всякий плач и соединяет человека с Богом. Святитель Игнатий (Брянчанинов), обобщивший святоотеческое учение о духовной жизни, приводит по этому поводу слова преподобного Симеона Нового Богослова: «Страх в любви отнюдь не обретается, так как, в противоположность этому, душа не приносит плода без страха. Поистине чудо, превысшее слова, превысшее всякого помышления! Древо с трудом процветает и приносит плод; плод же, напротив, искореняет все древо, и пребывает плод, пребывает один. Как плод без древа? никак не могу объяснить. Однако он пребывает, однако он есть, любовь эта без страха, родившего ее» [Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание творений в шести томах. Том первый : Аскетические опыты : Часть первая. – М. : Правило веры, 2004. – С. 246].
Ступенями духовной жизни, таким образом, являются, во-первых, стремление во главе своей жизни поставить дух. Во-вторых, – познание на опыте борьбы с грехом своей немощи. При этом если даже до того веры у человека не было, то тут она рождается. И в-третьих, – стремление поставить во главе своей жизни Бога.
Синергийная соборность бытия мира
Исходным пунктом философии всегда является некое «впадение в философскую ситуацию». Смысл этой ситуации заключается в том, что человек встает на край своей обыденности перед лицом необычайности бытия как такового. Эта ситуация, в которой рождается вопрошание о сущности и смысле бытия, возникает благодаря выдвинутости человека в Ничто, благодаря выступанию человека из границ осмысляемого бытия, – только так бытие может быть поставлено под вопрос.
Первое, что происходит в этом случае, – мир, повседневно обступающий человека бесконечно и сплошно простирающейся плотностью, обнаруживает свою разомкнутость. «Сквознячки небытия» пронизывают все пространство человеческой жизни, мир человека «негерметичен». «Как верно то, что мы никогда не схватываем все сущее в его безусловной совокупности, так несомненно и то, что мы все же нередко видим себя стоящими посреди так или иначе приоткрывшейся совокупности сущего. Охват совокупности сущего, собственно говоря, по самой своей природе отличается от ощущения себя посреди сущего в целом. Первое в принципе невозможно. Второе постоянно совершается в нашем бытии» [Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – С. 20]. Эта вот «совокупность сущего», охватить которую невозможно в принципе, но стоящими посреди которой человек обнаруживает себя постоянно, – это «сущее в целом» называется по-русски Мир.
Мир есть первый предмет философии в той мере, в какой вообще возможно деление предмета философии на предметы и насколько вообще возможна очередность этих предметов. Посреди «совокупности сущего», в «просвете бытия» одновременно с проблематизацией мира и именно вследствие ее для человека делается возможным и необходимым обращение к пониманию собственного бытия и сверхбытия Абсолютного. Прежде чем по-настоящему встретиться с самим собой и с Богом, человеческое существование встречает на своем пути мир. Именно из этой встречи один на один лицом к лицу с миром и рождается то удивление, которое есть «начало философии».
Мы не имеем, конечно, возможности проследить этимологию и употребление на разных языках слов, обозначающих мир, а потому позволим себе ограничиться помощью того русского языка, на котором пытаемся философствовать. Очень примечательно то, каким образом дается в словаре В.И. Даля слово мир: «МИР, (мiръ) м. – вселенная; вещество в пространстве и сила во времени (Хомяков). // Одна из земель вселенной; особ. // наша земля, земной шар, свет; // все люди, весь свет, род человеческий; // община, общество крестьян; // сходка» [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, Т. 2. – М.: Русский язык, 1989. – С 330].
Как известно, старая русская орфография разделяла на письме «мiр» в вышеприведенном значении и «мир» в смысле «отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие», согласно тому же В.И. Далю [Там же. – С. 328]. Однако, эти два смысла разделены были искусственно, эти два слова – по существу суть одно, в отличие от третьего сходного с ними по звучанию слова «миро» (мvро), имеющего при этом внешнем сходстве совсем другие корни – от греческого muvron, «благовонное масло».
Этимологический словарь Максимилиана Романовича Фасмера не разделяет эти два смысла слова «мир», рассматривая его как именно одно слово, определяя его как «весь мир, народ, спокойствие, согласие» [Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (перев и доп. О. Н. Трубачева). Т. 1-4. – М.: Прогресс, 1964-73. – Т. 2, С. 626]. Фасмер указывает на то, что одним и тем же словом миръ переведены греческие слова eirene и kosmos в древнерусских письменных памятниках – Остромировом Евангелии и Супрасльской рукописи. Из приведенных далее в словаре родственных слов видно, что базовым являлся смысл «мира» как «согласия»: созвучные болгарские, сербохорватские, словенские, чешские, польские, нижнелужицкие слова означают «покой, согласие, свет, спокойствие». Слову «мир» «родственно др.-лит. mieras "мир, спокойствие", лтш. miêrs – то же, далее алб. mirё "хороший" (…) др.-инд. mitrás "друг"» [Там же].
Итак, если греки именовали ту обступающую их «совокупность сущего в целом», посреди которой обнаруживает себя человек, впадая в «философскую ситуацию» kosmos’ом, то есть «украшением, нарядом и красою, – благопристойным порядком», то русский язык именует эту совокупность мир’ом, видя в ней (по Далю) «отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружбу, доброжелательство; тишину, покой, спокойствие».
Невозможно, конечно, думать, что наши предки, таким вот образом увидевшие мир, не видели в нем вражды, несогласия и войн, разлада и беспокойства, но, видимо, эти неискоренимые, казалось бы, элементы действительного существования были относимы не к самому миру, а рассматривались как нечто привнесенное, как некая «немирность мира». Миру должна быть присуща мирность, в этом открывается его сущность. Употребляя здесь и в дальнейшем выражение «мирность мира», хотим упомянуть, что М.Р. Фасмер указывает на аналогию этимологических корней слова «мир» и слова «милый». Как один из литургических текстов говорит о «милости мира», приносимой нами Богу вместе с «жертвой хваления», – имея в виду «мир» как сердечное согласие и взаимную любовь, – так, продолжая эту мысль, можно и нужно говорить о «мирности мира», имея в виду как мирность мiра, так и мiрность мира, совмещая в этом выражении «ладность мироздания» и «вселенскость согласия». Это не является простою игрой слов, этими словами открывается возможность настоящего осмысления мира в качестве первого предмета философской мысли. И надо отметить , что в этом отношении русские установки миросозерцания вполне согласуются с выраженным в мифологии умонастроением других культур, что позволяет говорить об архетипичности такого восприятия мира человеком.
Даже в том случае, когда мир видится как арена соперничества неких мифологических персонажей, как непрерывно воспроизводящее свою интригу противоборство двух или даже многих сил, – и в этом случае предполагается, что мир не был таким изначально, что кто-то когда-то стал инициатором розни, затеяв противостояние. Начался же мир как согласие, и в основе своей продолжает этим согласием держаться. И даже если Гераклит, например, утверждает, что «отец всего – Полемос (Война)», то все-таки даже здесь «Всё», отцом которого является война, являет свою сущность как Логос, как едино-связный смысл. И хотя Гераклит говорит, что рождает всё именно противоборство, что оно продуктивно, однако при этом: «Кто намерен изрекать свой логос с умом (xyn noo), те должны крепко опираться на общее (xyno) для всех… Ибо все человеческие законы зависят от одного божественного: он простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и [все] превосходит» [Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – М.: Наука, 1989. – С. 197]. А «большинство» людей, которое «обжирается как скоты» [Там же. – С. 244] и живет так, «как если бы у них был особенный рассудок» [Там же. – С. 198], заблуждаются, потому что «они не понимают, как враждебное находится в согласии с собой» [Там же – С. 199].
Несомненно, та же интуиция согласия в качестве истока мирового бытия лежит в основании китайского понятия Дао. Первое, что говорит классический текст: «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао» [Лао Цзы Дао дэ цзин. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – С. 205]. Однако при всем своем ускользании от определений Дао все-таки ощутимо, – не правя ничем, оно объемлет всё, «и если, избавясь от желаний, я обрету спокойствие, то Поднебесная сама придет в порядок» [Там же. – С. 243]. Проблема только в том, чтобы отказаться от своеволия, выражающегося в сознательных усилиях сделать что-то. И, хотя даосы резко противопоставляли себя конфуцианцам, стремившимся как раз сознательными усилиями и предписаниями навести порядок в мире, в основе конфуцианства лежит та же интуиция «воли Неба», как того благотворного начала, верность которому способна вернуть в мир порядок.
Христианское видение мира имеет в своем основании идею творения. В этом – корень своеобразия христианского мировоззрения по отношению ко всем перечисленным выше концепциям. Последовательно проведенный монизм очень хорошо обосновывает единство мира и сводит к этому единству всякую противоположность и враждебность. Но при этом самодостаточный мир – по Гераклиту ли, по Лао Цзы ли – вместе со всеми иными противоположностями делает моментом единства и всякое личностное начало, всякую вообще индивидуальность. Личность и индивидуальность могут, конечно, и не объявляться при этом иллюзией, но при всей своей реальности, зримости и действительности они становятся именно моментом целого, может быть диалектическим, но никак не самодеятельным. «Человек следует Земле. Земля следует Небу. Небо следует Дао. Дао же таково само по себе» [Там же. – С. 230]. Последние слова буквально звучат: «Дао следует естественности», но понимать это следует в смысле: «Дао следует естественному закону, который заключен в нем самом», то есть «следует само‑естественности, собственному естеству» [См. об этом: там же. – С. 352-353].
Последовательно проведенный дуализм знает действительное личностное самоопределение индивида в мировой войне добра и зла, но при этом превращает мир (созданный, конечно, как совершенная гармония и порядок) в непредсказуемую игру случая, где каждое событие в отдельности имеет свой смысл, но весь мир в целом никакого смысла не имеет. Согласие в таком мире, «мирность этого мира» располагается где-то у самых его истоков, оно неактуально и невозвратимо. Плюрализм же доведенный до логического конца просто опрокидывает мировоззрение в мифологию, выражающую принцип согласия только на уровне поэтического чувства и не оставляющую для этого принципа никакого онтологического основания.
По-настоящему осмыслена «мирность мира» может быть только в свете идеи творения. Мир – не абсолютен, мир – не Бог, и Бог – не мир. Никакая вещь в мире, никакая сфера в нем, ничто из того, что есть, ни даже вся совокупность сущего в целом – не самостоятельны, не абсолютны, не самодостаточны. Но при этом каждая вещь и вся совокупность сущего укоренены в замысле Творца, – не в Боге, а в Божьем замысле. Ничего нет в мире такого, что не восходило бы к этому замыслу, вся совокупность сущего промыслительно устроена и все события в этом мире промыслительно направлены.
Мировое целое есть мирное со‑гласие вещей. При этом мир не монолитен, каждая вещь в нем – не просто некий абстрактный момент целого, она имеет свою собственную соотнесенность с Творцом. Вещи не замкнуты в мире, не детерминированы целиком в своем бытии внутримировым единством сущего, – они испытывают на себе также и прикосновение Промысла Божьего. Даже если такая соотнесенность пассивна и безлична – что, видимо, имеет место в случае неорганической природы и вообще внечеловеческого мира – то даже и здесь очень важен факт принципиальной разомкнутости бытия мирового сущего, его открытости к провиденциальному воздействию.
Именно непосредственная соотнесенность всякой вещи с Абсолютом обуславливает возможность реального многоголосия в мире, того многоголосия, которое является логической предпосылкой согласия. Вещи – разные, каждая из них уникальна, в силу ее уникальной соонесенности с Творцом, но все они со‑гласны, они со‑гласуют свои голоса. Точнее сказать, это согласование вещей есть, конечно, в первую очередь действие Промысла, и уже как следствие это согласование обеспечивается ориентированностью каждой вещи на этот согласующий Промысл, – их голоса со‑гласованы потому, что «всякое дыхание – да хвалит Господа!».
То единство мира, которое предполагается последовательно христианским мировоззрением, наилучшим образом может быть охарактеризовано как соборное единство. При этом такое понимание мирового целого позволяет, на наш взгляд, выстроить наиболее глубокую и полную онтологическую концепцию. Идея соборности дает тот высший принцип единства, с точки зрения которого в полной мере может быть понято всякое иное единство в мире.
Одно из самых популярных в наше время направлений мысли, синергетика ведет, если внимательно разобраться, именно к соборному пониманию мира. Нам необходимо подробнее остановится на теме синергетики, чтобы вычленить ее плодотворный мировоззренческий потенциал и отделить его от искажений. Дело в том, что синергетика в общественном сознании оказалась существенным образом мистифицирована. Причем это относится не только к сознанию обывателя, но и к мировоззрению многих ученых. В своей научной деятельности они, конечно, мыслят вполне научно, однако, переходя к мировоззренческим вопросам, недопустимо экстраполируют некорректно понятые принципы синергетики на мировое целое. Некорректность эта связана с выдвижением на первый план идеи самоорганизации самодостаточного мира.
Такая установка обусловлена, видимо, отчасти названием легендарной книги Ильи Романовича Пригожина и Изабеллы Стенгерс «Порядок из хаоса». Однако, – самоорганизация вовсе не является единственной и главной темой книги И.Р. Пригожина и И. Стенгерс. Тематика книги гораздо более широка и, используя терминологию самих авторов, гораздо более нелинейна, чем простое утверждение того, что порядок возникает сам собой. Впрочем, очевидно, что авторам, действительно, хотелось бы продвинуться в направлении разработки концепции самоорганизующейся Вселенной, – конечную цель они видят именно в обосновании материальной самопроизвольной эволюции мира.
Однако синергетический подход вовсе не обязательно должен быть связан с идеей самодостаточности мира. Синергетика вовсе не обязательно отрицает идею творения мира, напротив, именно в свете идеи творения синергетика, на наш взгляд, раскрывается в своем истинном значении. Весь пафос синергетики заключается в утверждении особой роли открытых систем, в рассмотрении всякой системы как открытой, а значит способной в неравновесном состоянии к непредсказуемым флуктуациям. И в то же время мир в целом аксиоматически полагается закрытой системой: «Какая система может быть изолирована лучше, чем наша Вселенная?» – риторически восклицают Пригожин и Стенгерс [Пригожин И. Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: Пер. с англ.. Изд. 4-е стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 112]. В некотором смысле такая позиция вполне понятна: именно в разработке теории «открытых систем» синергетика видит возможность «спасти» замкнутую, закрытую систему Вселенной от деградации, предполагаемой вторым началом термодинамики, и неизбежной в этом случае «тепловой смерти». Но почему бы не посмотреть именно с другой стороны?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.