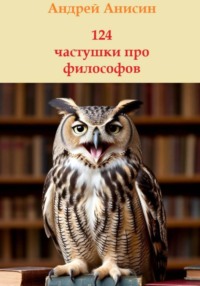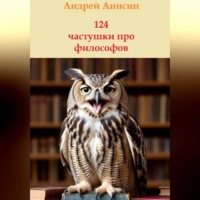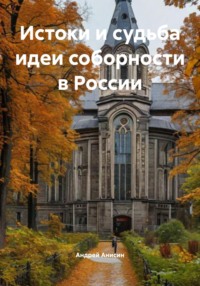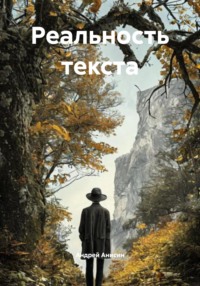Полная версия
Мыслить мир осмыслить жизнь: Статьи по философии
В самостоятельном решении мировоззренческих проблем заключается самая главная свобода человека, – свобода самоопределения в мире. Самому сознательно выстроить свое мировоззрение – это означает самому сознательно определить, кто ты есть в этом мире, на каких принципах будет основываться твоя жизнь. Главная задача философии заключается в том, чтобы помочь человеку эту свободу обрести. Такая свобода, обретение ее – самое главное, самое нужное, но и самое трудное дело, недаром один из величайших философов XX века сказал про философию, что «ее изначальная задача – делать вещи более тяжелыми (трудными), более сложными» [Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник: Пер. с нем. – М., Высшая школа, 1991. – С. 146].
Постановка мировоззренческих проблем, размышление над ними предполагает особую мыслительную ситуацию, которую можно назвать «философской ситуацией». Речь идет о «внутренней ситуации», о том, чем человек «захвачен». Так, например, беседующие люди внешне все находятся в одной и той же ситуации, но внутренние ситуации могут быть самые разные: «Я и обсуждаемый Предмет», «Я и интересный Собеседник», «Я и внимающая Публика», «Я и родная Деревня»… В последнем случае человек физически находится вроде бы здесь, но мысли его далеко, он захвачен своей «малой родиной» и с нею соединен всем своим существом. Он перед ней стоит, с нею ведет разговор, он выпал отсюда и впал в свою деревню.
Так вот бывает иногда у человека такая внутренняя ситуация, когда он обнаруживает вдруг себя «наедине с миром», когда он выпадает из повседневной суеты и толкотни больших, маленьких и совсем мелочных дел и впадает в ситуацию «Я и Мир в целом», «Я и Жизнь моя», «Я перед лицом Вечности». На то бывают какие-то видимые внешние причины, например, «пограничные ситуации», описываемые Карлом Ясперсом, – глубокие потрясения или необходимость сделать очень важный шаг в жизни, от которого зависит вся дальнейшая судьба, а иногда таких видимых причин и не бывает, – ни с того, ни с сего впадает человек в очень непрактичные размышления о своем месте в мироздании, о том, как жить, и зачем она, эта жизнь, в чем смысл мира и человеческого существования в нем.
Таковы самые первые и основные темы философии: человек, взятый во всей полноте своего бытия, и мир в целом, мыслимый как Универсум. Определенное понимание человека, мира и их взаимоотношений образует основу мировоззрения. И суть мировоззренческих различий сводится именно к различному пониманию людьми себя и окружающего мира. К этим двум темам чаще всего присоединяется еще одна. Попытки понять себя в мире и мир вокруг себя вызывают вопрос о том, какова общая основа меня и мира. Я меняюсь, когда-то появился, когда-то умру, мир меняется, каждая вещь в нем появляется и исчезает, а если так, то и мир, видимо, имел начало и будет иметь конец, «ничто не вечно», но что же тогда является началом и причиной всего? Это направление мысли открывает в философии тему Абсолюта, абсолютного Бытия, то есть чего-то вечного, неизменного, незыблемого, которое было бы основой всего временного и изменчивого. В теме Абсолюта философия осмысливает то, что переживается в искусстве как Красота, в науке как Истина, в нравственном сознании как Добро, в религии как Святыня. Философия же видит в причастности к Абсолюту залог причастия к Мудрости.
Таким образом, на наш взгляд, некая «философская способность» составляет, наряду со способностями нравственной, религиозной, творческой, неотъемлемую принадлежность человеческой природы, а философствование, как сознательное культивирование этой способности, как особый модус духовной самореализации человека, образует органический элемент духовной сферы человека, который в устремленности к своему предмету интегрирует в себе плоды взлетов и озарений всех других проявлений духа. Следует отметить, что все вышесказанное подводит нас к уяснению удивительного и глубокого по смыслу факта – соборности духовной сферы в человеке. Те отношения между религией, наукой, искусством, нравственностью, философией, которые мы зафиксировали, взаимопроникающее единство и глубинные различия этих духовных практик, необходимость каждой из них для полноты духовной жизни человека и в то же время возможность восходить к этой полноте, двигаясь путями любой из них, – все это и может быть названо словом соборность.
Как правило, в современном философском языке это понятие употребляется только по отношению к человеческим общностям, а встречаются попытки вообще свести его смысл к неким этнографическим подробностям русского народа. На наш взгляд, идея соборности имеет громадный неосвоенный и даже еще невостребованный потенциал в качестве общего онтологического принципа. То есть соборное единство является наиболее глубокой характеристикой и принципом понимания всякого бытия: бытия человека, общества, природы, культуры. Проведенный здесь нами анализ внутренней взаимосвязи духовной деятельности человека предварительным образом раскрывает соборный характер существования и осуществления сил духа, – их неразрывное единство, в котором каждая из них обретает свой уникальный путь и опыт вхождения в полноту духовного бытия, свое уникальное самораскрытие. Притом, что эта уникальность, имея исток не в обособлении, а в любви, как раз и обеспечивает неразрывность единства.
Онтология духовности
Философия вряд ли когда-то переживала легкие времена, однако современное состояние философской мысли – как мировой, так и отечественной – кажется нам особенно критическим. И вопрос, конечно, не в том, что философам нечего сказать, говорят они много и успешно, от направлений современной философской мысли порой рябит в глазах, но в «сухом остатке» от этих речей остается ощущение, что сказать-то все-таки нечего. Красноречиво говорить и глубокомысленно молчать мы умеем, но говорить о настоящем и молчать так, чтобы дать этому настоящему место, – вот этого очень не хватает. После ознакомления с недавно вышедшим сборником «Кто сегодня делает философию в России» [М.: Поколение, 2007. – 576 с.], складывается впечатление, что, во-первых, большей частью – «никто и звать никак» (хотя в сборник вошли также – меньшей частью – и весьма известные и интересные мыслители), во-вторых, – если это философия, то значит философия скончалась (имея в виду в том числе и то, что пишут действительно известные и интересные мыслители).
Налицо, как минимум, задача возвращения философии статуса серьезного и жизненно значимого занятия. Может быть, при этом понятного не всем сразу, но значимого и важного для всех, а не только для «внутреннего употребления» профессиональных философов. А чтобы такая значимость была возможна, необходимо продемонстрировать, кроме остроумных суждений по частным вопросам современной жизни, еще и способность что-то настоящее сказать в ответ на главные вопросы человеческого бытия.
Можно дискутировать о том, есть ли вообще у философии некий «основной вопрос», а также о том, как его лучше сформулировать, но все-таки центральная, корневая проблематика философской мысли лежит именно в прояснении принципиальной онтологической позиции человека. Все философские вопросы вырастают из этого первичного вопрошания о сути мира вокруг меня и о статусе моего присутствия в этом мире. Тема духовного бытия ближайшим образом относится к существу этого первичного вопрошания.
Проблема человека имеет в философии фундаментальное значение не только потому, что человек сам для себя интереснее всего, но и потому, что он объективно, так сказать, занимает в мире особое место. Сама возможность философского вопрошания, предполагающая противопоставленность человека и мира, указывает на особый характер человеческого существа. Часть и целое не могут быть сторонами отношения, поскольку целое целиком включает в себя эту часть, как и все свои части, а если эту часть оно в себя не включает (или включает не целиком), то оно перестает быть целым. Можно говорить о функциях и роли части в рамках целого, о связи и соотнесенности ее с другими частями, но никак не о взаимоотношениях ее с тем целым, за рамками которого ее нет. Человек не есть часть мира, – это сознание так или иначе сказывается в любой человеческой культуре. «Слитность с природой» как в случае примитивных культур, так и в форме высокоумного современного «экологизма» есть продукт мировоззренческой деградации. И даже в этих деградированных формах мировоззрения все-таки так или иначе сохраняется память о том, что человек – особое существо.
Попытки свести человека к общеприродным свойствам, закономерностям и ритмам всегда оборачивается урезанием сущности человека. Человек не сводим к миру, он не просто обнаруживает в себе нечто необъяснимое логикой этого мира, но и в своем самоосуществлении постоянно трансцендирует себя, свободно и творчески относясь и к миру, и к самому себе. Через всю историю человеческой мысли проходит тенденция имманентизма, пытающаяся не замечать неотмирного мотива в человеческом бытии. Борьба с этой тенденцией, борьба за полноту понимания и осуществления человеческого бытия есть, на наш взгляд, сердцевинная тема и главный смысл истории философии. И, несмотря на прошедшие тысячелетия, напряжение этой борьбы нисколько не ослабло.
До сих пор вопрос: чем же действительно и существенно отличается человек от животного мира, – опутан имманентизмом почти беспросветно. Массовое сознание в этом вопросе предельно парадоксально (чтобы не сказать шизо‑френично): с одной стороны, эти отличия, конечно же, есть, но в то же время, стоит только о них задуматься, как их уже и нету. Ситуация, обнажающая этот парадокс, блестяще смоделирована в романе Веркора «Люди или животные?». Все привычные критерии отличия человека от животного мира, – разум, язык, труд, общественная структура, не говоря уже о попытках найти физически-анатомически-биологические критерии, – оказываются бесплодны. Этим человек не отличается от животных. Все это есть и в животном мире. А вопросы о степени и специфике проявления этих качеств в человеке оказываются неразрешимы. Сколько надо иметь разума, чтобы быть человеком? Насколько должен быть развит язык, чтобы быть человеческим языком? Где грань, отделяющая использование орудий животными от труда человеческого? Любой точный ответ на эти вопросы грозит либо некоторых животных причислить к людям, либо некоторых людей отнести к животным, а зачастую обе эти ошибки совершить одновременно. Зайдя в этот тупик, обычно объявляют, что переход от животного мира к человеку очень плавный и, по существу, кардинальных отличий в этом переходе выделить невозможно.
Между тем, настоящие кардинальные отличия человека от животного мира существуют, они были известны, пожалуй, всегда, хорошо известны они и тем людям, которые заходят в вышеозначенный тупик и декларируют отсутствие отличий. Позволим себе высказать догадку: господство над умами эволюционистской парадигмы заставляет называть те отличия, которые настоящими отличиями не являются, и не замечать – как очки на собственном носу – те настоящие отличия, которые и на эмпирическом уровне (который был важен в упомянутом романе Веркора), и на предельно глубоком онтологическом уровне однозначно и резко выделяют человека из всего окружающего мира.
Человека отличает от всех прочих существ наличие духовных способностей. Религиозная способность, нравственная способность, творческая способность, – вот то, что есть у всех людей, независимо от исторических, культурных, социальных условий, независимо от уровня интеллектуального развития личности и общества, и то, чего нет ни у кого из животных, независимо, опять-таки от степени их разумности, коммуникативности, богатства эмоциональной жизни и т.д. Духовные способности проявляются у человека по разному, в разной степени и разной форме, эти различия зависят от перечисленных условий, но само их наличие есть общечеловеческий факт. Умственно отсталые люди, даже уступая по степени интеллектуального развития некоторым животным, демонстрируют, тем не менее, наличие религиозных и нравственных чувств, творческой способности. Их умственная неполноценность зачастую ограничивает их в степени проявления духовных способностей, но эти проявления есть, их можно ясно видеть. Более того, как показывает практика, обращение к этим духовным способностям, опора на них, культивирование их дает существенный прогресс и общеинтеллектуального уровня, позволяет в какой-то мере реабилитировать умственно неполноценного человека.
Попытки редукции духовных способностей к «естественности» мира никогда не могут преодолеть того очевидного факта, что и нравственность, и религия противоестественны, а точнее – сверхъестественны по своей сути. Естественная жизнь учит безнравственности, ее закон – закон естественного отбора, «закон джунглей», в просторечии. Никуда за свои рамки, ни к каким религиозным сущностям мир вывести не способен, скорее наоборот, – он стремится целиком подчинить себе человека, поглотить его своей естественной логикой, представая самозамкнутым и самодостаточным космосом (в античном смысле).
Человек трехсоставен, его природа представляет собой единство тела, души и духа. Эти три уровня природы человека соответствуют трем уровням иерархии бытия вообще, как такового. Есть бытие физическое (материя), есть бытие органическое (жизнь), и есть бытие духовное. Живое существо, конечно, обладает материальностью и подчинено законам физики, но сама жизнь, как особое качество его бытия, не может быть выведена из этих законов. При всем многообразии разделов физики, – твердое тело, электростатика и электродинамика, оптика, акустика, квантовая механика, астрофизика, – все без исключения физические явления сводятся к четырем видам взаимодействий: гравитация, электромагнитная сила, и внутриатомные взаимодействия – сильное и слабое. Все в физике сводимо к ним и выводимо из них. Жизнь – иной способ бытия: осуществляясь внутри физического мира, жизнь не сводима к нему и не выводима из его законов. Как из свойств бумаги и типографской краски никак не выводим технологический процесс печатания книги, так и из свойств материи (в единстве всех ее способов организации) не выводим организм в своем органическом бытии.
Еще большую степень автономии имеет духовное бытие. Хотя оно и осуществляется в человеке с опорой на его телесно-душевную жизнь, никак не выводимо из этой жизни. Также как – продолжим начатую аналогию – даже если к физическим свойствам бумаги и типографской краски приплюсовать все типографские и издательские технологии, то и из всего этого никак не выводится то содержание и смысл, которые доносит до нас книга. Более того, содержание и смысл книги вовсе не нуждаются для своего бытия в типографиях, содержание и смысл существуют совершенно отдельно от типографского тиражирования и даже от авторской рукописи, – и рукопись и тиражирование есть лишь способ открыть и донести смысл. Духовное бытие, которое человек в себе самом знает, осуществляется в материально-органической феноменальности, но само по себе не нуждается в ней.
Разрыв между духовным бытием и двумя низшими уровнями бытия еще более радикален, чем разрыв между физическим и органическим бытием. Органическое бытие, хоть и не выводимо из физики и существует «поверх» ее логики, но только на основе физического бытия способно осуществляться. Духовное бытие, хоть и осуществляется часто через телесно-душевную природу человека, но в принципе для своего осуществления в ней не нуждается. Еще раз продолжая нашу аналогию, – печатание книги не выводимо из физических свойств бумаги и краски, но только через бумагу и краску оно возможно, а вот сотворение смысла может, конечно, вылиться в напечатанную книгу, но в принципе не нуждается ни в печатном, ни даже в рукописном выражении.
И все-таки, замысел книги – еще не книга, дух – это еще не весь человек. Человеческое бытие всегда полносоставно, оно осуществляется в причастности ко всем трем уровням иерархии бытия. Человек есть полнота бытия единой телесно-душевно-духовной природы. Проблема однако заключается в том, что такая полнота есть не столько данность, сколько задача. Человек, конечно, имеет свою трехсоставную природу как данность. Однако полнота бытия, о которой только что сказано, требует разумного и волевого участия человека. Человек способен свободно относиться к собственной природе и призван к тому, чтобы выстраивать верную иерархию ее частей.
Правильное, – то есть соответствующее и объективному строю бытия, и призванию человека в бытии, – устроение человеческого существа предполагает главенство духа в человеке. Душевные силы и способности человека в этом случае обращены к онтологической высоте духа, душа сама одухотворяется и является проводником для действия духа и в теле. Главенство духа обеспечивает целостную полноту бытия человека. Одухотворение души и тела, совершающееся при этом, есть их преображение и наделение смыслом. Это одухотворение не уничтожает собственного содержания душевности и телесности, а вводит это содержание в пространство духовного бытия, оно сообщает и душевной, и телесной жизни духовное измерение, онтологическую вертикаль.
Однако человек способен выстраивать свое существо и по-другому. Слово «бездуховность», является, конечно, выражением образным, – как и, например, слова «бессовестный», «безголовый». Не стоит понимать эти слова так, что совести у человека вовсе нет, просто он к ней не прислушивается, и голова у человека есть, но только такое впечатление, что он ею не пользуется. Всякий человек имеет причастность к духовному бытию, имеет духовные способности и потребности, но человек может игнорировать, – ни во что вменять, – свой собственный дух. Душа человека в этом случае обращена к телу, душа начинает жить телесными потребностями, желаниями и удовольствиями. Жизнь человека, оторванная от духа становится в этом случае ущербной, и никакие попытки обрести полноту не способны увенчаться успехом. Изначально взяв неверное направление жизни, направление отлучающее от полноты бытия, становится невозможно насытить жажду полноты экстенсивным наращиванием частичной, усеченной жизни. Святитель Феофан Затворник, подводя итог анализу многосоставной человеческой природы (помимо названных трех уровней он выделяет еще и промежуточные: душевно-телесный и душевно-духовный), пишет: «Когда удовлетворяются духовные потребности, то они научают человека поставлять в согласие с ними удовлетворение и прочих потребностей, так что ни то, чем удовлетворяется душа, ни то, чем удовлетворяется тело, не противоречит духовной жизни, а ей пособствует – и в человеке водворяется полная гармония всех движений и обнаружений его жизни: гармония мыслей, чувств, желаний, предприятий, отношений, наслаждений. И се – рай! Напротив, когда дух не удовлетворяется и сие единое на потребу забыто, тогда все другие потребности разбегаются в разные стороны и каждая требует своего, и как их куча, то голоса их, как шум на базаре, оглушают бедного человека, и он мечется то туда, то сюда как угорелый за удовлетворением их» [Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? : собрание писем. – М. : Правило веры, 2007. – С. 78].
Материалистическая философия является теоретической концептуализацией этой мировоззренческой установки, игнорирующей духовную реальность. По своему существу материализм является не просто апологией бездуховности, он есть ее апофеоз, – как в исходном смысле обожествления, так и в смысле пышного прославления и завершения. Большая Советская энциклопедия в статье «Дух» приводит выражение Ф. Энгельса о том, что дух есть «высший цвет» материи. Позволим себе напомнить контекст: «Материя движется в вечном круговороте, (…) в котором ничто не вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно движущейся материи и законов ее движения и изменения. (…) с той же самой железной необходимостью, с какой она некогда истребит на земле свой высший цвет – мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время» [Энгельс Ф. Диалектика природы. – М. : Партиздат, 1934. – с. 99]. Картина, может быть, и величественная, но явно бессмысленная. Железная необходимость вечного круговорота порождает с железной необходимостью некий свой высший цвет и сама же его пожирает, и этот цвет не приносит никакого плода, бесследно исчезая в этом круговороте…
Завершается же статья о духе в БСЭ констатацией того, что «в марксистской философии понятие дух употребляется обычно как синоним сознания». Несомненно, что цветок растения есть феномен растительный, и – стало быть – «высший цвет материи» есть феномен материальный. Кстати уж, ссылаясь на ту же БСЭ, «марксизм рассматривает сознание (синоним духа, как мы помним – А.А.) как функцию мозга, как отражение объективного мира». Даже если материя способна отражать не только другую материю, но и процесс отражения того, как в ней отражается эта другая материя, то и в этом случае ничего кроме материи, конечно, отразиться не может, и само это отражение целиком сводимо к законам материального бытия.
Материализм объявляет бытие все в целом и как таковое материальным, признавая, конечно, различные уровни его организации, но подчеркивая, что «действительное единство мира состоит в его материальности», – по хрестоматийному выражению того же Энгельса. Заметим по этому поводу, что современная наука, по мысли, Ильи Пригожина «не сводима ни к материализму, ни к детерминизму» [Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 47. И подробнее: «В 1986 г. сэр Джон Лайтхилл, ставший позже президентом Международного союза чистой и прикладной математики, сделал удивительное заявление: он извинился от имени своих коллег за то, что «в течение трех веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по крайней мере с 1960 года, что этот детерминизм является ошибочной позицией» (Там же. – С. 48). Курсив в цитате наш. – А.А.]. Однако дело даже не в материализме как таковом, он лишь наиболее резко выражает более широкую тенденцию философской мысли, ведущую к превратному толкованию проблемы духовного бытия. В начале нашей статьи эта тенденция названа имманентизмом. Не только материализм, но и различные формы пантеизма, всеединства, космизма реализуют эту тенденцию утверждения сплошного, тотального единства бытия.
На основании чего мы считаем возможным говорить о превратном характере толкования проблемы духовного бытия в традиции имманентизма? Специфика философской истины состоит в том, что она не может быть выведена рациональным образом из неких уже готовых аксиом, поскольку именно осмыслению предельных оснований человеческого бытия и познания посвящена философская мысль. Именно аксиоматическая база человеческого мировоззрения является первой проблемой философии. Эту аксиоматику мировоззрения философия нигде не может взять в готовом виде, она должна ее разработать. Правота философских идей обосновывается не указанием на основания (у аксиом и не может быть оснований), а демонстрацией следствий. Предпочтение той или иной философской концепции может быть отдано на основании того, насколько глубоко и полно она позволяет осмыслить полноту бытия.
Имманентизм в целом и материалистическая философия в частности не способны удовлетворительным образом осмыслить главные вопросы человеческого бытия: смысл жизни, добро и зло, высокие идеалы жизни. Стоя на позициях имманентизма, невозможно вообще говорить о «высоком» и «низком», поскольку и то, и другое, и третье, и далее по порядку – есть природа, круговорот материи, всеединый Абсолют, органическое единство Космоса и т.п. Бытие мира в рамках имманентизма не имеет в самом себе оснований для какой бы то ни было иерархии ценностей.
Настоящие ответы на главные вопросы бытия способна дать только верующая философия. При этом не обязательно это должна быть прямо – религиозная философия, изначально основывающаяся на положениях веры. Хороший и умный материализм там, где он говорит что-то умное и хорошее, дышит, если разобраться, тоже верой в Бога. Настоящее глубокое философствование способно привести ум к Богу, даже если изначально это философствование осуществлялось вне веры. «Философия, если отведать ее слегка, уводит от Бога, если же глубоко зачерпнуть ее – приводит к Нему», – ссылается Г. Лейбниц на известные слова Ф. Бэкона [Лейбниц Г.В. Сочинения в четырех томах. – М. : Мысль, 1982. – Т. 1. – С. 78].
Материализм вынужден фактически закрыть глаза на факт наличия как духовного бытия в человеке, так и на реальность объективного духа, не говоря уже об абсолютном. Ни объективный характер духовной реальности, ни духовный характер объективной реальности не укладываются в прокрустово ложе материалистической концепции. Человек в своем реальном бытии не укладывается в это прокрустово ложе. Материализм способен объяснить многое, особенно второстепенное, но он не способен ничего понять, особенно главное.
Человек по своей природе может быть назван духовным существом. Конечно, не в том смысле, что дух есть единственная настоящая реальность человека, а в том смысле, что духом определяется его бытие. Человек есть духовное существо в том смысле, что его жизнь всегда соотнесена с законами духовного бытия, – хочет ли этого человек или не хочет. Эти законы вполне объективны, но обращены они к свободной воле человека, они действуют не помимо человека, а в сопряжении с его волей. Не человек решает, каковы эти законы, не во власти человека отменить их действие, эти законы могут быть причиной гибели человека, но при этом действуют они только в соотнесении со свободным волеизъявлением человека. Действие этих законов есть синергия человека и Бога.