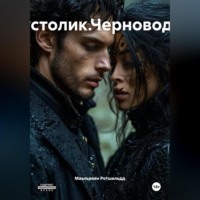Полная версия
Пустолик.Черноводье
Телевизор и радио отключаются. В открытое окно через занавески пробивается легкий ветерок.
-аЩЩЬ! (шипение кобры)
По узким улочкам ходят туристы что-то фотографируют, молодежь собираются у фонтана. В старинной церкви началась служба. Хвалебные песни слышны в каждом уголке маленького городка.
Месса Миссала 1970 года
(NOVUS ORDO)
Вступительные обряды
II Евхаристическая Молитва
В полу мраке слабо освещенной комнаты, видны элементы дорогого интерьера. Картины, статуи, старинные фрески. Дорогая кожаная мебель и аппаратура, на которую падают лучи света, пробивающиеся через плотные шторы.
Крупный план.
Сильные мужские ноги, как через макросъемку виден плотный волосяной покров, на который падает свет. Ноги, живот, руки. Камера отдаляется и перед нами предстает обнаженное стройное мужское тело. Он спит в кресле, небрежно прикрывая пенис рукой и куском шелковой ткани. Длинные и густые ресницы задрожали, и он открыл глаза. Глаза черные как смоль. Он подтягивается. Идет к окну, раскрывает шторы. Наливает виски. Делает глоток и оставляет на кухне. Идет в ванную. При свете тело его еще красивей. На этом обнаженном и хорошо сложенном теле виден каждый мускул, который при каждом движении напрягается, и становиться больше.
Ванная комната.
Он включает воду. Сильным напором раковина быстро наполнятся водой. Вода как в чайнике на плите начинает бурлить и стекать через края раковины на пол. Вся ванная стремительно начинает заполняться водой, вслед за потоками воды на пол падали и мыло предметы гигиены, различные крема и баночки с лосьонами. Что-то остается на месте и другие предметы с треском отлетают в разные части ванной комнаты. Причина забившиеся длинные волосы. Он достает их, приподнимает, чтобы рассмотреть. Делает шаг. Вскрикивает. И жуткая боль вырисовывается у него на лице. Оборачивается и видит разбитое зеркало. Осколки, разбросаны по всей ванной комнате.
Крупный план.
Из кровоточащей пятки торчит осколок зеркала. Он пытается на одной ноге добежать до полотенца, поскальзывается и падает. Лужа крови. Все его тело в крови. Пытаясь подняться опирается на одну руку и снова соскальзывает, осколки протыкают его ладони и спину. Стиснув зубы и корчась от боли одной рукой он тянется к полотенцу висящему на крючке. От такого натяжения крючок срывается с петель и отлетает в сторону а полотенце падает на него, прибивая к телу и вонзая все глубже острые осколки. Его тело изнывает от боли, сжав руку в кулак он пытается отодрать махровое полотенце от тела. Белое полотенце мгновенно окрашивается в багрово алый, не ровные осколки цепляются за ниточки материи и от натяжения тело покрывают судороги, свежие раны кровоточат. В полу бессознательном состоянии он срывает полотенце и швыряет рядом чтоб проползти по нему через осколки. Рукой дотянувшись до края раковины встает, сделав пару шагов на одной ноге волоча вторую за собой, рукой пытается открыть дверь ванной комнаты и нога в кровавом полотенце скользит о кровава красный пол. От этого он падает ударяя голову о край раковины и теряет сознание.
Мгновение.
Он испуганный смотрит на полотенце, а оно чистое. Чистое и тело и лицо. Отползает. Смотрит и видит. Чистую ванную и раковину. Нет ни волос, ни разбитого зеркало и даже осколка в ноге.
Действие третье
Учащенное дыхание. Набережная. Парк.
Я бегу.
Я убегаю или бегу от себя?
От кого я бегу и куда? Что-то распирает грудную клетку из нутри, чувствую колоссальное давление, еще вдох и меня как будто разорвет как воздушный шар. Чувство тревоги моментально прекращается от резкого столкновения с пролетающей мимо птицей.
Все в порядке это всего лишь пробежка по парку. Но что сегодня было. Может, я схожу с ума. Еще этот взгляд. Он всегда меня преследует. Еще я чувствую чье-то присутствие и дыхание за спиной. Этот кто-то наблюдает за мной.
Может, никого и нет, я просто очень много думаю о той девушке.
Возможно это усталость. Надо развеется. О ногу чувствую еле уловимый удар, остановившись осматриваюсь по сторонам, у ног лежит футбольный мяч. Осмотревшись замечаю неподалеку группу ребятишек что играют в футбол. В детстве я часто играл в футбол и мне не составило труда слегка подтолкнуть мяч к играющей ребятне…
-ащщщ-
Я лежал на полу. Доски подо мной – старые, трухлявые, пропитанные сыростью, – воняли плесенью и чем-то приторно-гнилым, как разлагающийся фрукт, брошенный в подвале. Воздух был тяжёлый, липкий, он давил на грудь, и я боялся вдохнуть – каждый глоток казался ядом. Дверь хлопнула, будто выстрел, от которого сжались внутренности. Тяжёлые шаги – медленные, уверенные – приближались, и каждая половица визжала под их весом, как живое существо, корчащееся от боли.
– Вставай, – голос отца резанул, как ржавый нож по стеклу. Я не двигался. Не мог. Тело онемело, будто чужое, только сердце колотилось где-то в горле, заглушая всё.
– Вставай, я сказал! Рука – грубая, мозолистая, как наждак – вцепилась мне в волосы. Рывок вверх был резким, словно выдергивали корень из земли. Кожа на голове закричала, натянулась до предела, я чувствовал, как волосы рвутся с мясом, а слёзы – горячие, едкие – хлынули сами, прожигая лицо. Я задохнулся от боли, но не издал ни звука – горло сжалось, как в тисках.
– Сопляк, – он швырнул меня обратно на пол, будто я был не живым, а мешком с гнилью. Тело ударилось о доски, и боль прострелила рёбра, как молния.
– Опять скулящая девка. В углу дядя качался в кресле, скрипя пружинами, его силуэт тонул в полумраке. Сквозь завесу сигаретного дыма – едкого, как уксус – он щурился, будто разглядывал добычу.
– Пусть привыкает, – голос его был низким, ленивым, но в нём сквозила угроза. – Жизнь не пожалеет.
– Мы ему поможем, – хмыкнул подросток-сосед. Его зубы – кривые, острые, как осколки битого стекла – блеснули в тусклом свете. Грязные ногти, чёрные от въевшейся грязи, скребли по бедру, будто он уже прикидывал, с чего начать.
– Научу быть мужиком. Отец коротко, сухо усмехнулся – звук, как треск ломающейся кости.
– Делай с ним что хочешь.
Я не мог пошевелиться. Сердце гремело в ушах, каждый удар – как молот по железу, заглушал всё, кроме ужаса. Тень подростка шевельнулась, надвинулась, как чёрная буря, гасящая свет. Его руки – липкие, горячие, пропитанные потом и табаком, – сдавили мне плечи, вдавили в пол с такой силой, что позвоночник хрустнул, а рёбра застонали под напором. Я вдохнул этот смрад – кислый, тошнотворный, как гниющая плоть, – и желудок скрутило, желчь подступила к горлу.
– Только не ори, – прошептал он, и его дыхание – влажное, зловонное, как пар из сточной ямы – обожгло мне шею, разлилось по коже, как кипящая смола. – Всё равно никто не услышит.
Комната сжалась. Стены – шершавые, в пятнах плесени – придвинулись, как живые, дышащие моим страхом. Они знали. Они впитывали мою панику, мою беспомощность, как губка пьёт пролитую кровь. Я дёрнулся, ударил ногами в пустоту, царапнул его руки – кожа под ногтями была скользкой, жирной, но он даже не шелохнулся. Мои кулаки бились о его грудь, как о каменную плиту, а он только сильнее вдавливал меня в пол, прижимая коленом живот, выдавливая из меня воздух.
– Гляди, какой живучий, – его смех – хриплый, рваный – резал слух, как пила по ржавому железу. Отец стоял рядом, скрестив руки, его взгляд – холодный, пустой – скользил по мне, будто я был не его кровью, а мусором под ногами. Дядя затянулся сигаретой, выпустил дым кольцами, и бросил, почти равнодушно:
– Сломается. Все ломаются. Я закрыл глаза. Его дыхание – горячее, липкое – поползло по шее, к ключицам, как ядовитая тварь, ищущая, куда ужалить. Руки сдавили мне запястья, выворачивая их до хруста – боль вспыхнула, белая, острая, как игла в кости. Я закусил губу – кровь, тёплая, солёная, потекла по подбородку, но крик застрял, сдавленный ужасом. Его пальцы впились в бёдра, раздирая кожу, оставляя багровые борозды, которые пульсировали, как открытые раны. И вот он начал. Его тело – тяжёлое, потное, как зверь, навалившийся на добычу, – придавило меня к полу с такой силой, что доски подо мной затрещали, готовые проломиться. Он рванул мои штаны вниз, ткань затрещала, цепляясь за кожу, сдирая её клочья. Я дёрнулся, но его колено вжало меня глубже, и позвоночник выгнулся от боли, как лук перед выстрелом. Его руки – грубые, жадные – раздвинули мне ноги, сминая плоть, как мясник, готовящий тушу. Я почувствовал его – твёрдый, горячий, отвратительно живой – он прижался ко мне, и в этот миг мир сузился до одной точки агонии.
Он вошёл резко, безжалостно, как нож в живое мясо. Боль вспыхнула – не просто боль, а пожар, разрывающий всё внутри. Мышцы рвались, плоть трещала, как сухая бумага, и я чувствовал, как что-то ломается, лопается, истекает кровью. Его толчки были ритмичны, но нечеловечески жестоки – каждый удар вбивал меня в пол, выдавливал из меня жизнь, как из раздавленного насекомого. Кровь – моя кровь – текла вниз, горячая, липкая, смешивалась с пылью и грязью, пока он двигался всё глубже, разрывая меня изнутри с наслаждением садиста, упивающегося своей властью.
Его дыхание ускорилось, стало хриплым, звериным, каждый выдох – как рык, пропитанный похотью. Он вцепился мне в волосы, дёрнул голову назад, выгибая шею до предела, и я услышал, как хрустят позвонки.
– Тише, тварь, – прорычал он, и его слюна – горячая, вязкая – капнула мне на лицо, стекая по щеке, как яд. Я задыхался, глотал собственную кровь, смешанную с его смрадом, и каждый его толчок отзывался во мне новой волной боли – острой, раскалённой, бесконечной. Стены дрожали, впитывая мои судорожные всхлипы, мои рваные попытки вдохнуть. Я был не человеком – куском мяса, игрушкой в его руках, и он наслаждался этим, упивался каждым разрывом, каждым моим сдавленным стоном. Его ногти впились мне в спину, оставляя глубокие борозды, и я чувствовал, как кожа лопается, как кровь сочится, стекает по бокам, пачкая пол. Он ускорился, его движения стали хаотичными, дикими, и я понял, что он близко – его тело напряглось, как струна, а рык перешёл в низкий, утробный вой.
И вот он кончил – горячая, липкая струя хлынула внутрь, прожигая меня, как кислота, усиливая агонию. Он замер на миг, вдавливая меня в пол всем весом, и я почувствовал, как его удовлетворение – тяжёлое, омерзительное – растекается по мне, как грязь. Он выдернул себя из меня с влажным хрустом, оставив пустоту, которая тут же заполнилась жгучей болью и кровью, стекающей по ногам.
– Тебе всё равно никто не поверит, – прохрипел он, отстраняясь, и его голос ввинтился мне в мозг, как последний гвоздь в гроб. Я заорал. Крик вырвался из глубины, надломленный, смешанный с кровавым кашлем. Слёзы жгли глаза, текли по лицу, смешиваясь с кровью и грязью, капали на пол, где уже растекалась тёмная лужа моего унижения. Его рука зажала мне рот – грубо, до хруста челюсти, – и я задыхался, глотая собственный страх, пока стены гудели, как свидетели этого ада.
Проснулся, задыхаясь, весь в холодном поту. Кровать. Мой дом. Тишина. Но это была не та тишина, которую я знал. Это была тишина, которая висела в воздухе, как предвестие грозы. Я уставился в потолок, но перед глазами всё ещё стояли те лица. Я ощущал их прикосновения, смех, этот тяжёлый, липкий запах их дыхания, которое щекотало мне ухо. Столько лет прошло, а я всё ещё не выбрался. Всё ещё там.
Лежал в темноте, пытаясь выровнять дыхание, заставить его быть нормальным, но оно било в грудь, как пойманная в клетку птица. Годы прошли. Десятки лет. Но я всё ещё там.
Провёл ладонью по лицу, смазав пот с кожи. Я знал, что они мертвы. Отец. Дядя. Подросток из соседнего дома. Каждый из них исчез с лица земли. Кто-то умер своей смертью, кого-то нашли в лесу – иссушенные, обгоревшие, с обугленными пальцами и скривленными губами, словно они в последний момент пытались что-то сказать. Но мне не стало легче.
Я сел на кровати. Всё было, как всегда, но всё было не так. Я чувствовал это, как холодный ветер, проникающий сквозь стены. Что-то было не на своём месте. Я знал это. Этот холодок, бегущий по спине, как ледяные иглы, – кто-то был рядом.
Я медленно повернул голову, и увидел её. Тень в углу. Чёрную, почти живую. Она не просто стояла там, она дышала. Она смотрела. Она ждала.
Я снова оказался там. В подвале. В сыром, как гниль, воздухе. Стены покрыты плесенью, запах разложения проникает в кожу. Лампочка под потолком мигает, бросая искривленные тени на цементный пол. Я сжимаюсь в углу, колени прижаты к груди, дышу редко, как будто каждый вдох может пробудить что-то, что не должно проснуться.
Тяжёлые шаги – глухие, словно земля под ними стонет, как могила, принимающая тело. Они приближались, ленивая поступь – нечеловечески медленная, будто время застыло в ожидании неизбежного. Пол подо мной дрожал, трещины в бетоне шевелились, как раскрывающиеся раны, и я знал, кто это. Знал не разумом, а чем-то древним, что кричало в глубине моей души, рвалось наружу, но не могло вырваться.
– Ну что, малыш? – голос – низкий, хриплый, как скрип ржавой цепи, волочащейся по камням, – проник в меня, но в его ласке таился яд, густой и чёрный, как смола из преисподней. Перегар ударил в лицо – зловонный, гниющий, смешанный с чем-то неописуемым: запахом разложения, сырого мяса, вывернутого наизнанку, и чего-то ещё – серы, что шипит в огне ада. Это была не вонь – это была сущность ужаса, оседающая в лёгких, обжигающая горло, как дыхание демона.
– Не прикидывайся мёртвым, я же знаю, что ты живой.
Холодные пальцы – не просто холодные, а ледяные, как прикосновение смерти, покрытые чем-то склизким, словно кожа, содранная с утопленника, – вцепились в мой подбородок. Хватка была нечеловеческой – ногти, длинные, кривые, как когти, впились в плоть, пробили кожу, и я почувствовал, как кровь – горячая, густая – хлынула вниз, заливая шею, пропитывая одежду. Он рванул мою голову вверх, и позвоночник затрещал, как ломающийся хрящ, сухожилия натянулись до визга, готовые порваться. Боль – не просто боль, а раскалённый крюк, вонзившийся в череп, тянущий мозг наружу, – взорвалась в голове, белая, ослепляющая, бесконечная. Я задохнулся, горло сжалось, как будто невидимая рука сдавила его, выдавливая жизнь. Лицо надо мной – не лицо, а маска кошмара, вырезанная из тьмы. Кожа – серая, натянутая, как пергамент на черепе, шевелилась, будто под ней что-то ползало. Губы – тонкие, треснувшие, сочились чем-то чёрным, как смола, стекающая по подбородку. Но глаза… Эти глаза были адом. Чёрные, бездонные, как провалы в пустоту, где не было ни света, ни человечности – только голод, звериный, древний, как тот, что вырывает души из тел. Они не просто смотрели – они пожирали меня, ввинчивались в мозг, высасывали волю, оставляя лишь оболочку, кричащую в безмолвии. Я дёрнулся, попытался отвернуться, но его руки – не руки, а лапы, покрытые трещинами, как у статуи, оживающей в кошмаре, – сдавили сильнее. Челюсть хрустнула, зубы заскрипели, крошась под давлением, и я почувствовал, как кости лица начинают ломаться, трещать, как стекло под ударом молота. Я должен был смотреть. Он заставлял.
– Если ты будешь хорошим мальчиком, – его шёпот – не шёпот, а шипение, как у змеи, выползающей из могилы, – утонул в воздухе, вязкий, как паутина, сотканная из ночных кошмаров, – это не будет так больно.
Слова вползали в меня, как черви, грызущие плоть, но живые, пульсирующие, шевелящиеся под кожей. Я хотел кричать, но голос – тонкий, рваный, как предсмертный хрип младенца, – умер в горле, задушенный чем-то густым, липким, что заполнило рот. Дыхание остановилось, лёгкие сжались, как будто их залили расплавленным свинцом, и каждый вдох был пыткой, разрывающей грудь изнутри. Тело окоченело, мышцы свело судорогой, кости скрипели, готовые сломаться под невидимым весом. Я не мог двинуться – страх сковал меня, как цепи, вбитые в бетон, и я чувствовал, как он растёт, заполняет меня, выдавливает кровь из вен. Его пальцы – длинные, изогнутые, как крючья, что вырывают мясо с костей, – скользнули ниже, впились в шею, раздирая кожу, как ножи, выворачивающие плоть. Кровь хлынула, тёплая, пульсирующая, залила грудь, пропитала пол, и я услышал, как она капает – медленно, ритмично, как метроном смерти. Его дыхание – влажное, зловонное, как гной из вскрытой раны, – обожгло ухо, и я почувствовал, как что-то тёплое, липкое – его слюна, чёрная, как смола, – стекает по моей щеке, прожигая кожу, оставляя ожоги. Он втянул воздух, и этот звук – низкий, хриплый, как стон из-под земли, – был наслаждением, смакованием моего ужаса, как будто он пил его, упивался каждой каплей. Стены подвала ожили – плесень на них шевелилась, как чёрные вены, бьющиеся в такт его шагам. Лампочка под потолком мигала, но свет был не светом – он был жёлтым, гнойным, как глаз, следящий из тьмы. Тени – длинные, кривые, с острыми краями, как лезвия, – ползли по полу, цеплялись за мои ноги, тянули вниз, в бездну, где не было дна. Его тень – огромная, бесформенная, с рваными краями, как разорванная плоть, – нависла надо мной, и я увидел, как она шевелится, отделяется от него, становится отдельной сущностью. Это был не человек. Это было нечто, вырвавшееся из трещин реальности, нечто, что знало моё имя, мою душу, и ждало меня в темноте с самого начала.
Сердце колотилось, но каждый удар был агонией – оно замирало, спотыкалось, готовое лопнуть, вырваться из груди и умереть прямо здесь. Кожа покрылась ледяной коркой, волосы встали дыбом, как иглы, вонзающиеся в затылок, и я чувствовал, как тело окоченевает, как жизнь уходит, стекает вместе с кровью, оставляя лишь пустую оболочку. Его глаза – эти чёрные провалы – приблизились, и я услышал звук: низкий, вибрирующий гул, как хор голосов из-под земли, шепчущих моё имя на языке, которого не должно существовать.
Он улыбнулся – не улыбкой, а оскалом, обнажающим зубы, кривые, жёлтые, как у трупа, выкопанного из болота. И тогда я увидел: из-под его кожи – серой, трещащей, как сухая кора, – что-то двигалось. Тонкие, чёрные нити – живые, извивающиеся, как черви, – выползали из трещин, тянулись ко мне, касались воздуха, и я почувствовал их – холодные, липкие, как прикосновение смерти. Они шептали. Они звали. Задрожал – не от холода, а от ужаса, который проник в кости, заморозил кровь, выжег разум. Тело окоченело, стало чужим, мёртвым, но всё ещё живым, кричащим в тишине. Я был в ловушке – не подвала, а его взгляда, его дыхания, его сущности, что рвала меня на части, не касаясь тела.
Хотел рванулся с кровати, но ноги запутались в простыне, пот – ледяной, липкий – заливал тело, стекал по спине, как дождь по разбитому стеклу. Комната тонула в темноте, только тусклый лунный свет – серый, мертвенный – сочился сквозь жалюзи, покрытые пылью веков. Сердце колотилось, как бешеный метроном, рвалось из груди, и я схватился за рёбра, будто мог удержать то, что вот-вот вырвется – страх, память, тень.
Тишина вокруг была не просто зловещей – она душила, сжимала горло невидимыми пальцами. Слишком тягучая, слишком живая. Кто-то был здесь, в углу, наблюдал, дышал в такт моему страху. Провёл рукой по лицу – всё в порядке, это сон. Но пальцы дрожали, и на коже остался след – лёгкий, ледяной, как от чужого прикосновения, которое не смоешь. Они всё ещё здесь.
– Ты хочешь сказать, что это работа… нечистой силы? – Полицейский Хейл с сомнением смотрит на психолога, его взгляд остриём прокалывает пространство. Он скрещивает руки на груди, но в его голосе звучит тревога.
Они сидят в тускло освещённом кабинете. Всё здесь пропитано старостью: книги с пожелтевшими страницами, манускрипты, папки с делами, заклеенные пыльными штампами. Стены исписаны схемами, датами и местами убийств, которые он теперь будет помнить всю свою жизнь. В центре стола – фотография одной из жертв. Глаза выколоты, рот разорван до ушей. Это не просто жертва. Это – свидетельство чего-то глубже.
– А у тебя есть другое объяснение? – Психолог не отрывается от древнего фолианта, перелистывая страницы. Тёмные символы на его обложке кажутся выжженными изнутри, оставляя запах горелого. Его голос ровный, спокойно-угрюмый. – Мы обошли уже три церкви, двух гадалок и одного экзорциста. Все говорят одно и то же: «Это не человек».
– Это бред. – Хейл поднимается и проходит к стене с фотографиями. Он был скептиком, пока не увидел последний труп в морге. Глубокие порезы, вырванные ногти, искривлённые конечности – но главное…
На полу, в луже крови, жертва сама вывела слово “ПОМОГИТЕ”.
– Я работаю в полиции двадцать лет, но такой хрени ещё не видел, – выдыхает он, вглядываясь в фото. – Если это человек, он чертовски умен.
Психолог кивает и медленно переворачивает страницу книги.
– Возможно, нам стоит попробовать что-то радикальное.
Хейл скептически прищуривается.
– Что именно?
– Найти кого-то, кто сам сталкивался с этим… и остался в живых.
Чей-то быстрый, сбивчивый шёпот. Свеча тухнет, оставляя комнату в полной темноте. Слышен тихий смех. Тень на горизонте Дорога к разгадке была всё более запутанной. Хейл и психолог двигались по ней, как по ниточке, вглядываясь в тени, надеясь хоть немного просветить их. Но каждая попытка понять происходящее оборачивалась ещё большим безумием.
На следующее утро Хейл встретился с женщиной, пережившей нападение, но её воспоминания были бессвязными. Она постоянно оглядывалась, как если бы что-то невидимое следовало за ней.
– Он был повсюду, – её слова всё больше напоминали бред. – Он не был человеком. Это не было живым… Он был как тень, как чудовище, которое я не могла увидеть. Я слышала его, чувствовала его взгляд… и когда он был рядом, мне становилось холодно. Холодно, как никогда в жизни…
Полицейский отвёл взгляд, его сердце билось быстрее. Он был не готов услышать таких слов, и всё же… что-то в её рассказе было не так, как обычно. Это не было просто убийцей. Это было нечто более древнее, нечто страшное и вневременное.
Тем временем психолог наткнулся на странные совпадения в местных легендах. Где-то в глубинах старых тетрадей, запылённых и пожелтевших, скрывалась история о культе, поклоняющемся «Тени». Убийства, происходившие в округе, словно следовали древним ритуалам этого культа, их символика была слишком точной, слишком выверенной. Шрамы, словно выжженные в коже, форма тел, искривлённые в невозможных позах, угрожающие слова, выцарапанные на стенах… Это не могло быть случайностью. Это было послание.
Психолог с каждым листом всё глубже погружался в манускрипты, его взгляд уже не просто искал ответы – он жаждал их. Но, чем больше он изучал, тем больше терялся в лабиринтах этих тёмных символов, будто сам текст начал оживать в его руках. Вдруг его взгляд зацепился за одно заклинание, забытое, потерянное, словно оно пришло из самой тьмы.
– Хейл, посмотри на это, – его голос был хриплым, почти беспокойным. Он схватил полицейского за плечо, его рука холодная, как само зло. – Здесь сказано, что когда «Тень» освобождается, она оставляет за собой лишь смерть и боль, но её нельзя уничтожить привычными средствами. Единственный способ остановить её – это уничтожить её носителя.
Хейл замер, как будто эти слова пробудили нечто в самом воздухе.
– Что, чёрт возьми, ты хочешь сказать? – Его взгляд стал мрачным, но глаза всё ещё пытались удержать хоть малую долю скептицизма. – Тот, кто был последней жертвой, – возможно, это… то, что мы ищем?
– Да, – ответил психолог. Его голос был теперь тяжёлым, как сдавленный стон. – Убийства – это не просто мрак, это передача сущности. Тень ищет носителя, а убийца всего лишь катализатор, её проводник. Он не просто убивает. Он… передаёт свою суть.
Вдруг Хейл почувствовал, как холодный пот пробежал по спине. Его дыхание стало тяжёлым. Они могли опоздать. Возможно, «Тень» уже перешла на кого-то из их окружения. Он обернулся, но ничего не изменилось. Всё было прежним. Всё было пустым.
В это время, на другом конце города, в забытом, словно выжженным участке, где никто не мог встретить чужого, девушка, с которой Хейл столкнулся ранее, всё ещё бегала по тёмным коридорам своего собственного кошмара. В её глазах, в которых когда-то горел огонь, теперь лишь тусклый отблеск страха. Каждый её шаг был как шаг по краю пропасти. Тени двигались за ней, касались её, не давая уйти, не давая скрыться. Они ждали. И она знала это. Она чувствовала, как эти тени ждут, как ждут её отчаянья. Город был мёртв. Его улицы поглощены ночной тишиной, в которой даже дождь звучал как меланхоличный ритуал, не скрывающий, а лишь подчеркивающий пустоту.