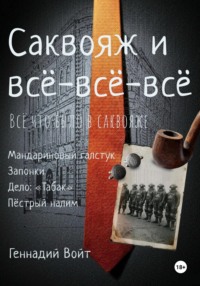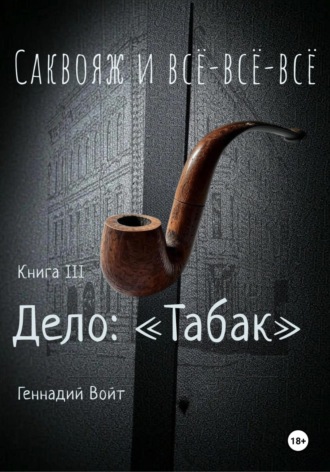
Полная версия
Саквояж и всё-всё-всё. Дело: «Табак»
– Жена сказала, что если я ещё раз приду домой подшофе, она переедет к маме. В Мурманск.
Я достал сковородку.
– Яичницу будешь?
– А есть выбор?
– Теоретически – да. Практически – нет.
Я разбил яйца на сковороду. Они зашипели, как разгневанная кобра. Илюша тем временем инспектировал содержимое пакета.
– Илюша всё предусмотрел. Так… Хлеб, колбаска, масло, сыр. О, печенье «Юбилейное»!
– Ты не как следователь, а как заботливая бабушка.
– Опытный следователь знает: мозгу нужна глюкоза. Иначе будем, как те двое из «Места встречи», – голодные и злые без горячего супчика с потрошками.
– Кстати, о следствии, – я шлёпнул ладонью по конверту. – Шансов у нас всё меньше. Скорее всего, их уже и нет.
– Это почему же? – осведомился Илюша, макая хлеб в желток.
– Потому, – ответил я, вооружившись вилкой, как шпагой, – что на часах десятый час, а конверт не вскрыт. А ушлые трубокуры со вчерашнего съезда уже наверняка если не роют землю в поисках трубки Петра, чёрт бы его побрал, то копытом бьют точно.
– Значит, пора, – Илюша решительно взял конверт.
– Погоди, патологоанатом, – остановил я его, разливая по кружкам с надписью «Лучший журналист по версии мамы» кефир. – Для поднятия боевого духа.
Мы чокнулись.
– Есть гипотезы, что там? – спросил Илюша, осушив кружку.
– Карта, нарисованная кровью последнего владельца.
– Или шифр, написанный молоком.
– Не исключено, – я почесал подбородок. – Вскрываю?
Илюша драматично развёл руками, предоставляя мне право на этот исторический жест.
Я взял нож для масла и с нарочитой осторожностью, будто вскрываю не конверт, а саркофаг с проклятием фараона, надрезал край.
Тишина. Даже холодильник замолк. Я извлёк сложенный вчетверо лист.
– Ну? – Илюша подался вперёд так, что едва не ткнулся носом в яичницу.
Я несколько раз перечитал текст, прежде чем смог произнести его вслух:
В сердце творенья Петрова стою,
Где птица железная песню свою
В полдень играет по воле царей,
Там, где Нева бьёт о грани камней.
Когда первый луч озарит небосвод,
И тень великана путь укажет вперёд,
Там, где металл с камнями слились,
В узорах столетий навеки сплелись.
Сложите углы под ногой тех камней,
На возраст царя разделите скорей.
Где пушка гремит, ищи знак на граните,
К стрелке старинной свой путь устремите.
– Что за… – Илюша осёкся. – Стихи?
– Они самые, – усмехнулся я. – Чёртовы стихи. Похоже, наш таинственный автор питает к человечеству особую неприязнь.
– Скорее уж неприкрытое презрение, – поморщился Илюша.
– Qui nos despicit, ipse in tenebris ambulat, – произнёс я, машинально поправляя несуществующую тогу.
– Чего-чего?
– «Тот, кто нас презирает, сам блуждает во тьме», – перевёл я.
– И не поспоришь. Но это просто издевательство! – Илюша раздражённо швырнул листок на стол. – Теперь нам, значит, разгадывать поэтические ребусы? – его очки сползли на кончик носа, превратив его в карикатурного профессора.
Я придвинул листок к себе и, обхватив голову руками, начал беззвучно шевелить губами.
– Давай мыслить логически, – я потёр глаза. – Что имеем? Вирши, сочинённые человеком, который знает город не как турист, а как… часовщик знает механизм.
Илюша фыркнул, барабаня пальцами по столешнице:
– И при этом ненавидит всех настолько, что завернул подсказку в эту пиитическую обёртку. Садист.
– Несущественно для анализа, – отмахнулся я. – Смотрим. «В сердце творенья Петрова стою». Что может быть сердцем города?
– О, браво, Минхерц! – Илюша картинно всплеснул руками. – Половина Петербурга – творенье Петрово!
– Не ёрничай. Раскладываем. Первое: это исторический, а не просто географический центр. Второе: прямая связь с Петром, его личный замысел. Третье: место должно быть знаковым, чтобы именоваться «сердцем».
Илюша вскочил и принялся мерить шагами кухню.
– Так. Летний сад? Нет. Домик Петра? Слишком камерно. Адмиралтейство? – он замер. – Может…
– Петропавловская крепость, – выдохнул я.
– Чёрт побери, точно! – он громко щёлкнул пальцами. – Место, откуда всё и началось! Не так уж и сложно, а? – он азартно потёр руки.
– Не факт, что правильно.
– Давай дальше! – Илюша снова схватил листок.
«Где птица железная песню свою / В полдень играет по воле царей, / Там, где Нева бьёт о грани камней».
Он остановился, глядя на меня вопросительно.
– Дальше так дальше, – я потянулся к турке. – Кофе?
– Ага. Покрепче.
– Итак, – начал я, засыпая кофе, – нечто металлическое…
– …издающее звук…
– …строго в полдень…
– …и по царскому указу… – Колокол?
– Нет, – я покачал головой. – Колокола из бронзы, не из железа. Да и при чём тут «птица»?
Илюша замер у окна.
– Постой-ка… А что если… – он медленно повернулся ко мне. – Выстрел.
– Сигнальная пушка на Нарышкином бастионе?
– Она самая! Каждый день в полдень… Ба-бах! – Илюша рухнул на стул, картинно утирая пот со лба. – Утомительно, однако, думать.
– Особенно когда это занятие тебе не свойственно.
Мы встретились глазами и рассмеялись.
– Открывай печенье.
– Ну а третья строка, – Илюша разорвал пачку, – «Там, где Нева бьёт о грани камней» – это просто гвоздь в крышку гроба наших сомнений. Гранитные стены крепости.
– Ум-ни-ца, – я разлил кофе. – Читай дальше.
«Когда первый луч озарит небосвод, / И тень великана путь укажет вперёд».
Илюша, запихнув в рот сразу два печенья, открыл ноутбук и вывел на экран карту крепости.
– Великан… Великан… – бормотал он, роняя крошки. – Кто у нас там великанского?
– Александровская колонна?
– Далековато.
– Медный всадник?
– Тоже мимо…
– Что-то очень высокое, – я отхлебнул кофе. – Способное отбрасывать длинную тень на рассвете… И не просто высокое, а…
– …исполинское, – подхватил Илюша.
– Шпиль Петропавловского собора.
– Так, так… Собор. Усыпальница Романовых. Архитектор Трезини. Высота – сто двадцать два с половиной метра. Самая высокая постройка петровского времени, – затараторил Илюша, водя пальцем по экрану.
– И главное, – перебил я его, – отбрасывает грандиозную тень! «Когда первый луч озарит небосвод» – это ведь недвусмысленно про рассвет.
– Пожалуй… – Илюша помрачнел. – Чёрт бы побрал этого стихоплёта. Придётся вставать ни свет ни заря.
***
В пять утра Петербург похож на эскиз, набросанный угольным карандашом на сером картоне. Туман стирает резкость линий, превращая громады домов в расплывчатые тени, а редкие фонари кажутся одинокими мазками охры. Город ещё спит, да так крепко, что кажется, даже памятники похрапывают. Мы с Илюшей брели по пустынным набережным, как два привидения, которым забыли выдать цепи.
– Объясни мне ещё раз, – бубнил невыспавшийся Илюша, кутаясь в воротник, – почему именно пять утра? Не десять? Не час дня, когда нормальные люди пьют кофе, а не бороздят пустынные набережные?
– Потому что «когда первый луч озарит небосвод», – я старался не зевать. – На рассвете романтичнее. И металл с камнями сливается красивее.
– Металл с камнями… – простонал Илюша. – Я бы сейчас с подушкой слился. В единое, неразрывное целое.
Вода в Неве чернела, как остывший эспрессо. Петропавловская крепость – безмолвная громада из красного кирпича – дремала в тишине. А где-то там, высоко-высоко, проткнув шпилем предрассветное небо, лениво поворачивался на ветру ангел-флюгер, с золотым равнодушием взирая на двух городских сумасшедших.
Небо на востоке начало подёргиваться бледным светом. Илюша извлёк из рюкзака термос.
– А представь, – сказал я, принимая дымящийся стаканчик, – найдём мы это место, а там записка: «Лучший клад – это здоровый сон. Который вы, дураки, проспали».
– За такую записку, – невозмутимо произнёс Илюша, отхлёбывая прямо из термоса, – я найду Углублённого и прикопаю его прямо здесь. И знаешь что? Любой суд меня оправдает.
Первый луч солнца, острый, как игла, коснулся шпиля собора. Ангел на мгновение вспыхнул, будто ожил. Тень от колокольни, точно исполинская часовая стрелка, медленно поползла по земле. Она скользила по брусчатке, огибала стены и заигрывала с кронами деревьев, пуская по влажным от росы листьям солнечных зайчиков. Мы крались за ней, как два шпиона на вражеской территории.
– Знаешь, – сказал Илюша, – в моей жизни было много странного. Я гонялся за коррумпированными чиновниками, за неверными мужьями и даже однажды за сбежавшим из цирка орангутаном. Но охота за тенью от шпиля – это определённо новый уровень.
– А ты думал, в Питере все приключения закончились на Достоевском? – усмехнулся я. – Наслаждайся.
Тень привела нас точно к углу Артиллерийского цейхгауза и там замерла. Она уткнулась в старую, ржавую водосточную трубу, похожую на контрабас, забытый музыкантами «Voit's Bandits» после попойки. Рядом с ней в кирпичную кладку были вмурованы какие-то бронзовые декоративные элементы.
– Кажется, приехали, – сказал я.
Илюша, пыхтя как пригородный дизель-поезд, извлёк из рюкзака помятый листок.
– «Там, где металл с камнями слились, в узорах столетий навеки сплелись». Похоже, это наш угол.
Я кивнул, разглядывая брусчатку под трубой.
– Похоже. Что там дальше?
– «Сложите углы под ногой тех камней, / На возраст царя разделите скорей».
Мы присели на корточки. Я принялся аккуратно пересчитывать камни, попадавшие в границы тени. Илюша молча следил.
– Девятнадцать.
– Так… У каждого камня по четыре угла, – подхватил Илюша. – Девятнадцать на четыре… семьдесят шесть.
– Семьдесят шесть, – подтвердил я. – Теперь делим на возраст Петра.
– На пятьдесят два, – уверенно сказал Илюша. – Возраст на момент смерти. Я вчера посмотрел.
Я нахмурился.
– Погоди-ка. А если не на возраст смерти?
– А на какой?
– Загадка-то про крепость. Может, нужен его возраст на момент её основания?
– А ведь может быть! – Илюша оживился. – В тысяча семьсот третьем ему был… тридцать один год.
– Уверен? – я вытащил смартфон. – Давай-ка точно. Пётр родился девятого июня тысяча шестьсот семьдесят второго. Крепость заложили шестнадцатого мая тысяча семьсот третьего.
Илюша прищурился, считая в уме.
– Так… май… до дня рождения ещё три недели…
– Вот именно! – я торжествующе поднял палец. – Значит, на момент закладки ему было ещё тридцать лет.
– Получается, семьдесят шесть делим на тридцать… Итого два с половиной. – Он глянул на меня. – Два с половиной чего? Шага, метра, аршина?
– Или попугая?
– Короче, – Илюша закинул рюкзак на плечо. – Айда к Нарышкину бастиону. Проверим на месте.
Уже совсем рассвело. Утренний туман поднимался над Невой, где-то вдалеке прогудел первый речной трамвайчик, закричали сонные чайки. До бастиона мы дошли молча. Наверху было пусто и гулко, ветер гнал по небу рваные облака. Одинокая сигнальная пушка торчала на углу, как забытый часовой.
– Думаешь, она? – Илюша с сомнением похлопал по холодному металлу.
– Думаю, да. Те, что на крыше, меняли. Да и тайник там не спрячешь – нашли бы давно.
– Ну что, отмеряем два с половиной вершка и копаем? – усмехнулся Илюша.
– Вершка?
– Не версты же, – он махнул рукой вдаль. – Это где-то на той стороне Невы выйдет.
– Давай начнём с сажени. Одна сажень – это чуть больше двух метров. Значит, две с половиной – это около пяти с небольшим.
– И в какую сторону? – Илюша указал на ствол. – По ходу выстрела?
Мы отмерили пять с половиной моих шагов. Под ногами была старая, выщербленная каменная кладка.
– Будем ковырять? – снова спросил Илюша.
– Сдурел? – я покрутил пальцем у виска. – «Где пушка гремит, ищи знак на граните, / К стрелке старинной свой путь устремите». Стрелку ищи, а не приключений на свою голову.
Мы опустились на корточки.
– Правая сторона моя, – прошептал Илюша, медленно продвигаясь вдоль брусчатки.
Я взял левую. Со стороны мы, должно быть, напоминали двух чудаков, потерявших контактную линзу.
– Представляешь, что подумают туристы? – хмыкнул Илюша. – Вон уже народ подтягивается.
– Скажем, готовим материал для научного журнала, – отозвался я, не поднимая головы. – «Влияние раннепетровской брусчатки на развитие плоскостопия у последующих поколений».
Минут через двадцать у меня затекли ноги, а Илюша охрип от собственных шуток про археологов-любителей.
– Слушай, может, не здесь? – простонал он, разминая колени.
И в этот момент я её увидел. Крошечную, едва заметную царапину на граните. Не то случайность, не то гениальный расчёт каменотёса, вписавшего в структуру камня тонкую линию со стрелкой на конце. Заметить её было настоящим чудом.
– Илюша, – позвал я шёпотом. – Сюда.
Он подполз на четвереньках.
– Где?
– Вот. Смотри под углом.
Мы склонились над камнем, едва не стукнувшись лбами.
– Невероятно, – выдохнул Илюша. – Это же надо было такую мелочь заметить! И как этот чёртов стихоплёт её нашёл?
– Может, шёл, споткнулся, упал. И увидел.
– Надеюсь, обошлось без гипса. Ну что, выковыриваем? – Илюша хитро прищурился.
– Прямо здесь? – я огляделся. – На глазах у всей Петропавловки? Это памятник федерального значения. За такое не просто по шапке, а…
– А что ты предлагаешь? Ночную вылазку с ломом? Территория на ночь закрывается.
– Тише ты. Давай хоть землю между камнями поковыряем. Осторожно.
Илюша деловито достал из рюкзака мультитул.
– Швейцарский. Четырнадцать функций. Сейчас мы им, как хирурги…
Он осторожно ввёл лезвие в щель между камнями.
– Ух, утрамбовано на совесть. Пыль веков.
– Инструмент не сломай, хирург. И поторопись, а то придётся объяснять караулу, почему мы тут раскопки ведём.
– Скажем, ищем петровские червонцы.
– И загремим за незаконный поиск кладов.
Вдруг лезвие издало скрежет.
– Есть! – возбуждённо прошептал Илюша. – Что-то нащупал.
Его измазанные в земле пальцы заработали быстрее.
– Осторожнее, – заметил я его нетерпение. – Не сломай находку.
После нескольких томительных минут кропотливой работы он извлёк из щели старую винтовочную гильзу. Потемневшую, покрытую зеленоватым налётом патины, с чем-то, забитым в горлышко.
– Открывай! – не выдержал я.
Илюша повертел находку в руках, поддел ногтем заглушку.
– Записка! – он вытащил крошечный, свёрнутый в тугую трубочку листок и уже было начал его разворачивать.
– Стой! – я схватил его за руку. – Не здесь.
На площади становилось людно.
– Заметай следы и уходим, – зашептал я.
Илюша спрятал гильзу, но вдруг его осенило. Он достал из кармана блокнот и перьевую ручку.
– Гляди, – усмехнулся он, нацарапав на клочке бумаги несколько строк.
Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпенье
Конь Великого Петра.
– Ты это серьёзно? Ахматову?
– А что? – он свернул записку и засунул в пустую гильзу. – Пусть теперь роют землю у Медного всадника. Попадут в историю.
– Или в Кащенко, – хмыкнул я, торопливо притаптывая землю над нашим «кладом». – Пошли уже.
Мы быстро зашагали к Иоанновскому мосту. День разгорался. По территории крепости уже бродили туристы, зеваки, группы с экскурсоводами. И среди них всё чаще мелькали знакомые лица со вчерашнего съезда.
– О, – сказал я, – саранча встала на крыло.
– Рыщут, – поддакнул Илюша.
***
Солнце ударило в кухонное окно, как кулак подвыпившего хулигана, заливая всё вокруг наглым, почти ослепительным светом. Илюша дёрнул занавеску и, не взяв паузу для приличия, заныл.
– Если там опять стихи, – он указал подбородком на записку, лежащую на столе, – клянусь, наложу на себя руки. Прямо здесь. Больше никаких поэтических головоломок. Это выше моих сил.
– Прекрати драматизировать, – отозвался я. – Никто не обещал, что будет просто. Наоборот, с каждым шагом лабиринт будет только сужаться. Но, думаю, наш таинственный автор исчерпал свой поэтический запас. Давай, вскрывай.
Илюша развернул крошечный, свёрнутый в тугую трубочку обрывок бумаги. Ей-богу, сцена напоминала шпионский фильм категории «Б», снятый где-нибудь в Румынии: не хватало только зловещей музыки на синтезаторе и чьей-то тени за шторой.
– Читать? – Илюша пробежал глазами по тексту и посмотрел на меня. – Если это можно прочесть, то я – лауреат Нобелевской премии по художественному чтению.
В записке был набор символов: uУ6ЛN7ʞ4. А за ним – семь строк абракадабры, похожей на результат бурной ночи телеграфиста и шифровальной машины.
2ГжнрдПП-Уджфнэж-ёвнк-1823-45-3В-5; 33-7Н-11
6ЕуроуЦЗ-Шёпуб-чшёцфиф-йфтё-1847-12-1Н-2; 12-3В-7
3ФхгрнзелъГГ-Рсъя-е-Тзхзудцуёз-1905-67-4В-1; 121-16В-9
1ДспгбчСА-Тлбибойа-п-гёусбц-1835-22-2Н-3; 39-20Н-13
4ЗтпжтёЁМ-Лтё-уфизотё-1850-30-5В-4; 233-16Н-20
7СхшщпфжСЕ-Упч-фж-сжкхфп-1920-10-3Н-6; 59-4В-12
5УпкежтММ-Нжфпкж-етзйэ-1890-15-4В-2; 88-17Н-23
Я посмотрел на Илюшу. Он сидел с видом человека, которому только что предложили расшифровать инструкцию к китайскому адронному коллайдеру, написанную на древнеарамейском.
– Что ж, по крайней мере, это действительно не стихи, – попытался я разрядить обстановку.
Не помогло.
Илюша вскочил и принялся метаться по кухне, как тигр в тесной клетке, извергая проклятия на всех известных ему языках, включая, кажется, эсперанто. Его познания в ненормативной лингвистике были впечатляющими.
– Я знал! – возопил он. – Знал, что этот маньяк-шифровальщик сведёт нас в могилу! Сначала вирши, теперь – вот это! – он ткнул в бумажку дрожащим пальцем. – Что это вообще такое?!
– Похоже на шифр, – осторожно предположил я.
– Да что ты говоришь?! – Илюша артистично прижал руку к сердцу, будто я нанёс ему смертельное оскорбление. – А я-то думал, это рецепт шарлотки на языке эльфов!
– Слушай, а может, это не так сложно, как кажется?
– Конечно! – он снова перешёл на крик. – Элементарно, Ватсон! Просто берёшь квантовый компьютер, три диплома по криптографии и консультируешься с духом Алана Тьюринга!
– Заткнись на минуту, – перебил я его. – А то бдительная баба Нюра снизу сейчас вызовет наряд, и будем объяснять, что мы не шпионы, а просто идиоты.
Илюша тяжело рухнул на стул.
– Знаешь, – сказал он уже спокойнее, – я начинаю жалеть, что мы не оставили эту гильзу в земле.
– Полно тебе, – усмехнулся я. – По крайней мере, это увлекательнее, чем разгадывать стихи Ахматовой.
– Это как выбирать между гильотиной и электрическим стулом, – вздохнул Илюша. – Оба варианта не сулят ничего хорошего. Дай-ка сюда.
Он снова уставился на записку, как на квитанцию за коммунальные услуги за последний год. С тем же выражением вселенской безысходности.
– Ууу… шесть… эль… эн… семь… кэк… четыре… – бормотал он, точно шаман, пытающийся вызвать дождь. – У… убл… ублнк… – звуки, которые он издавал, напоминали попытку нетрезвого китайца придумать название для нового товара на «Алиэкспрессе».
Я молчал, давая его мыслительному процессу пройти все положенные стадии от отрицания до принятия.
– Убл-эн-ка… – он запнулся. – Чёрт, язык сломаешь.
– Похоже на название финского фолк-метал-фестиваля, – не удержался я.
Вдруг Илюша замер. Его лицо изменилось, как у человека, только что нашедшего крупную купюру в кармане старой зимней куртки.
– Витька! – заорал он так, что где-то этажом выше наверняка осыпалась штукатурка. – Это же leet speak! Чёрт побери, он самый!
– Что ещё за зверь? – спросил я, чувствуя себя неандертальцем, которому показывают смартфон.
Илюша вмиг преобразился.
– Это такой… сетевой жаргон. Компьютерный арго. Берёшь обычные буквы и уродуешь их. Цифры вместо букв, перевёрнутые символы, мешанина регистров – в общем, глумление над кириллицей.
– И кому это нужно?
– А кому нужны татуировки на китайском, которые на поверку означают «суп с лапшой»? – парировал Илюша. – Это для своих. Смотри! Вот это «u» – просто перевёрнутая «п». А «6» – вылитая «б».
Его глаза горели, как у кота, обнаружившего открытую банку со сметаной.
– Тут система! «N» – это «и», если её перевернуть. «7» – похожа на «т» или «ч». А этот «ʞ» – просто «к», сделавшая сальто назад!
До меня начало доходить. Медленно, как до жирафа, но всё же.
– Погоди-ка… – я схватил ручку. – П… у… б… л… и… ч… к… а? Публичка?
– Бинго! – воскликнул Илюша. – Российская национальная библиотека! А ты говорил – сложно.
– Это была минутная слабость, – скромно потупился я.
– Ладно, – сказал Илюша, глядя на семь строк шифра. – А с этим что делать?
Илюша откинулся на спинку стула с видом шахтёра, только что выдавшего на-гора тройную норму угля.
– Мозгу требуется питание, – изрёк он тоном земского врача и решительно направился к холодильнику.
Оттуда был извлечён увесистый батон «Докторской».
– Витамины группы К! – провозгласил он, помахивая колбасой, как дирижёрской палочкой.
Бутерброды он ваял с педантичностью ювелира, выверяя толщину каждого ломтя. На тарелке они выстроились, как гвардейцы на параде. И тут я подумал, что между колбасой и высокой философией существует прямая и неумолимая связь. Наверняка Кант обдумывал свои «Критики», уплетая братвурст, а Спиноза оттачивал «Этику», закусывая сыром маасдам. Что уж говорить о мыслителях иного, илюшиного склада – тут без «Докторской» никак не обойтись.
– Смотри, – сказал он, прожевав, – в первой строке есть «ПП». Это точно Пушкин!
– С чего бы? – скептически хмыкнул я.
– Ну как же! Александр Сергеевич! Дальше – 1823 год. Всё сходится!
– Тогда уж Пантелеймон Прокофьевич. Там же две «П». Или вообще Пётр Первый.
Следующие полчаса ушли на бесплодные попытки притянуть за уши остальные символы к пушкинской теории. Илюша, как одержимый, исписал полблокнота формулами, достойными трактата по абстрактной алгебре.
– Что-то не клеится, – наконец признал он. – Если это Пушкин, то при чём тут буква «ё»?
– И даты, – добавил я. – Вот, 1920 год. Александр Сергеевич к тому моменту уже лет восемьдесят как… – я запнулся, подбирая слово.
– Не писал, – с мрачным удовлетворением подсказал Илюша. – Постой… а если вот это в конце – не просто год? 1847, двенадцатое… января?
– Тогда в третьей строке у нас шестьдесят седьмое апреля тысяча девятьсот пятого года, – я легонько постучал его по лбу. – Гений.
– Значит…
– Значит, – перебил я, – мы не с того конца зашли. «Публичка» – это ключ. А что в библиотеке самое главное?
– Книги? Тишина? – предположил он.
– Система! – осенило меня. – Библиотечный шифр! Это не названия книг, это их координаты!
– Какая система?
– Понятия не имею. В каждой библиотеке она своя. Номер зала, стеллаж, полка…
– Ну тогда! – воскликнул Илюша. – Смотри! Первая цифра – номер зала! Потом идёт абракадабра – код книги. Год издания. А дальше… «В» и «Н»! Верхняя и нижняя полка!
– Но текст-то по-прежнему зашифрован.
– Да и чёрт с ним! – Илюша был в эйфории. – Нам не нужно знать, что это за книги. Нам нужно знать, где они стоят. Это навигация! Расшифруем её – получим семь точек на карте библиотеки!
Я посмотрел на часы. Библиотека работала до девяти.
– Поехали? – спросил Илюша, уже натягивая куртку.
– Вперёд, мой книжный червь.
***
Нас встретила женщина того особого советского чекана, из которых получались самые неумолимые преподавательницы русского языка и литературы. Такие, знаете, ставят двойки не просто за ошибку, а за неверный наклон буквы «ё» и способны заставить переписывать страницу из-за единственной кляксы, упавшей на белоснежный лист, словно слеза осквернённой невинности.
– Молодые люди, – произнесла она, поправляя на переносице очки в массивной пластиковой оправе, – где бахилы?
Я бросил взгляд на свои ботинки, затем на Илюшу. Тот, с расторопностью провинившегося школьника, пойманного на списывании, пытался проделать невозможный акробатический трюк: спрятать обе ноги себе за спину.
– Мы, собственно, ищем… – начал я, но был оборван на полуслове.