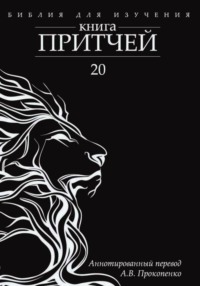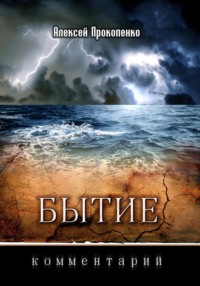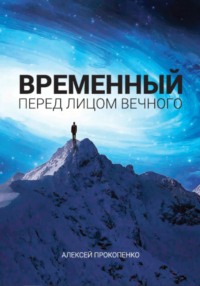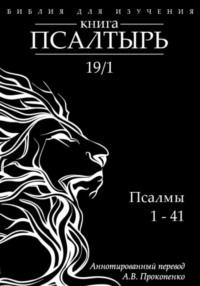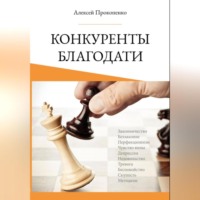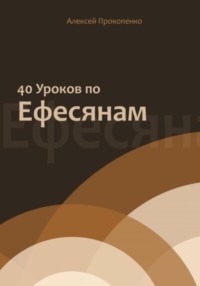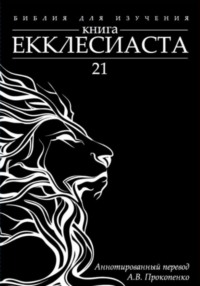Полная версия
Граждане небес и Земли

Алексей Прокопенко
Граждане небес и Земли
Граждане Небес и земли
Об отношении христиан к государству и власти
Алексей Прокопенко
Вместо предисловия. Разгребаем камни
Вопрос об отношении христиан к государственным властям вызывает множество споров и разногласий. Однако попытка его обсуждения часто оканчивается тем, что несогласные стороны эмоционально распаляются еще до начала диалога и не могут не то что прийти к решению, но в реальности не доходят даже до того, чтобы элементарно понять друг друга.
Данную тему можно сравнить с длинным и темным тоннелем, вход в который завален камнями. Мало того, что тоннель длинный и темный, что в моей метафоре символизирует сложность темы, требующей длительного обсуждения, так еще и вход в этот тоннель завален камнями личных предубеждений, навязываемых пропагандой стереотипов, а зачастую и банальной ненависти. Поэтому, прежде чем приступить к более подробному обсуждению темы, мне бы хотелось хотя бы немного расчистить вход в тоннель. Для этого я постараюсь обозначить несколько тезисов, которые помогут непредвзятому читателю яснее понять, о чем я говорю в последующих главах данной книги.
Во-первых, когда мы рассуждаем о живущем на земле христианине, мы понимаем, что у него есть как небесное, так и земное гражданство. То есть он является, с одной стороны, гражданином Царства Небесного, с другой – гражданином своей земной страны (России, Франции, Южно-Африканской Республики или какой угодно другой). Поэтому у него есть права и обязанности как в отношении одного, так и в отношении другого гражданства. Значит ли это, что его обязательства по отношению к небесному и земному «царствам» стоят на одинаковом уровне? Этот вопрос равносилен вопросу: значит ли это, что земной «царь» для христианина стоит на одном уровне с Иисусом Христом, Царем Небесным? Этот вопрос будет обсуждаться в главе 2: «Церковь как сообщество Неба на земле».
Во-вторых, говоря об отношении христианина к земному государству, мы должны учитывать, что есть разница между отдельным гражданином и Церковью. Когда какой-то человек выражает свои политические предпочтения (например, в пользу одной политической партии против других) или делится политической оценкой каких-то исторических событий прошлого или настоящего (например, объяснением причин какой-то войны или оценкой деятельности какого-то правительства), то это одно. Каждый имеет право на свое мнение. Но когда этим начинает заниматься Церковь в целом или какой-то авторитетный человек от имени Церкви, то это совсем другой зверь.
Тот же самый вопрос, но немного в другой плоскости: христианин как отдельный гражданин имеет право заниматься политической деятельностью, вступать в политические партии и вести агитацию, но когда этим начинает заниматься Церковь – когда Церковь вступает в партию или ведет политическую агитацию, то это катастрофа. В этом случае она не просто встает на сторону добра против зла, как это обычно преподносится всевозможными агитаторами от религии. Церковь встает на сторону одной силы, борющейся за влияние в этом мире, против других сил, тоже борющихся за влияние. Это коренным образом меняет роль и положение Церкви. В каком-то смысле она тоже включается в мирскую борьбу, однако чаще не в роли гроссмейстера, по недоразумению застрявшего у чужой шахматной доски, а в роли пешки, бездарно и глупо используемой иными силами в чужих интересах.
Вместо того чтобы все мирские силы, партии и государства считать погибающими грешниками и одинаково проповедовать Евангелие «всем народам» (ср. Матф. 28:19), Церковь начинает говорить (если не прямым текстом, то косвенно, своими поступками): «Вот эти люди – негодяи и должны покаяться, а вы молодцы; мы вам будем подносить чай на баррикадах и снаряды на передовой, мы будем поддерживать ваши руки и подкреплять ваши силы, ибо вы боретесь за правое дело». В таком контексте путаются идеалы небесного и земного и легко затирается грань между небесной бранью и бранью «против крови и плоти» (ср. Еф. 6:12). Церковь думает, что сражается за небесные принципы, однако сама не замечает, как начинает «воинствовать по плоти»; «оружия воинствования» ее становятся человеческими, и она уже не имеет силы в Боге на «разрушение твердынь»: она больше не ниспровергает «всякое превозношение, восстающее против познания Божия» и уже не «пленяет всякое помышление в послушание Христу» (ср. 2 Кор. 10:3–5). Да, наряду с поддержкой политических партий, митингующих сил или мирских правительств она все еще продолжает по инерции проповедовать Евангелие, однако ее весть становится однобокой. Благая Весть такой церкви становится кривой и бессильной, как сломленная стрела, которая вроде может еще долететь до цели, но уже не способна пробить броню человеческой самоправедности. Евангелие становится наполовину политизированным, как раб, который пытается служить двум господам: Богу и политическим взглядам.
Такое Евангелие никого не может поставить перед подлинным экзистенциальным выбором – не тем, который между меньшими и большими земными благами, а выбором между борьбой за свои права и отвержением себя; между гербом и Крестом; между своей самостью и Творцом Вселенной.
На самом деле, согласно библейскому учению, Церковь должна быть в равной мере инакова и тем, против кого демонстрация, и тем, кто устраивает демонстрацию. Она в равной мере отделена и от тех, и от других. В равной мере свята и для тех, и для других. В равной мере не от мира сего – как для мира свергаемых правителей, так и для мира митингующих за свержение правительства. Церковь признает, что ни старая власть, ни новая не способны дать ответ на глубинные запросы общества. Этот ответ – только в личности Иисуса Христа, Который не объявляет Себя сторонником ни левых, ни правых, но Который «грядет со славою, чтобы судить живых и мертвых»1.
В-третьих, мы должны хорошо понимать и учитывать в нашей дискуссии разницу между гражданскими правами и христианским призванием. Безусловно, христианин как гражданин земного государства имеет право голосовать и таким образом вносить вклад в выбор будущего своей страны. Более того, он имеет право участвовать в политической деятельности: вступать в партии, агитировать за политических кандидатов и даже сам становиться политиком, пытаясь таким образом повлиять на общество (если не потонет на полпути к вершине в коррупции и миллионе компромиссов). Он также имеет право оценивать происходящее и делиться своими оценками. Однако все эти вещи не обязательно совпадают с его христианским призванием.
О том, что между гражданскими правами и небесным призванием может быть разница, ясно учил Христос. Один человек, которого Он позвал следовать за Собой, сказал: «Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». На это Иисус ответил: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие» (Лук. 9:59–60). Желание похоронить отца – это гражданское право и даже обязанность, однако Христос показал этому ученику, что у него в тот момент должны были быть другие приоритеты. Проповедь Царства Божьего для ученика Христова должна была быть важнее его гражданских прав и обязанностей. Сразу же вслед за этим к Христу подошел еще один ученик: «Я пойду за Тобою, Господи! Но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Ему Иисус ответил: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лук. 9:61–62). Опять же, проститься с домашними – это не просто гражданское право, а правило хорошего тона, то, что ожидается от члена человеческого общества. Однако Иисус разрывает шаблоны, указывая на то, что небесные приоритеты имеют первостепенную значимость. Так что логика гражданских прав и обязанностей далеко не всегда согласуется с приоритетами христианского призвания.
Когда христиане слишком активно распространяют какую-то политическую позицию (которую им годами пропагандируют их доверенные СМИ и которую они, безусловно, считают святой правдой!) – так вот, когда христиане слишком активно распространяют какой-то взгляд на политические события, они перестают следовать путем Христа, который не вел никакой политической пропаганды. Когда они призывают бороться за интересы своей мирской родины, они расходятся с Христом, Который говорил: «Царство Мое не от мира сего». Когда они включаются в борьбу за национальное освобождение, они перестают быть похожими на Христа, Который не призывал к свержению власти Рима или к борьбе за освобождение Своей земной родины Иудеи от налогового бремени или внешнего контроля римлян. Когда христиане выходят на улицы с целью свержения недемократического правительства, они искажают образ Господа, Который ни разу не призывал к смене римского императора, прокуратора Иудеи или еврейского царя. У Него были все возможности и рычаги для этого. Ученики даже сами подталкивали Его к ответу: «Не в это ли время устанавливаешь Ты царство Израилю?» Но Он поставил крест на политических амбициях учеников, сказав: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:7–8). Проповедь Евангелия оказалась приоритетнее борьбы за установление правильного царства. Почему? Потому что Бог действует иными методами, по иному плану и согласно иному расписанию. Как именно действует Бог, мы затронем в последующих главах данной книги.
В-четвертых, нам нужно обозначить границы подчинения властям. Никто из здравомыслящих христиан не станет подвергать сомнению, что бывают случаи, когда христианин не должен исполнять указы властей. Это аксиома. Это нечто само собой разумеющееся для любого человека, мало-мальски знакомого с Библией. Общий принцип повиновения гражданским властям такой: христианин должен быть послушен во всем, кроме греха. Если начальствующие призывают нас нарушить какую-то из библейских заповедей или пойти против совести, мы имеем право и даже ответственность перед Богом не исполнять эти требования. То же самое касается и законов страны: если они в чем-то противоречат Божьему закону, то именно в этих конкретных вещах христиане отдают предпочтение Божьим заповедям, голосуя своим поведением за изменение этих законов. Однако во всем остальном, что не противоречит Писанию, они продолжают быть законопослушными гражданами, повинующимися своему правительству.
Неисполнение конкретных противоречащих Библии указов не равняется непризнанию государственной власти вообще и не оправдывает бунта ни в каком виде. В то время как апостолы не послушались Синедриона (Верховного Суда Иудеи) в том, чтобы перестать проповедовать о Христе (ср. Деян. 5:29), они не призывали бороться с Синедрионом или не признавать его власть в решении гражданских вопросов. Апостол Павел многократно в своем служении сталкивался со светскими властями и всегда проявлял к ним уважение, лояльность и готовность к подчинению в том, что не противоречило Божьим заповедям.
В-пятых, нужно коснуться вопроса о смене власти. Может ли христианин желать смены правительства? Да, конечно, как и любой другой гражданин. Но это должно осуществляться законными методами, как это предусмотрено Конституцией. Во время выборов и разного рода референдумов мы пользуемся законным гражданским правом голосовать за того или иного кандидата или выражать мнение по любым вопросам, которые власти выносят на голосование.
В то же время нужно учитывать, что если бы мы жили при монархии, то смена правителя была бы вне нашей компетенции. Мы не могли бы сменить плохого царя на хорошего, даже если бы пожелали, поскольку не имели бы такого законодательного права. Мы должны были бы просто ждать следующего царя и надеяться, что он будет лучше. Таким образом, не всякую власть можно поменять и не во всякое время. Да, Писание содержит принцип, что если можешь изменить свою жизнь к лучшему, то «лучшим воспользуйся» (ср. 1 Кор. 7:21), но это должно быть в рамках действий, предусмотренных законом. Если нет законного способа улучшить ситуацию, то Библия призывает покориться даже несправедливой власти.
В-шестых, должна ли Церковь давать моральную оценку происходящим вокруг событиям? Ответ на этот вопрос на самом деле более сложный, чем могло бы показаться на первый взгляд. Безусловно, Церковь должна возвещать Божьи заповеди, и тем самым она будет обличать творящееся вокруг беззаконие этого мира. Однако проповедь Божьих заповедей должна быть непредвзятой и нелицеприятной. Она не должна быть повернута всегда в одну сторону: против страны А при полном игнорировании страны Б или против партии А при полном игнорировании партии Б. Когда закон применяется против одного человека и игнорируется в отношении другого, это называется коррупцией. Заметьте: коррупционным является не только нарушение закона, но и его применение, если это выборочное применение. Так и с моральной оценкой событий и властей со стороны Церкви.
Моральная оценка, возвещаемая Церковью, не должна транслировать одностороннюю картину мира и не должна сопрягаться с политическими целями тех или иных заинтересованных сил. А то получится как в годы Холодной войны: Советский Союз давал моральную оценку западному империализму и колониализму, которая была ангажированной и потому не объективной. Все на это указывают. Однако многие не понимают и до сих пор слепо не признают, что абсолютно то же самое делал Запад в отношении Советского Союза. С тех пор на самом деле мало что изменилось.
Моральная оценка должна быть уместной и преследовать в том числе и евангелизационную цель. Это легко понять по аналогии с другим вопросом: должна ли верующая жена давать моральную оценку поведению своего неверующего мужа? С одной стороны, вроде бы да. Проповедуя ему Евангелие, она будет говорить о Божьем законе, который он нарушает. Для чего она будет это говорить? Чтобы указать ему на нужду в Спасителе. Если же она начнет комментировать каждый его грех в интернете, да еще и с сарказмом и нелестными эпитетами, то не только вызовет на свою голову гнев мужа, но и потеряет возможность приобрести его для Евангелия. Нетрудно перенести эту аналогию на взаимоотношения Церкви с мирскими правителями.
Вдобавок ко всему, моральная оценка должна быть правильной по тону и форме. Сарказм, насмешливый и высокомерный тон, отсутствие уважения, непроверенные обвинения и однобокая подача фактов – все это не только неугодно Богу, но и недальновидно с практической точки зрения. Неугодно Богу, потому что «судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси» (Исх. 22:28). А недальновидно, потому что «даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая – пересказать речь твою» (Еккл. 10:20). Если это может сделать птица, то уж Интернет – тем более.
В-седьмых, должны ли христиане повиноваться греховным и несправедливым властям? Краткий ответ такой же, как звучало выше: да, во всем, кроме греха. Понять это поможет, опять же, аналогия с подчинением жены мужу. Должна ли верующая жена подчиняться только верующему мужу? А как насчет неверующего? Нечестивого? Несправедливого? По учению Писания, жена должна подчиняться даже неверующему мужу во всем, кроме греха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3:1–2).
Обратите внимание, что целью повиновения верующих жен неверующим мужьям является евангелизация: «…чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были…» Так и повиновение христиан властям – это важный элемент евангелизации мира. Я имею в виду истинную евангелизацию, а не ту извращенную подмену, которую подсовывают нам под соусом христианизированной политики. Истинная евангелизация – не в том, чтобы силой установить новое христианское правительство, а в том, чтобы в кротости покориться несправедливой власти, даже если эта власть безбожная. Непокорность властям – даже тем, которые накладывают тяжелое «иго», – ведет не к рассвету христианского учения, а к его закату и хуле на него: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение» (1 Тим. 6:1). Когда мы бунтуем против властей, мы даем повод неверующим хулить нашу Церковь, имя Божье и учение Христово.
В-восьмых, мы не должны недооценивать библейское учение о полной испорченности человека и полной греховности мира. Христиане, поддерживающие государственные перевороты, не понимают, что любые революции обычно проходят по сценарию притчи «Убить Дракона». По сюжету этой притчи, один воин преодолевает огромные трудности, чтобы убить страшного Дракона, угнетающего народ. Однако, убив его, попадает под действие проклятия и сам превращается в Дракона, которого убьет кто-то следующий. Так и в политике: нет никаких гарантий, что новый человек, который придет к власти, не станет хуже предыдущего. И даже христианин, придя во власть, может стать таким же Драконом.
В любом политическом перевороте активно играют разные силы с разными (порой полярно противоположными) интересами. Есть люди, которые борются за личное место во власти. Есть те, кто играет в большую геополитическую игру, чтобы добиться преференций для своего государства или своего бизнеса. Есть силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку, чтобы ослабить сторонников национальной политики и внедрить транснациональные бизнес-проекты. А у кого-то просто тупо кулаки чешутся. Христиане бывают наивны в отношении всех этих действующих сил, видя все только с точки зрения борьбы за справедливость. В результате они легко могут стать пешками в чужой игре. Надо признать, что нами легко манипулировать, играя на чувстве справедливости.
Христиане, участвующие в политических переворотах, сильно недооценивают библейское учение о полной испорченности человека. А Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9). Более того, многие христиане ошибочно делят мир на хороший – демократический и плохой – недемократический. Или: хороший – западный и плохой – восточный. Однако они забывают учение Писания, что «весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19). Кто-то скажет: «А как же вот те страны, в которых был высокий уровень жизни и справедливая социальная система? Разве мы не можем надеяться, что после переворота мы станем похожими на них?» Надеяться-то можно. Но часто люди остаются слепыми в отношении того, что высокий уровень жизни этих стран достигнут за счет нескольких веков абсолютно несправедливого выкачивания ресурсов из других стран. Нет, все-таки Писание право и весь мир лежит во зле, а сатана – князь мира сего (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11).
В-девятых, как нужно относиться к христианской политике? Прежде всего, надо понимать, что в большинстве случаев никакая она не христианская. Слово «христианство» в названии партий – Христианско-демократический союз, Социал-христианская партия и т.п. – это камуфляж, ложное самонаименование. Чтобы добиться влияния в этом мире, так называемая «христианская» партия должна будет идти на многие компромиссы, перестав проповедовать Христа Распятого за наши грехи и воскресшего. То есть она либо пойдет на компромисс с миром, либо обречена оставаться маргинальным меньшинством, которым, собственно, и являются истинные христиане в этом мире. Писание говорит: «…все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:12–13).
В 1941-м году, в самый разгар Второй мировой войны знаменитый христианский писатель Клайв Льюис опубликовал эссе, в котором он со скепсисом рассуждает о христианских партиях, считая эту затею абсолютно бесполезной. Заглавие эссе – «Размышления о третьей заповеди» – намекает, что термин «христианская партия» – ни что иное как упоминание имени Господа всуе. Льюис приходит к выводу, что лучшее, что христиане могут сделать для политики, – это обратить как можно больше людей ко Христу. В этом их самое эффективное влияние на общество и мораль, и это самый эффективный способ борьбы с коррупцией, доступный для Церкви. Я не могу не согласиться с Льюисом, который заключает:
В сущности, меньшинство может влиять на политику лишь двумя способами: либо оно должно «приставать» к власть имущим, либо становиться партией в современном смысле (то есть тайным обществом жуликов и убийц). Да, я забыл: есть и третий способ. Можно стать большинством. Обративший ближнего принес «христианской политике» самую большую пользу2.
Его вывод хорошо согласуется с обсуждавшимся выше тезисом: небесное призвание для христианина имеет приоритет над гражданскими правами.
Итак, расчистив дорогу от некоторых наиболее крупных вопросов, мы можем двинуться вперед, чтобы постараться пройти по длинному узкому туннелю этой сложной и многогранной темы. Приглашаю вас присоединиться к размышлению в следующих главах.
Глава 1. Толковательные предпосылки
Среди христиан в разных странах и в разные времена появлялись очень разные взгляды на отношение к государственной власти: от смиренного повиновения до вызывающего противостояния, от сервильного прихлебательства до полного отмежевания, от запрета на участие в политике до стремления создать христианскую политическую партию, чтобы эффективнее распространять в мире христианские ценности. Почему так? С чем связано такое разномыслие? Как можно читать один и тот же библейский текст, но видеть в нем, как кажется, совершенно разные модели поведения?
Все дело в том, что на наше отношение к этому вопросу оказывают влияние несколько факторов. В результате получается, что разные христиане читают один и тот же библейский текст через разные толковательные очки. Давайте рассмотрим некоторые из этих факторов, влияющих на то, как христиане воспринимают свой долг по отношению к государственной власти.
Культурные предпосылки
Мы живем в мире, в котором у всех есть свое представление об истории и происходящих в ней процессах. Это представление подпитывается системой образования и превращается в наше мировоззрение. А мировоззрение, в свою очередь, исподволь, незаметно для нас самих оказывает влияние на то, что мы думаем об отношении к власти и политике и как мы интерпретируем библейские тексты.
Есть целый ряд вопросов, на которые христиане в разных странах зачастую отвечают по-разному, и это оказывает влияние на их отношение к властям. Вот некоторые из этих вопросов.
Вопрос первый. Какая форма управления обществом является идеальной? К примеру, в советский период нас учили, что общественный прогресс движется от первобытнообщинного строя через феодализм и капитализм в сторону социализма и коммунизма. На Западе обычно считается, что идеальная форма правления – это демократия, которую нужно защищать всеми силами у себя на родине и насаждать в других странах, чтобы освободить другие народы от разных форм угнетения. На Востоке и на Юге, наоборот, часто присутствуют более иерархические формы власти вплоть до монархии. Даже там, где страной управляет не король, а президент, все равно иерархия власти часто бывает более жесткой.
Многие христиане в современном мире автоматически предполагают, что все, что выглядит как борьба за демократию, априорно является угодным Богу, потому что ведет к установлению более справедливой системы и сулит большее благо для народа. Однако мы можем удивиться, что Библия не только не призывает к борьбе за демократию, но и вообще не содержит учения о том, что эта форма управления государством является наилучшей. Идеальное общество, которое Бог обещал создать для Своих детей в Тысячелетнем царстве, будет монархией: Христос будет править как Царь. Да, конечно, Христос – это безгрешный правитель, а обычные люди – грешники. И тем не менее, в идеальном обществе, которое задумал Бог, идеальная форма правления – это монархия, а не демократия. Да, я прекрасно знаком с аргументами в пользу демократии. И да, я слышал, что демократия – это плохая система управления государством, но остальные еще хуже. Честно говоря, подобные аргументы звучат остроумно, но не вполне умно. Новейшая история показывает, что через демократические институты в разные страны легко проникает внешнее управление. Кнут и пряник – шантаж и подкуп – легко воздействуют на людей, которые не заинтересованы кровно в успехе своей Родины и связывают свое будущее с заграничными перспективами для себя и своих детей. Подкупить десяток высших чиновников в демократическом государстве гораздо легче, чем подкупить одного царя, вся жизнь которого зависит от успеха страны, которой он единолично управляет. Так что, наверное, правда в том, что любая форма управления государством имеет как свои плюсы, так и свои минусы, и любая упирается в ограниченность и моральную слабость грешных людей. Это относится и к монархии, и к демократии, и ко всему, что между ними.