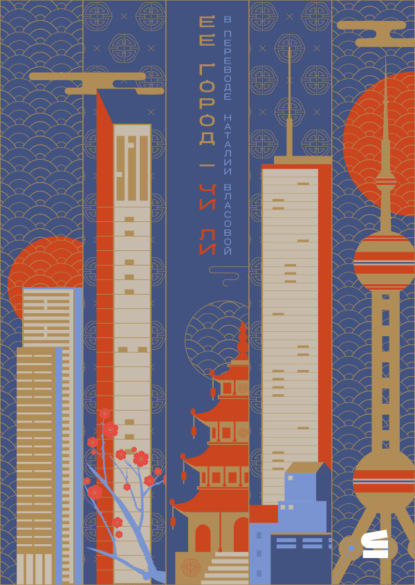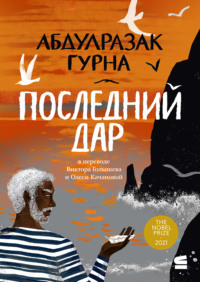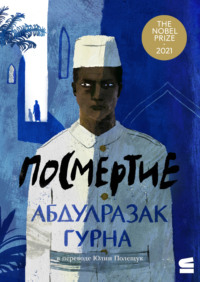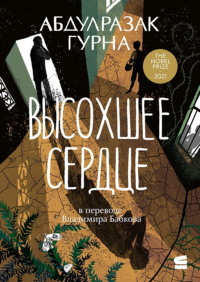Полная версия
Рай
– А каковы абрикосы? – спросил он.
– Не так хороши, как гранаты, – сказал Халил и, кажется, рассердился.
– Значит, абрикосы мне не понравятся, – решительно заявил Юсуф, а Халил его словно и не услышал.
Но Халил и правда проводил теперь много времени в доме, а Юсуф как можно чаще наведывался в сад, хотя и понимал, что его визиты не остаются незамеченными. Он слышал, как взмывает внутри дворика при доме жалобный голос, и догадывался, что голос этот поверх стены обращается к нему. Госпожа.
– Она видела тебя, – говорил ему Халил. – Сказала, что ты красивый мальчик. Она наблюдает в зеркалах на деревьях, когда ты гуляешь в саду. Ты заметил зеркала?
Юсуф думал, Халил посмеется над ним, как смеялся над пылом Ма Аюзы, но Халил сделался угрюм и недоволен, чем-то он был озабочен.
– Она очень старая? – спросил Юсуф, пытаясь спровоцировать Халила на обычные его подначки. – Госпожа – старая совсем?
– Да.
– И уродливая?
– Да.
– Жирная?
– Да.
– Она сумасшедшая? – продолжал Юсуф, как зачарованный наблюдая за нарастающим, но словно бесстрастным гневом Халила. – У нее есть слуги? Кто готовит?
Халил отвесил ему несколько пощечин, потом сильно ударил по голове. Он зажал голову мальчика между своих коленей и подержал так, а потом резко его оттолкнул.
– Ты ее слуга. Я ее слуга. Мы ее рабы. Ты совсем головой не думаешь? Глупый мальчишка-суахили, жалкий идиот… Она больна. Ты совсем не смотришь глазами? Такому, как ты, лучше сдохнуть. С тобой каких только бед не приключится, а ты так ничего и не сделаешь. Пошел прочь! – завопил Халил, в уголках его рта выступила пена, тощее тело затряслось от сдерживаемой ярости.
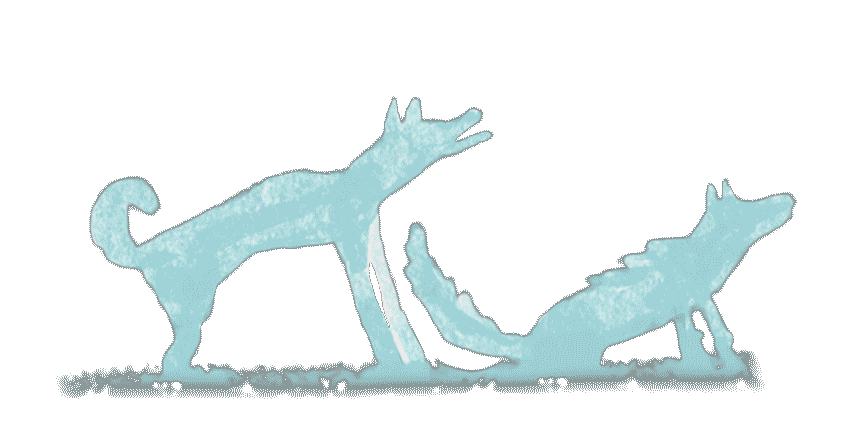
Город в горах
1А потом его неожиданно взяли в путешествие вглубь страны. Он-то уже привык к тому, что время от времени дядя Азиз уходит с караваном. И на этот раз приготовления зашли довольно далеко, когда Юсуф узнал, что и он тоже поедет. Провизию складывали у задней стены лавки и на террасе. Благоухающие мешки с финиками и засушенными фруктами громоздились в одной из боковых кладовок. Пчелы и осы пробирались сквозь зарешеченные окна, привлеченные ароматом и сладким соком, сочившимся из плетенных соломенных мешков. Другие грузы, пахнувшие кожей и копытами, поспешно препровождались в дом. Странной формы, накрыты дерюгой. Магенаo [25], шепнул Халил, контрабанда, отправляется за границу. Большие деньги. Покупатели следили за прибытием покрытых дерюгой грузов, приподнимая брови, обмениваясь довольными взглядами посвященных со стариками, а те, согнанные с привычной скамьи на террасе, преспокойно продолжали наблюдать, рассевшись под деревьями, кивали и ухмылялись, словно были причастны ко всему происходящему. Старики то и дело отлавливали Юсуфа, принуждая его слушать ленивую и осторожную беседу о геморроидальных шишках, работе кишечника или же запорах – в зависимости от того, кому он попадался в руки. И он терпел болтовню о муках угасающих тел в надежде послушать истории иных путешествий, посмотреть, как старики позабывают о своих заботах, возбужденные приготовлениями к новому походу.
В воздухе уже пахло дальней дорогой – густым ароматом иных мест – и звенели громкие распоряжения. По мере того как день отбытия приближался, хаос нехотя сдавал свои позиции. Спокойная, чуть насмешливая улыбка дяди Азиза, его суровое бесстрастное лицо как бы приказывали всем вести себя достойно. В конце концов караван отбывал в ореоле благого спокойствия, его возглавлял трубач, выдувавший из рога журчащую мелодию, барабанщик одобрительно выбивал ритм. Прохожие останавливались, смотрели на караван, улыбались, махали немного печально. Никто из них и не подумал бы отрицать, что походы вглубь страны – предназначение их жизни, и все знали слова, способные объяснить необходимость таких походов.
Юсуф уже много таких караванов проводил, полюбил напористую суету приготовлений. И он, и Халил помогали носильщикам и сторожам, таскали большие и малые грузы, охраняли, пересчитывали. Сам дядя Азиз редко принимал участие в хлопотах. Обо всех мелочах заботился мньяпара, Мохаммед Абдалла. Дьявол! Всякий раз, собираясь в дальний поход, дядя Азиз посылал куда-то внутрь материка за мньяпарой. Тот всегда являлся, ибо дядя Азиз был купец с большими средствами, он мог снарядить экспедицию самостоятельно, не обращаясь за кредитом к индийским мукки. Работать на такого человека считалось честью. А уж носильщиков и охранников Мохаммед Абдалла нанимал сам, обговаривал их долю в прибыли. Он же и следил за их поведением. По большей части это были жители побережья, они сходились издалека – из Килифи, Линди и Мримы. Мньяпара умел внушить им всем страх. Его оскал, порыкивание, безжалостный огонь глаз сулили боль и ничего, кроме боли, всякому, кто его разозлит. Самые простые, заурядные телодвижения он исполнял, помня о своей власти и упиваясь ею. Это был высокий, сильный с виду мужчина, он расхаживал, расправив плечи, готовый ответить на любой вызов. У него были высокие скулы, под кожей ходили жилки, словно от каких-то непростых, едва сдерживаемых порывов. При нем всегда имелась тонкая бамбуковая трость. Он бурно жестикулировал ею, со свистом разрезая воздух, когда злился, обрушивал удар на ленивую задницу, когда кипел от гнева. Было известно, что он бессердечный содомит, в рассеянности он нередко поглаживал свои чресла прилюдно. Говорили (чаще всего те, кому он отказал в работе), что он подбирает носильщиков, согласных в дороге не раз опускаться на четвереньки и ублажать его.
Порой он поглядывал на Юсуфа с пугающей улыбкой, покачивал головой, наслаждаясь. Машалла! – говорил он. Божье чудо! Взгляд его в такие моменты смягчался предчувствием удовольствия, рот приоткрывался в не свойственной этому человеку усмешке, выставляя напоказ испачканные жевательным табаком зубы. Когда ему припадала такая охота, он испускал тяжелые вздохи похоти и с улыбкой бормотал строки песни о природе красоты. Это он сообщил Юсуфу, что его берут с собой, и простые указания, которые он дал при этом, тоже звучали угрозой.
Юсуф вовсе не обрадовался внезапному вмешательству в спокойную жизнь раба, к которой привык за годы. Несмотря ни на что, он не чувствовал себя несчастным в магазине дяди Азиза. Он уже вполне осознал свою роль здесь – рехани, отданный в залог, в обеспечение долгов своего отца. Нетрудно было сообразить, что отец из года в год накапливал долг и этот долг превысил даже ту сумму, которую можно было бы выручить, продав гостиницу. Или же ему не повезло, или он глупо распорядился не своими деньгами. Халил говорил ему, что у сеида это в обычае, чтобы, когда ему что-то понадобится, всегда нашлись люди, кому это можно поручить. Если сеиду позарез требовались деньги, он приносил в жертву кое-кого из должников и собирал нужные средства.
Быть может, когда-нибудь отцу удастся поправить дела и он приедет и выкупит Юсуфа. Он плакал о матери и об отце – когда мог. Иногда впадал в панику при мысли, что их образы постепенно стираются из памяти. Звук их голосов, особые черточки – смех матери, редкая улыбка отца – возвращались, и тогда он успокаивался. Нет, он не тосковал по ним – или, во всяком случае, тоска с каждым днем стихала, но расставание с домом было самым памятным моментом его жизни, вот мальчик и цеплялся за него и грустил о своей утрате. Он думал, сколько всего ему следовало знать о родителях, о чем следовало их расспросить. Думал об их ожесточенных ссорах, которые его пугали. Именах двух мальчиков, отплывших из Багамойо и пропавших в море. Названиях деревьев. Если б он сообразил вовремя расспросить обо всем этом родителей, он бы, наверное, не чувствовал себя таким невеждой, его бы не отделяла от всех и всего зияющая пропасть. Он выполнял поручения, следовал наставлениям Халила, привык полагаться на «старшего брата». Когда разрешали, копался в саду. Старый садовник, Мзе Хамдани, который приходил ухаживать за растениями с утра и до середины дня, оценил его любовь к саду. Старик почти всегда молчал и сердился, если его вынуждали прервать песнопения во славу Бога – некоторые из них он сочинял сам – и выслушивать чью-то речь. Каждое утро он приступал к работе, ни с кем не здороваясь, наполнял ведра и шагал по тропинке, расплескивая воду, словно на свете не существовало ничего, кроме сада и его работы. Когда становилось слишком жарко, он усаживался в тени под тем или иным деревом и читал маленькую книжицу, бормоча, слегка раскачиваясь, погруженный в экстатическое служение. Днем, после молитв, он мыл ноги и уходил. Мзе Хамдани позволял Юсуфу помогать, если тот напрашивался, но не давал указаний, а только не прогонял мальчика. Во второй половине дня, когда солнце близилось к закату, сад целиком принадлежал Юсуфу. Тогда он поливал, обрезал ветки, расхаживал среди деревьев и кустов. Сварливый голос все еще возникал по ту сторону стены и гнал его прочь, когда темнело, хотя порой оттуда в густеющих сумерках доносились и вздохи, и обрывки песен. Этот голос пробуждал в нем печаль. Однажды мальчик услыхал приглушенный вопль тоски, напомнивший ему о матери. Он остановился под стеной и вслушался, дрожа от страха.
Он давно уже не расспрашивал о госпоже. Такие вопросы лишь сердили Халила. Это не наше дело, не задавай бессмысленных вопросов. Ты навлечешь кисимни… злосчастье. Хочешь обрушить на нас беду? Юсуф понимал, чего требует от него гнев Халила: помалкивать о госпоже, – но невольно перехватывал взгляды, которыми обменивались покупатели, расспрашивая, как того требовала вежливость, о делах домашних. Бродя вечерами по городу, Халил и Юсуф видели огромные молчаливые дома с глухими передними стенами, где жили богатые оманцы.
– Они выдают дочерей только за сыновей своих братьев, – объяснил мальчику кто-то из покупателей. – В иных из этих крепостей заперто слабое потомство, о котором никогда и словом не упоминают. Порой видишь лица этих бедолажек, они прижимаются к решетке окна там, на самом верху. Один Бог знает, в каком смятении они взирают на наш жалкий мир. А может, они сознают, что это кара за грехи отцов.
Они ходили в город каждую пятницу – молились в соборной мечети, играли в кипанде и футбол на улице. Прохожие кричали Халилу, что ему пора уже стать главой семьи, а не забавляться с ребятишками. Люди будут говорить о тебе, приклеят к тебе грязные клички, предупреждали они. Однажды старуха остановилась и несколько минут смотрела на игру, пока Халил не подошел ближе, тогда она сплюнула наземь и ушла. На закате они прогуливались у моря и разговаривали с рыбаками, если кто-то из них оставался на берегу. Им предлагали покурить, и Халил с благодарностью принимал, не давая Юсуфу. Он слишком красив, чтобы курить, говорили рыбаки. Это его испортит. Курево – дьявольская уловка, грех. Но как без него жить бедняку? Юсуф вспоминал трагические истории Мохаммада, нищего побродяги, – как он лишился любящей матери и орошаемой земли к югу от Виту – и нисколько не противился такому запрету. Рыбаки рассказывали о своих приключениях, о чудесах и ужасах, случавшихся с ними в море. Тихо и торжественно говорили они о демонах, спускавшихся прямо им на голову с ясного неба в образе внезапной бури или же поднимавшихся из темной ночной пучины в образе гигантских светящихся скатов. Снисходительные друг к другу, они обменивались вымыслами о достопамятных битвах против могущественных и доблестных врагов.
Потом мальчики смотрели, как играют в карты возле кафе, или покупали еду и ели на открытом воздухе. Иногда на улице случались танцы или концерты, затягивавшиеся до поздней ночи, – так отмечались сезонные праздники или чья-то личная удача. Юсуф чувствовал себя в городе как дома, он бы охотно наведывался туда чаще, но он видел, что Халилу там не по себе. Счастливее всего Халил был у себя за прилавком, перекидываясь шуточками с покупателями, нарочито усиливая свой арабский выговор. Такому общению он радовался совершенно искренне, смеялся подначкам, насмешкам над собой с таким же удовольствием, с каким смеялись сами покупатели, внимательно и сочувственно выслушивал истории о жизненных тяготах, о незаживающих болячках. Ма Аюза сказала, если б она не была уже просватана за Юсуфа, она бы присмотрелась к Халилу, ничего, что он тощий и суетливый.
Однажды вечером они пошли в центр старого города на индийскую свадьбу – не в качестве гостей, а в составе немытой толпы, явившейся посмотреть, как выставляют напоказ семейное преуспеяние и подобающие чувства. Все были поражены богато расшитыми платьями и золотыми украшениями, хлопали при виде веселых разноцветных мужских тюрбанов. Воздух полнился тяжелыми древними ароматами, густой дым благовоний поднимался от медных горшков, расставленных на дороге перед домом. Благовония заглушали запах, доносившийся из крытых сточных канав вдоль дороги. Процессию, которая сопровождала невесту, возглавляли двое мужчин, они несли большой зеленый фонарь в форме многокупольного, с луковичными сводами, дворца. По обе стороны от невесты двумя рядами выстроились молодые люди, они пели и прыскали розовой водой на тех, кто толпился у дороги. Некоторые юноши казались смущенными, зеваки почуяли это и принялись осыпать их насмешками и оскорблениями, чтобы еще больше смутить. Невеста выглядела совсем юной, девочка-веточка. С головы до ног она была закутана в шелковые, затканные золотом покровы.
На ее запястьях и лодыжках тускло сияли тяжелые браслеты, большие серьги мерцали, словно яркая тень, из-под вуали. Яркий свет фонаря выхватил из тени силуэт склоненного лица, когда новобрачная входила в узкую калитку дома, где жил ее супруг.
Затем на улицу вынесли блюда с угощением для зевак – самосу [26], ладду [27], миндальную халву. Музыка играла до поздней ночи, струнные и ударные инструменты сопровождали голоса, которые звучали с прекрасной ясностью и точностью. Слов этих песен никто в толпе перед домом не понимал, но все равно люди остались послушать. Песни делались все более грустными по мере того, как ночь тянулась, и постепенно зеваки начали молча расходиться, спугнутые той печалью, что сулили эти песни.
2Киджана мзури. «Красивый мальчик», – произнес Мохаммед Абдалла, остановившись перед Юсуфом. Он обхватил его подбородок ладонью – на ощупь ладонь была неровная, чешуйчатая. Юсуф мотнул головой, высвобождаясь, в подбородке запульсировала кровь.
– Ты едешь с нами. Сеид велел, чтобы ты был готов к утру. Поедешь с нами, будешь учиться торговать, узнаешь разницу между обычаями цивилизованных людей и обычаями дикарей. Настало тебе время повзрослеть и увидеть мир, а не возиться в грязной лавке.
По лицу надсмотрщика, пока он это говорил, расползалась улыбка, оскал хищника, напомнивший Юсуфу о псах, которые проникали в тайные закоулки его кошмаров.
Юсуф поспешил к Халилу в надежде на сочувствие, но тот не стал жалеть его и плакать о его участи. Он рассмеялся и ткнул «братца» кулаком в плечо – вроде бы игриво, но больно.
– А ты хотел вечно сидеть тут да копаться в саду? И петь касыды, как сумасшедший Мзе Хамдани? Там тебя тоже ждут сады. Одолжи у сеида мотыгу. Он их много дюжин везет, будет меняться с дикарями. Они обожают мотыги, эти племена. Откуда мне знать почему? Я слыхал, драться они тоже любят. Но тебе все об этом известно. Могу не трудиться рассказывать. Ты сам родом из диких краев – там, в горах. Чего ты боишься? Тебе отлично будет. Скажи им, что ты один из местных принцев, вернулся домой подыскать себе жену.
В тот вечер Халил избегал его, возился в лавке, увлеченно болтал с носильщиками. Когда же не мог более его избегать, поскольку они улеглись рядом на циновках, отшучивался в ответ на любые вопросы, какие Юсуф пытался ему задать.
– Может, в этом путешествии встретишь своего дедушку… Вот будет событие… А все эти непривычные виды, дикие звери… Или боишься, что у тебя за это время уведут Ма Аюзу? Не бойся, братец-суахили, она твоя навек. Я скажу ей, что ты плакал перед разлукой, боялся, некому будет погладить твой стручок там, среди варваров. Она будет ждать тебя. А когда вернешься, придет, чтобы спеть. Скоро ты сделаешься богатым купцом, будешь ходить в шелках и благоухать, как сеид, будешь носить кошельки на брюхе и четки на запястье, – болтал он.
– Да что с тобой такое? – вскричал Юсуф, голос его задрожал от обиды и жалости к себе.
– А что мне делать? Плакать? – со смехом парировал Халил.
– Я завтра уезжаю, отправлюсь с этим человеком и его разбойниками…
Халил зажал Юсуфу рот рукой. Они устроились в задней части лавки, потому что переднюю террасу давно занял Мохаммед Абдалла и его люди, они же загадили все кусты по краям росчисти. Халил приложил палец к губам и тихо, предостерегающе зашипел. Когда Юсуф попытался что-то еще сказать, Халил резко ударил его в живот, и мальчик застонал от боли. Его словно изгоняли из рая, его как будто обвинили в предательстве, за что – он не понимал. Халил притянул его к себе, крепко обнял, подержал так и отпустил.
– Это ради твоего же блага, – сказал он.
Утром накрытые дерюгой грузы сложили на старый грузовик – их отправляли вперед, караван нагонит их позже. Водитель грузовика, наполовину грек, наполовину индиец по имени Вакх, носил длинные черные волосы и аккуратно подстриженные усы. Его отец держал в городе небольшой заводик по производству льда и бутилированной воды и время от времени сдавал грузовик вместе с сыном внаем купцам. Вакх сидел в кабине, распахнув дверь, мягкое круглое тело уютно расползлось по сиденью. Изо рта водителя непрерывно сыпались непристойности, произносимые кротко и без улыбки. В промежутках между ругательствами он пел обрывки любовных песен, попыхивая своей бири [28].
– Будьте так добры, козолюбы, я бы с радостью сидел тут и гладил ваши задницы день напролет, но у меня и других грузов хватает, слышь. Так что навалитесь-ка, хватит нюхать дерьмо друг друга.
Если истину искать – то искать в твоих глазах,В прочих лицах лишь вранье.Если счастия искать – ласки мне просить твоей,Пусть заткнется воронье.Вах, вах, джанаб [29]! Если б махараджа услышал, как я пою, он бы каждый день угощал меня лучшим куском мяса. Странно тут у вас пахнет. Я бы сказал, воняет гниющими петушками, но, может быть, вас так кормят. Эй, бабá! Что тебе тут дают? В поте, который льется у тебя по спине, полно жира. Там, куда вы отправляетесь, слышь, любят жирное мясцо, так что следите, куда пристраиваете свои жопки. Полно, братец, хватит чесаться, пусть тебе кто другой почешет. Толку все равно никакого. От такой болячки лишь одно лекарство. Зайди сюда, к стенке, и сделай мне массаж. Я тебе пять анн дам.
Носильщики ржали, чуть не падали со смеху. Так браниться перед самим купцом! Стоило водителю запнуться, и его осыпали ответными ругательствами, поносили отца и мать, выдумывали мерзости о его детях. «Отсосите у меня», – отвечал он, хватаясь за свой пах, и вновь неистощимо бранился.
Другую часть товаров отвозили на станцию в рикваме, длинной тележке, которую вручную толкали грузчики. До последней минуты дядя Азиз о чем-то тихо переговаривался с Халилом, и тот почтительно кивал, запоминая все указания. Носильщики разбились на праздные группки, болтали, спорили, внезапно взрывались смехом, хлопали друг друга по рукам.
– Хайя, отправляемся! – скомандовал наконец дядя Азиз и подал сигнал. Барабанщик и горнист тут же заиграли, ринулись в самое начало колонны. Мохаммед Абдалла зашагал следом, высоко вздернув голову, его трость описывала в воздухе огромную дугу. Юсуф помогал толкать тележку, следил за деревянными колесами – не наехать бы кому на ногу – и ритмично ухал вместе с грузчиками. Ему было стыдно смотреть, как Халил напоследок обцеловывает руку дяди Азиза, словно готов заглотить ее целиком, только позвольте. Он всегда так себя вел, но в то утро Юсуфу стало противно. Он слышал, как Халил что-то кричит ему вслед, мол, братец-суахили, но не оглянулся.
Дядя Азиз шел в самом конце, время от времени останавливаясь, обмениваясь прощальными словами с наиболее достойными знакомцами из числа прохожих и зевак.
3Носильщики и охранники разместились в вагоне третьего класса, по-хозяйски развалились на дощатых скамьях. Юсуф ехал вместе с ними. Пассажиры перешли в другие вагоны или жались по углам, напуганные шумом и грубостью этой компании. Мохаммед Абдалла наведался сюда из другой части вагона, с усмешкой слушал возбужденную болтовню, невежественные рассуждения. В вагоне было тесно и сумрачно, пахло древесным дымом и липкой землей. Прикрыв глаза, Юсуф вспоминал первое свое путешествие на поезде. Ехали два дня и ночь между ними, с частыми остановками, скорость особо не набирали. Поначалу сплошные заросли пальм, фруктовых деревьев, и сквозь эту растительность на обочине можно было разглядеть маленькие фермы и плантации побольше. На каждой остановке носильщики и охранники высыпали на платформу посмотреть, что там такое. Некоторые ехали по этому маршруту не первый раз, знали служащих станции или торговцев, выходивших к поезду, сразу же вступали в разговор с ними, передавали подарки и весточки. На одной остановке, в тиши дневной жары, Юсуфу послышался шум водопада. Потом поезд остановился в Каве, и Юсуф сел на пол вагона, затаился, чтобы никто из местных не увидел его, не смутил его родителей. А дальше они свернули к востоку, начались холмы и взгорья, деревья и фермы поредели, вместо пастбищ все чаще встречались густые леса.
Носильщики и охранники ворчали, переругивались между собой. Все время говорили о еде, обсуждали всякие замечательные блюда, недоступные в пути, спорили, в чьих краях готовят лучше. Испортив друг другу настроение и заодно проголодавшись, они принимались спорить о другом: об истинном значении тех или иных слов, о размерах приданого, полученного дочерью знаменитого купца, о подвигах отважного капитана корабля или о том, почему у европейцев кожа словно ободрана. Весьма оживленно прошли полчаса, когда сравнивали вес яичек разных животных – быков, львов, горилл, у кого тяжелее, – каждая партия имела своих приверженцев. Ругались из-за места для сна, мол, кто-то занял чужое. Толкались с громким уханьем и проклятиями. Раззадорившись, воняли пóтом с оттенком мочи и застоявшегося табачного дыма. А там уж и драки пошли. Юсуф прикрывал голову руками, вжимался спиной в стену вагона и брыкался изо всех сил, если кто-то приближался к нему. В ночи он слышал какое-то бормотание, тихое движение, и постепенно стал различать звуки тайных поцелуев, а там и легкий смех и глухой шепот наслаждения.
Днем он глядел в окно, присматривался к местности, подмечал перемены в ней. Справа вновь вздымались холмы, темные, кажется, обильно заросшие. Воздух над возвышенностью был густым и мутным, словно укрывал некую тайну. На потрескавшейся от зноя равнине, по которой пролагал себе путь поезд, свет был прозрачен, но когда всходило солнце, воздух забивала пыль. Эта опаленная солнцем, засохшая равнина местами была покрыта пятнами мертвой травы – в сезон дождей она превратится в роскошную саванну. Там и сям торчали искривленные шипастые деревья, черные скалы бросали на них густую тень. От раскаленной земли поднимались волны зноя и пара, забивали рот, затрудняли дыхание. На одной станции, где они задержались надолго, цвела одинокая жакаранда. Лиловые и бордовые лепестки лежали на земле переливчатым ковром. Рядом с деревом находился двухкомнатный пристанционный магазин. На дверях висели огромные ржавые засовы, беленые стены были забрызганы грязью с примесью красной глины.
Частенько он вспоминал Халила и грустил, думая об их дружбе и о своем внезапном угрюмом отъезде. Но Халил чуть ли не рад был его выпроводить. Юсуф думал о Каве, о родителях там, и гадал, мог ли он что-то сделать иначе.
Они прибыли ближе к вечеру в маленький город под высокой, со снежной вершиной, горой. Воздух здесь был приятно прохладным, свет мягкий, словно ранние сумерки отражались в бескрайней воде. Дядя Азиз приветствовал начальника станции, индийца, как старого друга.
– Мохун Сидхва, худжамбо бвана вангу [30]. Надеюсь, вы в добром здравии, и ваши дети, и мать ваших детей, все в добром здравии. Альхамдулиллахи раби аль-алямин [31], чего нам еще и желать.
– Карибу [32], бвана Азиз. Добро пожаловать. Надеюсь, и в вашем доме все благополучно. Какие новости? Как идут дела? – Плотный приземистый начальник станции с плохо скрытым возбуждением и радостью изо всех сил сжимал руку дяди Азиза.
– Мы благодарим Бога за все, чем Он соизволил нас благословить, старый друг, – ответил дядя Азиз. – Но довольно про меня, расскажи, что да как было тут. Молюсь, чтобы все твои начинания были успешны.
Они скрылись в низком, похожем на сарай здании, где располагался кабинет начальника станции. На ходу оба улыбались, болтали, спешили обменяться всеми приличествующими случаю любезностями, прежде чем перейти к делу. Над зданием развевался огромный желтый флаг, дрожал и хлопал на ветру, казалось, та хищная черная птица на нем бьется в гневном припадке. Носильщики переглядывались с улыбками, понимая, что сейчас сеид сторгуется с железнодорожником и тот, приняв взятку, существенно снизит поборы за их багаж. Вскоре явился помощник начальника, прислонился к стене с беззаботным видом случайного зеваки. Тоже индиец – низенький и худой молодой человек, старавшийся не привлекать ничье внимание. Носильщики перемигивались, посмеиваясь над его позой, бросали ему реплики – дескать, им ли не знать. А сами меж тем под присмотром Мохаммеда Абдаллы и охранников разгружали багаж, сваливали кучами на платформе.