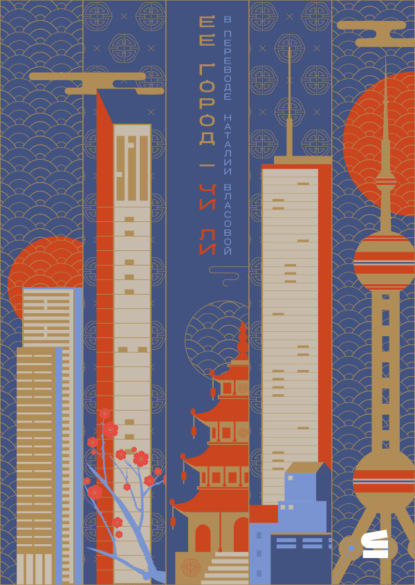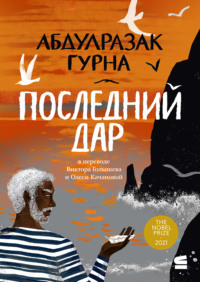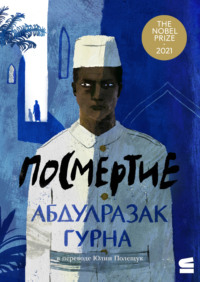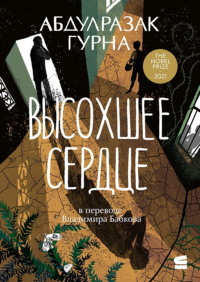Полная версия
Рай

Абдулразак Гурна
Рай

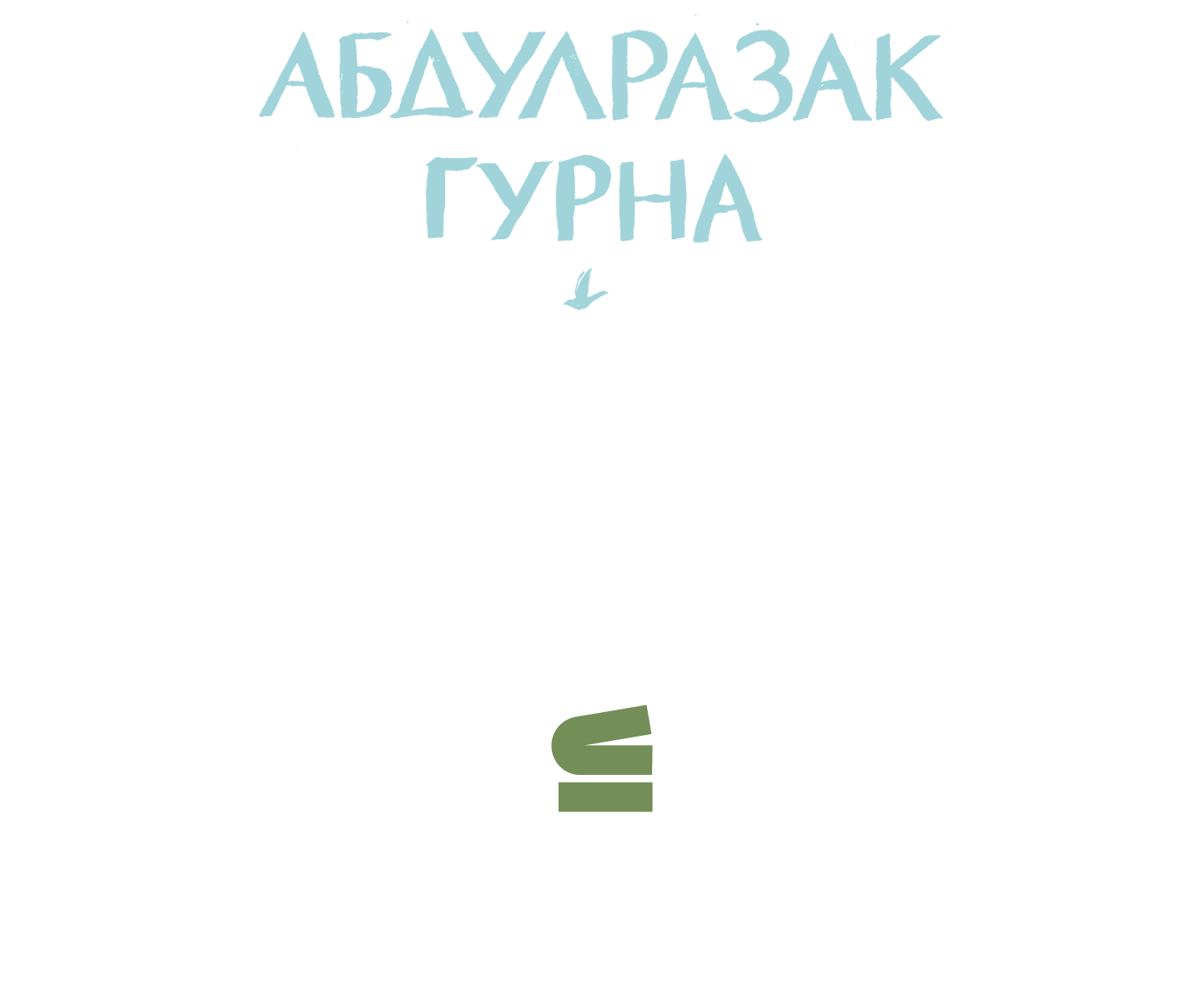
Сальме Абдалла Басалама
Запретный сад
1Сначала мальчик. Его звали Юсуф, и на тринадцатом году жизни он внезапно покинул родной дом. Ему запомнилось, что случилось это в сезон засухи, когда каждый день похож на предыдущий. Нежданные цветы рождались и умирали. Странные насекомые порскали из-под камней и в корчах издыхали на беспощадном солнце. Дальние деревья колебались в слепящем зное, дома как будто дрожали, силясь вдохнуть. Каждый шаг вздымал облако пыли; коченящая неподвижность сковывала дневные часы. Так неизменно происходит в конце сезона.
В ту пору он впервые в жизни увидел на железнодорожной станции двух европейцев. Они его не испугали – не с первого взгляда. Он часто ходил на станцию посмотреть, как шумно и изящно прибывает поезд, а потом ждал, пока тот вновь не тронется в путь по отмашке хмурого сигнальщика-индийца, повелителя флажков и свистка. Два европейца тоже дожидались, стоя под тряпичным навесом со своим багажом, в нескольких шагах от них была аккуратно сложена еще какая-то ценная с виду поклажа.
Мужчина был крупный, такой высокий, что пригибался, стараясь не задеть головой навес, под которым укрывался от солнца. Женщина глубже спряталась в тень, обе шляпы отчасти заслонили ее блестящее лицо. Белая блузка с оборками была застегнута под горлом и на запястьях, подол длинной юбки свисал почти до земли. Женщина тоже была высокой и крупной, но по-другому. Если она выглядела пухлой и податливой, как будто способной принять иную форму, то мужчина был словно вырезан из цельного куска дерева. Они смотрели в разные стороны, точно чужие. Подглядывая за ними, Юсуф заметил, как женщина провела платком по губам, ненароком стряхивая хлопья сухой кожи. Лицо мужчины испещряли красные пятна; пока он медленно окидывал взглядом убогую станцию, запертые деревянные склады, высокий шест с огромным желтым знаменем, а на полотнище – хищная черная птица, Юсуф успел хорошенько его рассмотреть. Затем мужчина повернулся и увидел, как таращится на него Юсуф, – на миг отвел глаза, а потом пристально уставился на мальчика. И Юсуф не смог отвернуться. Внезапно мужчина оскалился, скрючил пальцы, будто повинуясь инстинкту. Юсуф понял, что это значит, и бежал опрометью, бормоча слова, которые его научили повторять, когда внезапно понадобится помощь свыше.
В тот год, когда он покинул дом, столбы задней веранды поразил древоточец. Отец сердито колотил кулаком по столбам всякий раз, проходя мимо, давая понять: он знает, что за игру они затеяли. Древоточцы оставляли на бревнах следы, похожие на вывернутую изнанку земли, – такими отвалами мечены ходы подземных животных по пересохшему руслу реки. Столбы отзывались гулким, полым звуком, и когда Юсуф в свою очередь стучал по ним, с них мелкими спорами сыпалась гниль. Если Юсуф ныл, выпрашивая еду, мать предлагала ему поесть гусениц.
– Я голоден! – завывал он, самоучкой освоив жалобную песнь, которая с каждым годом выходила у него все более нахальной.
– Жри червяков! – повторяла мать и смеялась над преувеличенной гримасой отвращения и обиды на его физиономии. – Давай, набей ими вволю брюхо. Я тебе мешать не стану.
Он вздыхал устало и разочарованно – давно отрабатывал эту манеру показывать матери, сколь жалка ее шуточка. Порой они ели кости, мать кипятила их, чтобы получился жиденький суп, поверхность которого блестела цветом, жиром, а в глубине таились комья черного ноздреватого костного мозга. А в самые плохие дни подавалась лишь похлебка из окры, но как бы Юсуф ни проголодался, склизкая жижа не шла в глотку.
В эту пору их посетил дядя Азиз. Визиты его всегда были краткими, редкими, обычно ему сопутствовала толпа помощников, носильщиков, музыкантов. В городке он останавливался посреди долгого перехода от побережья в горы, к лесам и озерам, через безводные равнины и голые скалистые холмы внутренних областей. Обычно его караван сопровождали музыканты с барабанами и тамбуринами, с рогами и сивами [1], и, когда они входили в город, домашний скот с топотом уносился прочь, а дети совсем отбивались от рук. От дяди Азиза исходил странный запах – шкур и благовоний, камеди и специй и еще какой-то непонятный, в котором, казалось, таилась угроза. Одевался он обычно в тонкий развевающийся камзу [2] из тонкого хлопка, маленькую вышитую шапочку куфи сдвигал на затылок. Такой изысканный вид, вежливые несуетливые манеры, больше похож на богача, который вышел погулять вечерком, или на верующего, идущего совершить вечернюю молитву, а не на купца, продиравшегося сквозь колючие заросли, гнезда плюющихся ядом гадюк. Даже в чаду прибытия, посреди хаоса и беспорядка сброшенных наземь тюков, в окружении усталых, шумных носильщиков и зорких, загребущих торговцев дядя Азиз держался спокойно, без напряжения. В этот раз он явился один.
Юсуф всегда радовался дяде Азизу. Отец говорил, для них честь принимать такого богатого и знаменитого купца – таджири мкубва [3], – но Юсуф радовался не только чести, хотя и это дело неплохое. Дядя Азиз каждый раз, без пропуска, дарил мальчику десять анн, когда гостил у его родителей. Взамен от Юсуфа не требовалось ничего, лишь явиться вовремя. Дядя Азиз оглядывался, замечал его, улыбался и дарил монету. Юсуфу тоже хотелось улыбнуться, когда наступал этот момент, но он догадывался, что улыбка будет не к месту, и сдерживался. А еще он восхищался блестящей кожей дяди Азиза и его таинственным запахом. Даже после отъезда дяди облако благовоний висело в воздухе еще несколько дней.
К третьему дню стало ясно, что дядя Азиз вот-вот снова пустится в путь. В кухне поднялась непривычная суета, доносились сложные, ни с чем не перепутаешь, ароматы близящегося пира. Сладкие специи для жарки, томящийся кокосовый соус, булочки из дрожжевого теста и лепешки, тут же поспевало и печенье, и мясо кипело в котле. На протяжении всего дня Юсуф не отлучался далеко от дома на случай, если маме понадобится помощь с готовкой или его мнение о том или ином блюде. Мама ценила его мнение в таких делах, это мальчик знал. Или вдруг она забудет помешать соус, пропустит тот момент, когда нагретое масло задрожит и в него пора бросать овощи. Задача у Юсуфа была непростая: он присматривал за тем, что творилось в кухне, однако не хотел, чтобы мать заметила, как он тут околачивается. Заметит – пошлет его туда и сюда с кучей поручений, что и само по себе нерадостно, а главное – того гляди упустишь возможность попрощаться с дядей Азизом. Всегда именно в этот момент монета в десять анн переходила из рук в руки – дядя Азиз протягивал ладонь для поцелуя, мальчик склонялся над ней, свободной рукой дядюшка поглаживал его по затылку и тут-то ловким, отработанным движением совал Юсуфу подарок.
Отец обычно работал до полудня или чуть дольше. Юсуф знал, что дядю Азиза отец приведет, когда будет возвращаться домой, так что до тех пор надо убить еще немало времени. Отец управлял гостиницей. Последнее на нынешний момент занятие, с помощью которого отец пытался сколотить состояние и составить себе имя. Под настроение он рассказывал родным о других планах, на которые прежде возлагал надежды, – рассказывал так, что все затеи выходили смешными и вздорными. Или же до слуха мальчика доносились жалобы на то, как вся жизнь отца пошла под откос, все, за что он брался, рухнуло. Гостиница – по сути, закусочная с четырьмя чистыми постелями в комнате наверху – находилась в городишке Кава, где семья прожила чуть дольше четырех лет. Прежде они жили на юге, тоже в маленьком городке, посреди сельской местности, там отец держал лавку. Юсуфу запомнились зеленые холмы и тени дальних гор; старик, сидевший на табурете у входа в лавку, вышивал куфи шелковой нитью. Семья перебралась в Каву, потому что город быстро богател: немцы оборудовали здесь перевалочный пункт, строя дорогу вглубь страны, к горной ее части. Но процветание так же скоро и закончилось, теперь поезда останавливались лишь затем, чтобы пополнить запасы дров и воды. В последний свой приезд дядя Азиз отправился из Кавы на запад пешком, но в следующий раз, по его словам, проедет по железной дороге как можно дальше, до конечной станции, а оттуда двинется либо на северо-запад, либо на северо-восток. В тех местах еще удается заключить выгодную сделку, сказал он, не то что здесь. Порой Юсуф слышал, как отец бормотал: весь городишко движется прямиком в ад.
Поезд до побережья отбывал ранним вечером, и Юсуф предполагал, что дядя Азиз поедет на нем. Угадывал по каким-то черточкам его поведения, что дядя собирается домой. Но люди непредсказуемы: кто знает, вдруг он сядет на поезд в горы, а тот уезжает посреди дня. В любом случае Юсуф будет наготове. Отец требовал, чтобы сын каждый день появлялся в гостинице после полуденной молитвы – осваивать семейное дело и готовиться к самостоятельности, как говорил отец, но на самом деле он помогал двум юношам, которые крутились на подхвате в кухне и подавали еду гостям. Гостиничный повар пил, бранился, осыпал ругательствами всякого, кто попадался ему на глаза, и лишь при виде Юсуфа поток непристойностей прерывался на полуслове и повар расплывался в улыбке, да только мальчик все равно боялся, трепетал в его присутствии. В тот день он не пошел в гостиницу, он и полуденные молитвы не прочел, уверенный, что в жуткую жару этих часов никто не станет его разыскивать. Он прятался в прохладных уголках и за курятником на заднем дворе, пока его не выгнала оттуда удушливая вонь, поднимающаяся вместе с дневной пылью. Тогда он притаился на дровяном складе у соседнего дома, в густой лиловой тени под сводом соломенной крыши, вслушивался в настороженное шуршание суетливых ящерок, настойчиво дожидаясь своих десяти анн. Тишина и сумрак дровяного склада нисколько его не угнетали: он привык играть в одиночестве. Отец не разрешал ему отлучаться далеко от дома. «Мы живем среди дикарей, – твердил он, – среди вашензи [4], которые не верят в Бога, поклоняются духам и бесам, обитающим в деревьях и скалах. Самое милое дело для них – украсть малыша и творить с ним все, что вздумается. Или ты пойдешь с другими, с теми, кому на все наплевать, бездельниками, сыновьями бездельников, а те не уследят за тобой, и тебя сожрут дикие псы. Оставайся тут, поблизости, здесь безопасно, здесь за тобой всегда кто-нибудь присмотрит». Отец хотел бы, чтобы мальчик играл с детьми индийского торговца, жившего неподалеку, вот только маленькие индийцы, стоило к ним подойти, швыряли в него песком и бранились. «Голо-голо», – распевали они и плевались в его сторону. Порой Юсуф пристраивался к компании ребят постарше, рассаживавшихся в тени под деревом или под навесом дома. С ними было хорошо: парни подшучивали друг над другом и хохотали. Их родители работали вибаруа [5] – строили дорогу для немцев, носили багаж путешественников и торговцев. Платили им сдельно, а работы часто не бывало никакой. От старших парней Юсуф слышал, немцы вешают тех, кто недостаточно прилежно трудится, на их взгляд. А если по малолетству и не повесят, отрежут орешки. Немцы ничего не боятся. Делают что хотят, никто им не указ. Один парень говорил, его отец видел, как немец сунул руку прямо в пылающий огонь и не обжегся, словно он не человек, а призрак.
Их родители-вибаруа сбрелись в город со всех сторон – с гор Усамбара к северу от Кавы, от знаменитых озер к западу от гор, из растерзанных войной саванн юга, а многие и с побережья. Парни смеялись над родителями, передразнивали их трудовые песни, сравнивали, у кого отцы противнее воняют, когда приходят домой. Они выдумывали прозвища для тех мест, откуда были родом, вздорные, скверные клички, дразнили и унижали друг друга. Порой дрались, пинались, катались по земле, пытались уже не в шутку причинить боль. Кто постарше, пристраивался на работу – прислугой, на посылках, но чаще всего они болтались вот так, без дела, ждали, пока подрастут и смогут приняться за мужскую работу. Если ему позволяли, Юсуф усаживался рядом, слушал их разговоры, иногда его посылали куда-то с поручением.
От скуки ребята играли в карты и сплетничали. От них Юсуф впервые услышал, что младенцы прячутся в пенисе. Когда мужчина хочет зачать ребенка, он засовывает младенчика женщине в живот: там места больше, и малыш созревает. Такое объяснение показалось неправдоподобным не только ему, и все извлекли члены, принялись их мерить под разгоравшийся все более пылко спор. Вскоре о младенцах забыли, пенисы оказались достаточно занятны сами по себе. Старшие гордо предъявляли свое хозяйство и заставляли меньших выставлять свои абдаллы, чтобы посмеяться над ними.
Иногда играли в кипанде. Юсуф был слишком мал, и бита ему не доставалась, поскольку очередность определялась возрастом и силой, но он никогда не отказывался, лишь бы разрешили присоединиться к полевым игрокам, которые опрометью мчали в пыли за летящим по воздуху деревянным обрубком. Однажды отец заметил, как он несется по улице вместе с орущими, гонящимися за кипанде ребятами. Отец смерил Юсуфа недовольным взглядом и, отвесив затрещину, послал домой.
Мальчик вырезал себе кипанде и приспособил правила так, чтобы играть в одиночку: притворялся, будто игроков много, и по очереди превращался в каждого из них с тем преимуществом, что мог орудовать битой сколько вздумается. Носился взад-вперед по дороге перед домом, возбуждено крича и пытаясь поймать кипанде, ударом биты запускал деревяху как можно выше в воздух, чтобы успеть добежать до нее.
2Итак, в день, когда намечался отъезд дяди Азиза, Юсуф без малейших угрызений совести растрачивал время, карауля свои десять анн. Отец и дядя Азиз пришли домой вместе в час. Мальчик видел, как мерцают в жидком свете их тела, когда мужчины медленно двигались по каменной дорожке к дому. Они шли молча, опустив головы, сгорбив от зноя плечи. Обед уже был накрыт – только для них – в гостиной, на лучшем ковре, Юсуф самолично поучаствовал в последних приготовлениях, чуть подвинул одну-две тарелки для пущей красы, заслужил широкую благодарную улыбку выбившейся из сил мамы. Заодно и проверил, что за угощение. Два разных карри, с курицей и с мелко порезанной бараниной. Лучший пешаварский рис, блестящий от гхи, усыпанный изюмом и миндалем. Пухлые ароматные булочки, маандази и махамри [6], до краев переполняют накрытую полотенцем корзину. Шпинат в кокосовом соусе. Тарелка желтого лотоса. Полоски сушеной рыбы, обожженные в догорающих углях после того, как были приготовлены все остальные блюда. Юсуф чуть не заплакал от зависти, взирая на это обилие, столь непохожее на обычные их скудные трапезы. Мама при виде его страданий нахмурилась, но мальчик так выразительно гримасничал, что в итоге она рассмеялась.
Мужчины уселись, и тогда Юсуф вошел к ним с медным кувшином и тазом, с чистым льняным полотенцем, переброшенным через левую руку. Он медленно лил воду, пока дядя Азиз, а следом отец споласкивали руки. Мальчику нравились такие гости, как дядя Азиз, очень нравились. Об этом он размышлял, сидя на корточках за дверью гостиной и прислушиваясь, не понадобятся ли его услуги. Он бы лучше остался в комнате, при них, но отец зыркнул сердито и выгнал мальчика вон. Когда появлялся дядя Азиз, всегда происходило что-нибудь интересное. Он ел только у них в доме, хотя на ночлег отправлялся в гостиницу. То есть после трапезы частенько оставались всякие интересные кусочки, если только мама не добиралась до них первой – в таком случае объедки отправлялись в соседский дом или прямиком в желудки бродячих попрошаек, которые порой являлись на порог, бормоча и вереща свои молитвы. Мама говорила, богоугоднее раздать еду соседям и нуждающимся, чем предаваться обжорству. Особого смысла в этих словах Юсуф не видел, но мама говорила, добродетель – сама себе награда, и по внезапной резкости ее голоса мальчик догадывался: одно лишнее слово – и придется выслушивать очередную длинную проповедь, а ему их более чем достаточно перепадало от учителя Корана. С одним попрошайкой Юсуф даже не против был делиться остатками. Звали его Мохаммад – истощенный, с пронзительным голосом, вонял гнилым мясом. Однажды Юсуф обнаружил его возле дома, нищий горстями поедал красную землю, выкапывая ее из разрушенной внешней стены. Рубаха засаленная, вся в пятнах, немыслимо драные, сплошь в дырах, короткие штаны, ободок шапочки потемнел от пота и грязи. Юсуф с минуту разглядывал чужака, соображая, случалось ли ему видеть таких грязных людей, а потом сходил и принес миску оставшейся с обеда тапиоки. Проглотив несколько ложек, испуская благодарные вопли, Мохаммад поведал мальчику трагедию своей жизни и причину этой трагедии: марихуана. Некогда он был богат, сказал он, у него была поливная земля и скот и мама, которая его любила. День напролет он изо всех сил усердно обрабатывал милую свою землю, а вечером садился рядом с мамой, и она пела хвалу Богу и рассказывала чудесные истории про большой мир.
Но потом грех нашел на него, напал с такой силой, что Мохаммад оставил свою мать и свою землю и отправился на поиски зелья, и с тех пор бродил по свету, получая тычки и зуботычины, и жрал землю. Ни разу в этих странствиях не доводилось ему отведать еду, приготовленную с таким совершенством, с каким готовила его мать, – разве что эта тапиока сравнится с ней. Он рассказывал Юсуфу истории о своих странствиях, сидя у боковой стены дома, пронзительный голос оживлялся, морщинистое молодое лицо словно трещинами рассекали улыбки, ухмылки, обнажавшие сломанные зубы. «Учись на моем ужасном примере, юный друг! Заклинаю тебя: не притрагивайся к зелью!» Визиты его никогда не затягивались надолго, но Юсуф всякий раз был рад видеть этого бродягу и послушать о новых его приключениях. Особенно он любил рассказы об участке орошаемой земли к югу от Виту, о тех счастливых годах. На втором месте в списке предпочитаемых мальчиком сюжетов значилась история о том, как Мохаммад впервые попал в сумасшедший дом в Момбасе. «Валлахи, я говорю тебе всю правду, как есть, юный друг! Они сочли меня безумцем! Можешь в такое поверить?»
Там ему сыпали в рот соль и били по лицу, чтобы не отплевывался. Его оставляли в покое, только если он сидел неподвижно и позволял кускам соли таять во рту, стекать в кишки, проедая их насквозь. Об этой пытке Мохаммад рассказывал с содроганием, но и словно посмеиваясь. Имелись у него и другие истории, которые Юсуфу вовсе не нравились, о том, как у него на глазах насмерть забили камнями слепого пса, о детях, над которыми измывались. Иногда Мохаммад упоминал молодую женщину, которая жила в Виту. Мать хотела женить его, добавлял он с глуповатой улыбкой.
Поначалу Юсуф его прятал, опасаясь, как бы мама не прогнала Мохаммада, но тот, завидев маму Юсуфа, столь благодарно вопил, извиваясь всем телом, что сделался одним из ее любимцев среди попрошаек. «Заклинаю тебя, почитай свою мать! – восклицал он, услаждая ее слух. – Учись на моем ужасном примере!» Известны случаи, говорила потом Юсуфу мать, когда мудрецы и пророки или же султаны переодевались нищими бродягами и якшались с простонародьем и бедняками. Благоразумнее всегда обращаться с ними уважительно.
При появлении отца Юсуфа Мохаммад неизменно вскакивал и убегал, столь же пронзительно выражая воплями свое почтение.
Однажды Юсуф украл из кармана отцовской куртки монету. Сам не понимал, зачем так поступил. Пока отец, вернувшись с работы, умывался, Юсуф сунул руку в карман пахучей куртки, висевшей на гвозде в родительской спальне, и вытащил монету. Заранее он такого не планировал. Позднее он разглядел добычу – это оказалась серебряная рупия, и мальчик не осмелился расплачиваться ею. И без того чудо, что не попался. Он подумывал положить монету назад. А еще можно бы ее отдать Мохаммаду, но опять же Юсуф боялся, как бы нищий не изобличил его. Серебряная рупия – столько денег Юсуф никогда прежде в руках не держал. В итоге он сунул монету в трещину под стеной и время от времени тыкал туда палкой, проверяя, на месте ли рупия.
3Дядя Азиз разместился после обеда в гостиной, прилег отдохнуть. Юсуфа такая задержка раздражала. Отец тоже ушел к себе в комнату, как всегда после трапезы. Непонятно, размышлял мальчик, зачем люди укладываются после обеда спать, исполняют какой-то ритуал. Называют это дневным отдыхом, даже мама порой уходит в спальню и задергивает занавески. Сам он попробовал раз или два и так извелся от скуки, боялся, не хватит сил даже встать. Во второй раз он решил, что это похоже на смерть: будешь лежать без сна в кровати, не в силах пошевелиться. Как страшная кара.
Пока дядя Азиз спал, Юсуфу велели прибраться в кухне и во дворе. Уклониться от такого поручения он не мог, поскольку хотел поучаствовать в распределении остатков. К удивлению мальчика, мать оставила его наедине с тарелками и ушла поговорить с отцом. Обычно она зорко наблюдала за ним, отделяя объедки в строгом смысле слова от того, что можно было еще подать на стол. Юсуф торопливо нанес урон остаткам пищи (насколько отважился), почистил и спас что мог, выскреб и вымыл горшки, подмел двор, а затем уселся на посту в тени у заднего крыльца, вздыхая о выпавших на его долю тяготах.
На вопрос матери, чем он сейчас занят, он ответил: «Отдыхаю». Невольно вышло слишком торжественно, мама улыбнулась – и вдруг потянулась к мальчику, обняла его, оторвала от земли. Он яростно заколотил ногами: отпусти! Терпеть не мог, чтобы с ним обращались словно с младенцем, она же прекрасно это знала. Его стопы тянулись к голой земле двора, стремясь вернуть мальчику достоинство, а сам он извивался, насколько позволяли тесные объятия. Все потому, что он мал ростом для своих лет, вот она и проделывает это – подхватывает его на руки, щиплет щеки, обнимает, обцеловывает слюняво, а потом смеется над ним, как над малышом. А ему-то уже двенадцать! И тут мать еще больше удивила его: так и не разжала руки. Обычно она отпускала его, как только он забьется всерьез, только успевала шлепнуть по проворно удиравшей заднице. А на этот раз так и держала, прижимала к мягкой своей выпуклости, ничего не говоря, и совсем не смеялась. Лиф ее платья промок от пота, от тела исходил запах дыма и усталости. Мальчик вдруг перестал сопротивляться, и мать смогла крепче прижать его к себе.
Таков был первый знак, первое предостережение. А когда он увидел на глазах матери слезы, сердце трепыхнулось в ужасе. Никогда прежде мать не плакала так. Он видел, как она выла на похоронах у соседа, словно мир рушился, и слышал, как она призывала милость Аллаха к тем, кто еще жив, ее лицо сминалось в мольбе, но никогда прежде не было безмолвных слез. Что-то случилось между ней и отцом, подумал мальчик, наверное, тот резко поговорил с ней. Может, угощение оказалось недостаточно хорошим для дяди Азиза.
– Ма-а! – ласково протянул он, но мама шикнула на него.
Может, отец заговорил о том, как прекрасна была его прежняя семья. Юсуф слышал от него такие слова, когда отец злился. Однажды сказал матери, что она дочь дикаря с гор Таиты, который ютился в задымленной хижине, кутался в вонючую козлиную шкуру и считал, что пять коз и два мешка бобов – отличная цена за любую женщину. «Случись с тобой что, продадут мне другую такую же из своего хлева», – заявил он. И пусть не напускает на себя важность потому лишь, что росла на побережье среди цивилизованных людей. Юсуф ужасно пугался, когда они ссорились, злые родительские слова точно вонзались в него, и мальчику вспоминались рассказы других ребят о жестокости и о брошенных детях.
О первой жене отца ему в свое время рассказала мама – с улыбкой и тем тоном, каким обычно рассказывала сказки. Женщина та была арабка, из старинной семьи Килвы [7] – не принцесса, конечно, однако благородного происхождения. Отец Юсуфа женился на ней вопреки воле ее гордых родителей, не считавших его подходящим женихом, ибо, хотя он носил славное имя, всяк, кто не слеп, видел, что мать его, наверное, была дикаркой и сам он не благословен преуспеянием. И пусть славное имя не бесчестится кровью матери, мир, где мы живем, налагает свои требования. Эти люди желали своей дочери лучшей доли и не могли допустить, чтобы она стала матерью бедных детей с дикарскими лицами. Неудачливому жениху было сказано: «Благодарим за оказанную нам честь, однако наша дочь еще слишком молода, чтобы думать о браке. В городе множество дочерей куда более достойных, чем наша».
Но будущий отец Юсуфа уже увидел ту девушку и не мог ее забыть. Он влюбился! Любовь сделала молодого человека упрямым и опрометчивым, он искал способа заполучить желанную. В Килве он был чужаком, посредником, доставившим груз глиняных кувшинов по поручению своего нанимателя, но он подружился с капитаном корабля-дау, этот капитан, находха, как их именуют, от всей души поддержал приятеля в его страсти, помог ему составить план и завладеть любимой. Помимо всего прочего, это унизит ее самодовольное семейство, решил находха. Будущий отец Юсуфа втайне сговорился с девушкой и в конце концов похитил ее. Находха, знавший все бухты побережья от Фазы на дальнем севере до Мтвары на юге, увез их на материк, в Багамойо. Будущий отец Юсуфа устроился работать к индийскому купцу на склад изделий из слоновой кости – сначала сторожем, потом стал писцом и по мелочи торговал. После восьми лет брака эта женщина решила вернуться в Килву, написав для начала родителям письмо с мольбой о прощении. Обоих маленьких сыновей она взяла с собой, чтобы защититься от родительских упреков. Дау, на котором они отправились в путь, называлось Джичо, «Око», и это «Око» никто больше не видел с тех пор, как оно покинуло Багамойо. Юсуф не раз слышал рассказ о прежней семье и от самого отца, обычно когда тот на что-то сердился или его планы оборачивались крахом. Мальчик знал, что воспоминания причиняют отцу боль и вызывают у него великий гнев.