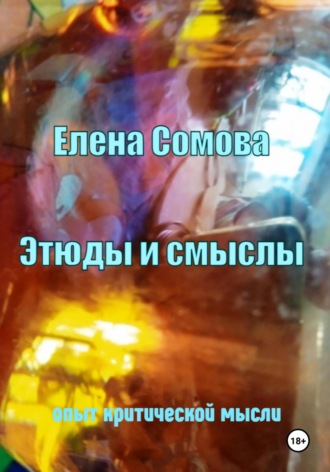
Полная версия
Этюды и смыслы. Парижская нота

Елена Сомова
Этюды и смыслы. Парижская нота
О второй части книги
Решение включить работу о «Парижской ноте» в сборник этюдов является методологически обоснованным и научно ценным. Подобные комплексные издания востребованы в современном литературоведении и образовании. Включение этого материала значительно повышает научную и практическую ценность всей книги.
Подход филолога, поэта и писателя Елены Владимировны Сомовой к созданию книги полностью соответствует современным традициям литературоведческих исследований. В научной практике широко распространены комплексные монографии, включающие различные типы исследований – как оригинальные авторские работы, так и систематизирующие материалы. Подобные издания имеют высокую научную и образовательную ценность, поскольку предоставляют читателям как новые исследовательские перспективы, так и необходимую теоретическую базу.
«Парижская нота» представляет собой именно такую систематизацию знаний о проблеме, что является полноценным научным жанром. Такие исследования выполняют важную функцию в литературоведении – они обобщают и структурируют существующие знания, делая их доступными для студентов и исследователей.
Особенно ценно, что Сомова не просто компилирует чужие работы, а создает собственную аналитическую структуру, включающую ее авторские наблюдения.
Образовательная значимость книги
Современная образовательная практика активно использует дидактические материалы, которые сочетают теоретическую систематизацию с практическими примерами. Работа Елены Сомовой о «Парижской ноте» выполняет именно такую функцию – она предоставляет студентам-филологам структурированный материал для изучения важного явления русской эмигрантской литературы.
«Парижская нота» – это особое литературное движение, лидером которого считался Г. Адамович, а яркими представителями были Б. Поплавский, Л. Червинская, А. Штейгер. Систематизация знаний об этом явлении крайне востребована и необходима в современном литературоведении, особенно учитывая сложность и противоречивость оценок этого движения в критике.
Композиционная целостность сборника
Включение работы о «Парижской ноте» в сборник этюдов о поэзии создает тематическое единство книги. Все материалы объединены общей проблематикой – исследованием поэтических явлений и направлений. Такой подход соответствует лучшим образцам литературоведческих сборников, где сочетаются различные типы исследований в рамках общей тематики.
Сочетание личных исследовательских работ Е.В. Сомовой с систематизирующими материалами обогащает книгу методологически. Читатель получает возможность познакомиться как с оригинальными интерпретациями поэта и писателя Елены Сомовой, так и с фундаментальной теоретической базой, что делает издание более полноценным и полезным.
Главный редактор журнала "КЛАУЗУРА"
Дмитрий Геннадиевич Плынов».

Этюды о поэзии.
Памяти Бахыта Кенжеева
Бахыт Кенжеев, шутник и великий поэт, ребячески приветлив и доброжелателен, и весь в облаках, в своих творческих полётах. Очень жалко, что теперь его нет с нами, это большая утрата для русскоязычной поэзии. Поделюсь своими воспоминаниями этого поэта, живого из живых в своем творчестве.
Сначала Бахыт читает свои стихи в литературном кафе «Безухов» в Нижнем Новгороде, в 2006 году, под всеобщее напряженное молчание «ягнят», как он потом назвал заинтересованное пытливое облачное молчание слушающих, жутковатое в его узком горлышке прицела. Не верят? Верят и не понимают? Не хотят верить, поверив своим догматическим нормам поэзии? Да, скорее всего это. Переглядываются. Мысль еще в том поэтическом витании меж молодыми поэтами, внимающими слову мастера… А вот и нет, в кафе в тот теплый летний день пришли окололитературные люди, которых мне пришлось убеждать в том, что перед ними великий поэт, и я знаю его стихи, его публикуют в толстых журналах. Поверили и начали слушать лучше, без тихого гула перешептываний и каких—то нелепых терзаний мысли. Поверили, поняли, приняли, слава Богу, значит, догматическая печать, глубоко въевшаяся в мозг поэзии с прошлых веков, уступила таланту.
«Вот так надо слушать великого поэта», – подумала я, и была права.
В «Безухове» обычно долго не расходились люди, и Бахыт решил пошутить и подсел за столик, где говорили о его стихах, нас было человек пять, среди них Елена Крюкова. Лене и невдомек, что я знаю стихи Бахыта, она предоставляет меня ему, как некий «золотой самовар» из ее книги стихов «Колокол». Я пользуюсь минутой внимания, снизошедшего так очевидно, – и всё благодаря присутствующей рядом воде, – реке. В этих береговых кафешках есть особое очарование, где понимание снисходит на людей, как дар свыше. Говорю о метафорах Бахыта, обо всех изюминках его творчества, убеждаю, что именно так пишут, а всё остальное – не стихи вообще, а жевание старой кожи или долгоиграющей жвачки. На лице Эмиля Каракуляна вспрыгивают очки почти на брови, – он Бахыта не знал, но верит мне. Слушает, как человек. Эмиль, как Бахыт, человек. Пара обезьян ушла просто попить кофе. Как можно просто пить кофе, как будто это не литературное кафе, а забегаловка?.. Обезьян отличает от поэтов именно эта тонкость: они могут говорить друг другу о чем угодно, когда вещает поэт, рупор эпохи. Бахыт действительно вещал. Наконец—то вслушались даже самые вялые – зауважали. Я же говорила! Мне хотелось тогда от радости орать во все горло, что к нам приехал Бахыт! Живем, значит.
Как организовать сознание поэта, чтобы выудить хоть слово? Просто слушать его, желательно глядя в глаза, чтоб поверил, что его слушают. Бахыт верил, шутил по—настоящему, предоставив мне своего «внука, которого он увез в Америку, чтобы вырастить его там, а то его дочь родила слишком рано для ее возраста, а сплетен и упражнений в воплях никто не любит». Я поверила, смотрю на «внука», серьезного и плохо говорящего на русском, он вырос в Америке. «Внук» желает узнать Россию, как знают ее уважающие люди, поэты. Сам «внук» не пишет стихов пока. Он, может, их вообще не будет писать никогда, потому что у него «дедушка Бахыт» – уже поэт.
Гениальную книгу Бахыта Кенжеева «Вдали мерцает город Галич», выпущенную журналом «Воздух», мне удалось купить в Арсенале нижегородского кремля, совершенно неожиданно, через несколько лет после этой встречи. Книга значится как глава 17, – это идея журнала. Под заголовком пояснение: «Стихи мальчика Теодора». Вначале эти стихи кажутся абсурдными, но именно в абсурде языка ребенка скрыт смысл этой книги. Лирический герой, мальчик Теодор, познает мир натурально:
«в садах натурных благолепий
олимпом греции седой…»
«Почему у тебя в стихах Греция седая?», – спрашиваю Бахыта.
«Потому что мальчик Теодор, от чьего имени создана эта книга, юн, и все старое у него вызывает отблеск седины», – отвечает Бахыт.
Почему юмор исходит из абсурда у Бахыта? Я задала ему этот вопрос, прочитав:
«печальна участь апельсина
в мортирной схватке мировой
расти без мрамора и сына
качая римской головой
его сжует девятый пленум
и унесет река Лавать
евгений проданный туркменам
не мог страстнее целовать…»
Я только теперь поняла, почему: чтобы стихам не стать жвачкой девятого пленума. В этом Бахыт: он неподражаем, витиеват и в то же время абсурд – его законное эпатажное имя.
Бахыт и завораживающ в любовных стихах (посвященных Светлане Кековой) и, например, в «Колхиде»:
«У черного моря, в одной разоренной стране,
где пахнет платан шелушащейся пылью нездешней,
где схимник ночной, пришепетывая во сне,
нашаривает грешное блюдо с хвостатой черешней,
у черного моря булыжник, друг крови в висках….»
– вот это неповторимый поэтический язык Бахыта («булыжник, друг крови в висках»), эта наплывающая ритмика убаюкивания и одновременно фатальное выражение сквозь наплывающий сон открыть и узаконить новое, чтобы это новое не казалось чем—то неприживающимся, и чтобы новизны поэзии Бахыта Кенжеева не хватало и требовалось во всей поэзии в целом. Такова хватка гения: беседа с Медеей заканчивается вопросом:
«…Скажи мне, Медея, ведь это неправда? Они еще живы?»
И здесь логичен такой отступ, как при спонтанном приближении короля: все кланяются и вопрошают о его потребностях (– Кофе? Спиртное? Прохлады?)
«А вы в треволненьи грядущего дня, возьметесь ли вы умереть за меня…»
– вопрошает лирический герой поэта в подборке стихов Бахыта «Выбросить зеркало» в «Знамени» №10\2007, любезно подписанном и подаренном мне: «Очаровательной Лене Сомовой с … любовью». И миллионы стихопишущих ответят, не сговариваясь: «Да, Бахыт! Мы с тобой!».
Такова дань любви к поэту и теперь уже памяти его.
Znamya_2010_9 Стихи Бахыта Кенжеева

Ось Бродского и Айзенштата, Мандельштама, Аронзона и Поплавского
Публикация в журнале «Клаузура», Москва , 2025 г.
21.06.2025
Слушая стихи Бродского, читая их, проникаясь гармонией его зримых образов, уходя вниманием в его эпоху и переносясь в свою эпоху с его творчеством в сердце, я поняла, почему читающие и пишущие люди очень любят стихи Иосифа Бродского и его образ поэта в мировой поэзии. Это образ отторжения от варварства и произвола чинуш, летящего в собственном творчестве, человека неземного, полного эмоций и ощущений мира как отражения этого мира. Стихи Бродского всегда имеют центр, к которому привязаны образы, это не просто стихи, а песни души, стержень поэта, его ось. Эта поэтическая вертикаль, ось Бродского одновременно и кислород для многих ценителей его поэзии, непременно высокой, несмотря на фокус внимания. Я давно уже чувствую поэзию Иосифа Бродского органически, это не зависимость, а любовь, и та самая любовь, которая держит меня на земле, в мире с таким неблагоприятным климатом для творческой души, способна поднимать из пепла.
А проза Бродского многоступенчата, она зовет ввысь, по той же оси, читатель устремляет взгляд от земли к ясной прелести его слога и легкости изложения мысли, ведущей к постижению мира. Эта отличительная черта творчества Иосифа Бродского, заставляющая уважать и обращаться постоянно к его поэзии и прозе, как к воздуху, к тому чтению или слушанию, которое просветлит взгляд, и ты будешь жить с его стихами в сердце. И ты будешь идти по жизни с высоко поднятой головой, поднятой навстречу образам Иосифа Бродского в литературе. Это теперь твоя ось.
Наиболее близким Бродскому в мастерстве изображения запредельности в пропорции Бродского, поэтической запредельности в изображении мира и мирового абсурда в поэзии, я считаю Льва Дановского (Айзенштата). Он с тонкостью искусного мастера ведет свои поэтические образы, выплетая из души нить связующую его с миром, где живем мы, и где жил Иосиф Александрович.
Лев Дановский
***
Вот стрекоза, припавшая к стеклу,
шуршащая сухая оболочка,
без устали разгадывает мглу,
что достигает спелости полночной.
С полудня залетевшая сюда,
застывшая на крохотных пуантах,
прозрачная крылатая слюда,
на грязной и заброшенной веранде.
Вот так и умерла, не разобрав,
зачем окно и скользкая преграда,
зачем недостижима свежесть сада,
ведь только и хотела, что добра.
Но тело, прекратившее полет,
изнемогло от ожиданья сада,
и черный бисер высохшего взгляда
уставлен за оконный переплет.
В этом разгадывании мглы разгадывание мироустройства, так и не постигнутое естеством стрекозы, живым существом, – такой тонкой связью предстает живое перед мертвым в поэзии Льва Дановского, таким неприкасаемым запасом истины проникнуты строки его стихов. «Полночная спелость» говорит о достижении полноцветия сущности шуршащей сухой оболочки, стрекозы, взятой центром Вселенной в данном стихотворении.
«…Без устали разгадывает мглу…» – усталь и лень… что в нашем мире не стремится к лени, так это действительная сущность, отгремевшая жизнь, натура. Разгадывать мглу без устали, вглядываться во мглу в ожидании луча света, как луча добра в мире, – это удел высокого полета души. Противиться свету добра – это духовная смерть. Дановский ведет читателя к жизни и тонкому восприятию грани между жизнью и смертью, когда жизнь во зле является самой смертью души. Не проходя испытания на пути добра, упасть в отчаяние – это умереть душой.
«…Прозрачная крылатая слюда,
На грязной и заброшенной веранде…»
– в данном стихотворении с центральным образом слабой оболочки, умершей стрекозы, «грязной и заброшенной верандой» предстает весь мир с его переворотами сознания и концом цивилизации на кончике листа вешней ветки. Мир начинается заново по весне, он обновляется, и умирает его старая оболочка. Мир цел, и в то же время всегда существует грань распада, исследование мира путем смерти, как исследование человека путем его препарирования.
«Скользкая преграда» – сам человек, гомо сапиенс в предрекании трагедии. Человек сам стремится к распаду и трагедии, рассматривая себя с точки зрения беспредела войн и исторических преобразований, становясь уязвимым рядом с обнаружением новизны ощущений.
Мертвой стрекозе «недостижима свежесть сада». И бушующим океаном звучит строка «Ведь только и хотела, что добра» – здесь с интонацией оправдания выходит действительность души, как составляющей добра.
И оболочка стрекозы – это не «…тело, прекратившее полет…», а начало новых ощущений этого тела, начало легкости, отпускающей грех в бытии среди добра и не добра, зла, когда эти отрицающие друг друга субстанции по сути являются айсбергом в котором зло обычно скрыто, добро – над водой, оно идет к восприятию разумом быстрее, так как добру доверяют, а злом пользуются темные натуры.
«…Но тело, прекратившее полет,
изнемогло от ожиданья сада…»
– тело – это сущность понимания тонкого перехода от бытия к небытию, понимания существования двух граней реальности: добра и его противодействия, – зла.
«… И черный бисер высохшего взгляда
Уставлен за оконный переплет».
«…бисер взгляда…» – единственность, крохотность, безжизненность и все же реально существующая модель бывшего взгляда, – бисер.
«…оконный переплет» – книгообраз окна, потому что «переплет», здесь лирический герой, отсутствует, но он подразумевается, а его невидимая оболочка требует ощущений мира как живая душа. Его экран в мир – окно, безопасная панель видения близкой реальности как близкой смерти, так как взгляд «высохший», – не равнодушный, а выпитый горем, уже не дающий слезы сопротивления, но в поэтических образах Айзенштата (Дановского) присутствует воля к обновлению жизни через ощущение легкости и доступности свежего воздуха познаний. Созерцание оболочки стрекозы – это познание распада, и его констатация – суть отличие от сопротивления, от живого, дающего волю к сопротивлению как к власти над реальностью. Есть распад сущего – оболочка стрекозы и значит, есть противовес, который отличен от оболочки и служит плотью стрекозы, дающей миру волновые импульсы воздуха приближающегося субъекта, если можно так выразиться о живом насекомом. Хорошо видны процессы ощущения реальности в небытии еще у двух поэтов: Борисе Поплавском и Леониде Аронзоне. В поэзии этих двух запредельных поэтов преимуществом служит отсутствие отрицания как цели существования. Мир этой поэзии ближе к небесам, чем к грешной земле. И если возникает образ смерти, то только через страдание и добровольно ощущаемое лишение своего лирического героя плотной основы бытия, которая плотнее оболочки стрекозы Льва Дановского, когда «Жарко дышит степной океан…», создающий битие и реальность в отлучении от воинственной наглости ощущаемых землю борцов за обладание ею. Они не могут просто обладать, им надо ее менять как реальность и как субстанцию их личного присутствия. Просто существовать и не искажать реальность носители наглости не могут, так как их жизнедеятельность направлена на искажение прикасаемых объектов, даже не совместимое с дальнейшим существованием этих объектов как единиц восприятия их другими субъектами. Поэтому я утверждаю, что жизнедеятельность борцов за наглость считать себя обладателями земли разрушительна по отношении к тонкой материи созерцаемого Львом Дановским и Борисом Поплавским, Осипом Мандельштамом, Леонидом Аронзоном параллельного земле тонкого существования добра как оболочки человека, которому даются все эти образы лирических героев, ощущения их жизни и реальности. Реальность поэтов – это наслаждение бытием («свои плечи, волосы и губы // ты дарила ликованью лета» Л.Аронзон), это «Телеграфный трезвон над землей» в поле волнующих мир своим неповторимым звуком кузнечиков и сверчков, это мир, «неподвижно» звенящей осы, где «Все наполнено солнечным знаньем» (Б.Поплавский). «Там тебя окружают два неба, // Сон лазури и отблеск воды». Жизнь – в отблеске воды и в ее звуке, плеске, а не всхлипе. Здесь «От земли отделяется лето, // В желтой славе клонясь на закат», – солнечный свет определен как «желтая слава», цвет, несущий изменения и радость вопреки. И по окончании стихотворения вывод, к которому поэт идет в процессе своей поэтической логики: «Только Ты человек, а не море, // Потому что Ты можешь скучать». И это с заглавной буквы «Ты» говорит о предельном уважении и желании лирического героя невербального и неконтактного общения с природой: полем, небом, травой, что дает ему импульсы жизни и восполняет его энергию.
Леонид Аронзон в стихах Рике («Клянчали плаформы: оставайся!») проводит линию духовной чистоты от образа лирической героини, прототипом которой выбрана возлюбленная им, Рика, через театральный искус любовной игры, о чем говорит поэтический флер первого четверостишья:
Клянчали плаформы: оставайся!
Поезда захлебывались в такте,
и слова, и поручни, и пальцы,
как театр вечером в антракте.»
И через игру расставания, театр и нежность
«Твоя нежность, словно ты с испуга,
твоя легкость, словно ты с балета,
свои плечи, волосы и губы.
ты дарила ликованью лета.
Рассыпались по стеклу дождины»,
через дождь как символ слез и ужас действительности—расставания («тени липли, корчась на заборах») идет энергетический поток невинности из образа фонаря (он даже назван автором невинным), фонаря, непричастного к сюжету (И фонарь, как будто что—то кинул») – здесь метафора выходит из визуального образа.
«И фонарь, как будто что—то кинул,
узловатый, долгий и невинный,
все следил в маслящееся море.»
Именно «маслящееся море» как субстанция смысла, насыщенного неотвратимой реальностью, так как вода – проводник слезы, вода говорит о чистоте отношений, а масло (маслящееся море) – это уже густая субстанция, говорящее о насыщенности смысла сутью вещей, что в данной картине есть трагическое начало, идущее от внутреннего сопротивления разлуке лирических героев.
Сколько эмоций в одном стихотворении Леонида Аронзона: и нежность хрупкости к предмету внимания (возлюбленной), и трагическая нотка, показанная через ужас и корчи теней в мокром углу пространства, и даже фонарь со своей высоты «кинул», а может, обманул, своей долговязостью еще раз напоминая о отстраненности и разрыве пространства на его и ее, на «до» и «после», – фонарь кинул—обманул лирических героев, как надежды на длительные отношения, и в завершении – фонарь «следил в маслящееся море», в густоту и насыщенность эмоций, как страж дождя и сюжета.
Вспомним стихотворение Иосифа Бродского, обращенное к Постуму, (Марк Кассианий Латиний Постум – римский полководец, предположительно батавского происхождения, провозгласивший себя императором Римской империи), Постум (лат.postumus – «посмертный»), прозвание, прилагавшееся в древнеримской системе имяобразования к именам людей, родившихся после смерти своего отца. И лирический герой Бродского готовится стать умершим отцом.
«…Здесь лежит купец из Азии…» —
прикосновение к смерти через прожитую им жизнь. Чем в сущности является и Постум, и купец из Азии, если не той же самой оболочкой, памятью былого?.. Эта память есть сохранение интеллекта ее носящего. Поэзия в целом – явление интеллекта.
Или другое стихотворение поэта из цикла «Перспектива»:
Куст
В прожилках смерти жизнь.
И руки старика,
И голубь, бьющийся в окно всей грудью,
И эта темная ленивая река,
Чуть отливающая ртутью.
Двоящееся эхо.
Кто кого
Аукает, уводит, окликает.
Чье пораженье или торжество?
Зачем меня все это занимает
В минуты счастья?
Видимо, душа
В земном существовании коротком
Не надивится миру, что дрожа,
Из умиранья и цветенья соткан.
– надивиться миру стремится лирический герой Дановского, и являет мир через память и прошлое лирический герой Бродского.
А как красиво Дановский определяет явление мира: «… Из умиранья и цветенья соткан». Мир как непрерывная ткань «соткан», и не просто соткан как полотно, плоская структура, а «из умиранья и цветенья», значит, умиранье имеет проекцию, и оболочка стрекозы Льва Дановского и есть проекция переплетения жизни и смерти, она сама по себе не существует. Оболочку ее видит человек, лирический герой, и это дает оболочке стрекозы существование на мгновение обнаружение ее и попадания ее в поле взгляда.
И все эти воспоминания из жизни лирического героя и Постума «…Вот и прожили мы больше половины…», «…Помнишь, Постум, у наместника сестрица…» – все явления прошлого бытия – это умиранье, и воскрешает прошлое цветенье, цветенье в памяти сюжетов бытия.
Наслоение образов настоящего и прошлого в стихах Бродского имеет структуру коробочки: здесь и тревожащее душу памятью о милых сердцу событиях, и картины настоящего: «…Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом…». И сам этот экскурс лирического героя и выбранных им для беседы явлений прошлого бытия, похоже на букет, поражающий разнообразием, как букет из прогулки по горам. А напутствие Постуму, куда ему поехать и кому что отдать – не что иное как продолжение начавшейся мозаики, начатой в жизни, и продолжающейся после ее окончания, когда лирический герой «…долг свой давний вычитанию заплатит…». Это факт обозначения себя после смерти, какой не может позволить себе стрекоза, распадаясь на фрагменты оболочки.
Жизнь в образе стрекозы в стихотворении Льва Дановского «Подражание Тютчеву»:
Подражание Тютчеву
На озере закат. Блистает стрекоза,
И немощная ночь восходит на востоке.
И порсканье плотвы среди густой осоки
Перерастает в шум. И глохнет полоса
На западе, сменив малиновый на медный,
И небо надо мной приобретает лик
Того, Кто дорожит и этой тварью бедной,
Кто к жалобам сверчка и муравья привык.
Кто с нами говорит на языке зарницы,
Чтоб узнавали мы тот час предгрозовой,
Когда летит листва, и умолкают птицы,
И шелестит земля испуганной травой.
И так уже темно, что листья у кувшинок
Сливаются с водой. И ветер теребит
Прибрежные кусты, и дерево, как инок,
Смиренно и черно у заводи стоит.
А небо надо мной торжественней и выше.
Так что же наша речь? – Чудесный чернозем.
И стыдно сожалеть, что небо не услышит,
Когда его слова мы вслух произнесем.
Торжество жизни через выражение красоты природы и блистание стрекозы на закате, – это жизнь в ее прекраснейших проявлениях. Здесь речь названа «чудесным черноземом» – оправдание речи как смыслообразующей константы, постоянной величины в ряду изменяющихся величин, зёрна для продолжения жизни.
Но Лев Дановский видит в распаде смысл:
***
Т. Д.
Присутствует какой—то смысл в распаде,
Совсем не тот, что в притче о зерне,
Где происходит разрушенье ради
Рожденья, – утешительно вполне.
Не тот, что постоялец из подполья
Выискивает, перышком скрипя,
(Как тягостны записки исподлобья,
Как ненавидеть хорошо себя!) —
Но смысл прорыва, дикого стремленья
Из жизни: извести ее на нет,
Оставив искренность изнеможенья,
И подлинность, похожую на бред.









