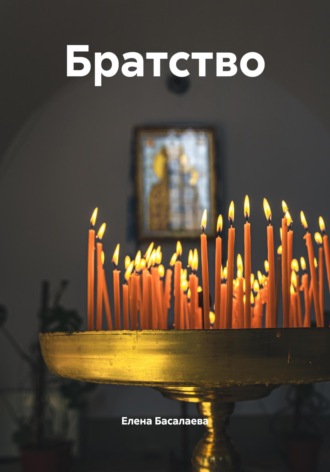
Полная версия
Братство
– Отче, а зачем эти шаманы надевают маски?
– Тёмные духи вселяются в их тело. То, что у шамана в это время отобразится в глазах, никому лучше не видеть… Ужас испытает нечеловеческий.
***
За время поездки Андрея на север в епархии поставили другого митрополита, и со сменой архиерея переменилась повестка: вместо грозных предупреждений об опасном ИНН и скором конце света появились афиши детских и юношеских хоров, объявления о миссионерских поездках в ближайшие города. Чуткий к информационным веяниям Андрей сразу сообразил: наверху дали добро поддерживать миссию. Всё оказалось даже лучше, нежели он мог предполагать: их с отцом Агафангелом на ближайшем епархиальном собрании встретили как героев, расспрашивали о подробностях поездки. Спустя время Андрей получил предложение стать руководителем миссионерского отдела. Сомнений, соглашаться или нет, у него не было.
На Троицу предстояло лететь в Москву, на трёхдневную конференцию «Актуальные проблемы современной миссии и катехизации». Вместе с Андреем поехали трое, все молодые: руководитель отдела катехизации, тоже свеженазначенный, отец Николай, ведущий в подвале епархии церковно-певческие курсы, и последний – совсем пока незнакомый Андрею, высокий, крепкий, подвижными манерами и вообще активностью слегка напоминающий негров из американских фильмов, несмотря на светло-русый оттенок волос.
– Погуляем в Москве, отцы-братия! – прогудел смешливый незнакомец, только выходя из самолёта.
– Какое гулять, отец Семён, там каждый день расписан…
– День расписан, а ночь наша.
– Устанем в хлам, времени не будет, – не соглашались остальные с жизнерадостным батюшкой.
– Бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, – проговорил отец Симеон с серьёзной рожей, а потом расхохотался.
Андрею он чем-то неуловимо понравился. В первый день по приезду они действительно выпили за встречу, и весь вечер Семён травил байки о своей учёбе в семинарии, а потом, в подтверждение своего сходства с негритянскими МС, вовсе зачитал рэп под Маяковского:
Баптисту – хорошо,
А адвентисту – лучше!
В адвентисты б я пошёл,
Пусть меня научат!
Пойдёшь на курсы
развития духовного -
а там тебе книжицу
дадут
рискованную.
В книжице той -
запрет на работу
в ветхозаветный праздник – субботу.
Зато в конце мира, как пойдёт всё ко дну,
все грехи переложатся на Сатану.
«Отцы-братия» хохотали, а Семён продолжал:
– Адвентисту – хорошо!
А харизмату – лучше!
В харизматы б я пошёл -
Пусть меня научат!
Хочешь ты духа обрести в себе?
Ступай на три буквы:
Хэ
Вэ
Е!
Большие и дети!
Языки в ассортименте!
Языки разные:
английский и ангельский.
Только лишь пастор вас благословит -
заговорите на всех, включая иврит!
Перед началом конференции отслужили молебен, и Андрей поразился тому, что пена весёлости совершенно сошла с отца Семёна. На молебне он стоял сосредоточенный, погружённый в себя, приветственное слово прослушал тоже внимательно, а когда дело дошло до первого доклада – «Миссионерское значение Шестоднева», почти сразу после выступления встал и поблагодарил рассказчика. Дальше выступал благочинный какого-то мужского монастыря, потом куда более интересный для Андрея докладчик – член Комиссии церковной реабилитации лиц, отпавших от православия.
– Нам нужно не бояться идти в инославную среду, в иноверческую, – уверенно возвещал выступающий. – Посмотрите на баптистов, адвентистов… Они не боятся и не стесняются ничего. Нам стоит поучиться у них ещё одному: прекрасному знанию Писания. Ведь как принято у нас в большинстве случаев?.. Писание почитают, но не почитывают…
Андрей воодушевлённо слушал, набрасывал заметки в ежедневник, ощущая внутри необыкновенный подъём и счастье от того, что он наконец-то находится среди людей, разделяющих его убеждения и чувства. Конференция окончилась вечером, но он оставался настолько полон сил, что даже об ужине вспомнил лишь после приглашения в столовую.
Семён ел с большим аппетитом, но казался вдохновлённым ничуть не меньше.
– Жизнь кипит у них тут в Москве, брат! – не без зависти отмечал он, поглощая спагетти в соусе. – Миссионеры с общественностью сотрудничают, с государством… У нас пока такого движа нет, а тут – Синодальный отдел помогает, социальную адаптацию мигрантов в Москве проводит, вещами помощь, на работу устроили – и вот, благодарные люди сами в храм приходят.
– Надолго ли? – недоверчиво поглядел Андрей на собрата. – И, главное, с какой целью?
Семён растерянно, как-то по-детски улыбнулся:
– Не знаю… Главное, что идут! А там Господь разберётся. Наша-то задача – привести. Где я служу, во Введенском, там наши батьки основали «Православный клуб». Вроде бы люди ходят, есть и молодые, но скучно, скучно, аж зубы сводит.
– Что делаете-то?
– Да так. Батьки чай гоняют, пустословят – то, сё, колбасё… Перед праздниками храм отмывали вместе. В Барабаново ездили в разваленную часовню. Тухло, короче. Молодым надо какой-то движ. Я второй год только служу, сразу им сказал: давайте хоть с людьми в волейбол, баскетбол буду играть?! Согласились.
– И что, играете? – удивился Андрей.
– Ну, а что? Собираемся на острове Татышева да играем. Главное, знаешь, что интересно? – Семён смотрел интригующе. – Пенсионеры тоже приходят, не отстают от нас! Сядут там на лавочки, смотрят на всех, умиляются… Тоже общения хотят. Ну, мы потом пикничок совместный устраиваем, обсуждаем, что в храме читали накануне. А у тебя дети есть? – неожиданно перескочил Семён на другую тему.
– Сыну годик.
– А у меня уже двое, один год и два. Так жена ворчала: куда, типа, пошёл, меня с детьми кинул?! А я говорю – так бери их, поехали со мной! Там пенсионерки за детьми приглядят, и Аньке общение. Ей, конечно, осточертело дома сидеть. Она вообще учитель музыки у меня. А твоя кто?
– Искусствовед.
– Тоже умная, значит, – заранее заключил Семён.
***
Из Москвы Андрей и Семён возвращались уже друзьями. По итогам конференции было решено устроить в Красноярске, как и в некоторых других городах, богословско-катехизаторские курсы. Вести их поручили в том числе и Андрею. По окончании все прослушавшие курс должны были получить сертификат катехизатора.
В этой схеме Андрею не нравилось многое. Прежде всего – название: ну, в самом деле, кто захочет просто так, с улицы, пойти на богословско-катехизаторские курсы? Люди и слов таких не знают. А если набирать не с улицы, то это опять получится вариант тусовки для своих. И кого, в таком случае, эти обученные будут потом катехизировать? Не устраивало Андрея и место для будущих занятий – подвал епархии. Помещение там было просторное, но сам факт того, что людей, сильнее других стремящихся к Господу, надо было для этого пускать в подземелье, наводил сумбур в душе.
Семён только посмеивался:
– Первые же христиане собирались в катакомбах. Считай, вообще кладбища.
– То – первые, – возражал Андрей. – Нынешние сильно изнежены, их не надо пугать, надо им создать внешние условия как можно лучше.
Митрополит дал согласие на то, чтобы занятия перенесли в воскресную школу Богородицерождественского храма, на удивление быстро. Введенское братство, особенно молодая его часть, тоже откликнулись на призыв Андрея практически сразу. Он пришёл по приглашению Семёна на ближайшее чаепитие, не особенно дожидаясь разрешения у местного батюшки, взял слово и заговорил напрямик об одиночестве человека в храме. В следующий выходной на прогулку по острову Андрей отправился вместе с Семёном, и вокруг них собрался плотный кружок молодёжи, все не старше двадцати семи лет: восторженная Алёна, прагматичный Саша, осторожный Дмитрий, готовая слушать каждое слово Катя. Ещё через неделю Андрей пригласил присоединиться к этой прогулке пару девушек из своего храма, и они также пришли. Всё складывалось как нельзя лучше, и Андрей, очарованный тем, как быстро удаётся ему расположить к себе людей, в свободный день отправился на Столбы – остаться наедине со своими мыслями, насладиться пиршеством августовской природы. Он уже далеко не впервые отправлялся в такие однодневные походы без товарищей, поднимался на Первый столб, фотографировал или читал на его вершине, укрывшись курткой от ветра, и благополучно спускался обратно.
Почему его нога соскользнула вниз? Абсолютно сухие скалы, дождя не было даже накануне. Знакомый маршрут, никакого волнения – ничего, что могло бы заставить Андрея быть осторожней обычного. Он ударился головой и, хотя не потерял сознание, сразу понял, что надо ехать в больницу – перед глазами плавала жёлтая дымка, подташнивало.
Оля уже была там, сына она оставила своим родителям. Врачи успокоили её, сказали, что травма нетяжёлая, что последствий быть не должно. Формально, по снимкам, их действительно не было, но головные боли, которые порой беспокоили и раньше, сделались чаще и мучительней. Порой Андрей с самого пробуждения видел перед глазами рябь, смазанную картинку, которая не предвещала ничего хорошего. Вслед за ней приходило головокружение, шум в ушах, а через несколько минут начиналась и нарастала боль. Самое странное, что иногда во время таких приступов на Андрея нападал зверский аппетит, и Оля будто радовалась этому, готовила или разогревала еду, садилась рядом.
– Главное, читай поменьше, как пришёл домой – не читай, ложись и отдыхай, – советовала она мужу-книгочею.
Но Андрей после всех событий последнего года, а особенно после своего падения, стал ярко ощущать, что он смертен. Что он – не более как тело, состоящее из плоти и крови, что стоит нарушить в голове тонкое сплетение нервов и сосудов, как наступит конец – его земная жизнь оборвётся. Тогда будет вспышка света, будет что-то другое, будет встреча с Господом – всё это так. Но что он скажет Богу? Сможет ли он ответить, что послужил Ему всем, чем мог?.. Сможет ли сказать, что исполнил долг пастыря – привести к Богу людей? У Семёна это пока получилось гораздо лучше.
Андрей останавливал внимание на всех книгах, в которых хотя бы немногое говорилось о христианской общине, о катехизации, о каком-то общем пути к вере. Заинтересовал его немец Дитрих Бонхёффер, который жил во времена фашистов и считал, что жизнь христианина неминуемо протекает среди врагов и лишений, и тогда он будет ценить общину, как великую Божью милость, «розы и лилии христианской жизни». Андрей узнал и про общину сибирских староверов Лыковых, и про «кружок» и «братские письма» петербургского священника отца Иоанна Егорова, и про Крестовоздвиженское трудовое братство, в котором воспитывали крестьянских детей. Все эти общины объединяло одно: они не только молились вместе – они творили общее дело.
Больше всего Андрей прочитал про общину отца Александра Меня, которая, судя по всему, до сих пор существовала где-то в Москве, собиралась на квартирах. В ней было всё, чего Андрей искал: осмысленное вхождение в церковную жизнь для всех членов, акцент на образовании, постоянное чтение Священного Писания. И главное – малые группы, которые и вместе ходили на службы, и поддерживали дружбу вне храма.
«Богословско-катехизаторские курсы» начались осенью, Андрей вместе с Семёном и двумя другими отцами исправно читали на них лекции по Ветхому и Новому завету, по литургике, но Андрею становился мучительно тесен этот формат. Он напряжённо вглядывался в лица людей, приходящих на этот лекторий, и пытался понять: насколько им нужно то, что он говорит? Надолго ли эти люди в церкви? Что их в неё привело? Хорошо ли они знают друг друга? На все эти вопросы не было ответов.
Он уходил в эти мысли не только днём, но и накануне сна, пока наконец Оля со слезами на глазах не спросила:
– Скажи, у тебя кто-то есть?
– Что?
Андрей несколько долгих секунд смотрел на её худенькое лицо со светлыми веснушками, большие водянисто-голубые глаза. У него не было девушек, кроме Оли, не было даже помыслов соблазнять кого-то, разве что греха рукоблудия в юности он, конечно, не избежал.
Первым чувством Андрея после такого вопроса было возмущение – надо же, только о женщинах ему и думать, вот он, оказывается, какой в глазах жены! Но Оля сидела на смятой постели такая печальная и подавленная, что Андрей, вздохнув, махнул рукой на её неразумие.
– Почему ты решила? – всё ещё не понимал он.
Оля уставилась на него молящим взглядом, а потом в одну секунду разразилась слезами:
– Ты стал какой-то далёкий! Даже когда у тебя выходная неделя, ты то читаешь книжки, то пишешь на сайте, то бесконечно встречаешься с какими-то людьми. А я даже не знаю этих людей! Откуда мне знать, куда, к кому ты уходишь?!
Андрей рассеянно гладил её хрупкую фигуру:
– Скоро узнаешь, к кому я хожу. Мы вместе туда будем ходить.
– Куда? – в Олином голосе прозвучал явный страх.
Испуг жены показался Андрею таким забавным, что он не отказал себе в удовольствии её разыграть:
– К митрополиту на званые ужины. Форма одежды – парадная. Ты что, не знаешь – скоро грядёт православный царь, а мы первые готовимся к встрече.
Оля слабо улыбнулась, убрала растрепавшиеся пряди с лица.
– Да ладно. Я своё думаю… Не богословские курсы надо объявлять, а евангельские чтения. Это как минимум, а ещё лучше проводить трёхгодичную катехизацию, как в группах отца Александра Меня. Но такие вещи делать – надо благословение митрополита. Тут нужно договориться с Семёном… Я думаю, он меня поймёт. Он сам тоже людей собирает. Людей ведь надо образовывать! У нас народ крещён, но не просвещён, – это ещё писатель Лесков сказал… Я бы добавил, что народ, кроме того, одинок. В смысле, человек, приходящий в храм, там не ощущает себя дома… И нам с тобой в каком-то смысле ещё повезло, для нас храм – привычная среда с подростковых лет, а как себя чувствуют те, кто решился прийти взрослым? И не просто поставить свечку, а осознанно идти за Христом? Каждому такому человеку надо протянуть руку.
– Многие приходят в храм, когда что-то плохое случилось в жизни, – заметила Оля.
– Не спорю, но в таком случае они приходят за таблеткой; а когда получают её – значит, больше Бог им не нужен?.. Им надо показать, что после того, как берёшь, нужно стараться и отдавать – всей жизнью.
***
К вечеру головная боль рассеялась, осталась лишь небольшая слабость и ощущение какой-то лёгкой отстранённости от своего тела. Андрей вышел на улицу вместе с Олей и Федей, который просыпался после дневного сна около четырёх часов, немного прошёлся вместе с ними по двору, подальше от духовитых кустов свежераспустившейся сирени, и поспешил на очередную встречу лектория.
Стояла шестая неделя после поздней, отпразднованной в конце апреля Пасхи, и Андрей загодя приготовил беседу о слепорождённом. Возле бело-зелёного, аккуратного здания воскрески уже стояли Алёна, Дмитрий, Саша, ещё несколько хорошо знакомых Андрею людей.
– Благословите, батюшка, – попытался взять благословение один из новеньких, подставив перед грудью диакона сложенные лодочкой ладони.
– Благословил бы, да благодати не хватает, – ответил расхожей фразой Андрей. – Вот в следующий раз отец Симеон или отец Николай придут, вас и благословят. И вообще – почаще заглядывайте в церковь. Рядом живёте?
– Рядом, – сказал незнакомец. – Мы с женой недавно тут квартиру купили, вон, в девятиэтажке.
– Ну, так вас Господь привёл прямо к храму.
– И правда, батюшка! – вмешалась вдруг жена, немолодая, с одутловатым лицом, но чем-то неизъяснимо приятная женщина. – Уж мы с Володей были и у йогов, и у буддистов, и у адвентистов даже по молодости. Ой, где мы только не были!..
– Помолчи пока, Марина, – осадил её муж, запахивая кожаную куртку, с косой, в стиле девяностых, застёжкой. – Кому интересно, где мы были?
Андрей вдруг остановился в дверях воскрески, прикрыв одной рукой глаза от золотого вечернего солнца. Встал в проёме, никого не впуская дальше.
– Нет, интересно, – сказал он, глядя прямо в глаза этому Володе. – Мы на то и церковь, чтобы друг другу быть интересны.
Встреча в этот раз длилась дольше обычного. Стояли самые долгие, тёплые июньские дни, и Андрей почему-то чувствовал особенное счастье от того, что день всё длится и длится, солнце своими мягкими лучами продолжает освещать купола видневшегося из окна храма. На беседе высказывались многие, и Андрей заметил за собой, что слушает их слова едва ли не с трепетом: ведь, в конце концов, это чудо, что они собрались здесь, никем не преследуемые, как было в истории не раз. И от него, Андрея – во многом от него! – зависит, останутся ли эти люди в церкви, станут ли друг другу братьями и сёстрами, как велят Писание и Литургия.
Дома он зашёл на сайт храма как администратор и уверенно стёр в объявлении название «Богословско-катехизаторские курсы».
«Евангельские встречи», – написал он крупным курсивом.
Поразмыслив пару минут, Андрей удалил и остальной текст объявления. Пальцы, плавно стуча по клавиатуре, набирали:
«Ты недавно открыл для себя слово Божье?
Хочешь разобраться в том, для чего и как жить, кем быть в этой жизни?
Есть трудности с родителями, друзьями, второй половинкой?
Хотел бы получить ответы на богословские вопросы?
Мы ждём тебя каждую субботу в храме Рождества Пресвятой Богородицы после вечерней службы, в 18.00.
Продолжается набор в молодёжную группу, места ограничены».
На телефоне у Андрея хранилось несколько фотографий с прежних встреч, и, внимательно просмотрев кадры, он выбрал один из них – тот, где у поэтессы и библиотекаря Алёны было очень заинтересованное лицо, у звонаря Введенской церкви Саши – умный взгляд, а у самого Андрея наиболее приветливый вид.
– Ну, с Богом, – сказал он вслух, нажимая на кнопку «Загрузить фото», и отправился спать.
А благодатное июньское солнце всё ещё не садилось, рассылая алые отблески по всему широкому пепельно-синему небу.
Глава 2. Семён
Первое, что Семён помнил из своего детства – огромная оранжевая футболка, в которой он утопал и, ступая по коридору, путался в полах. В правой руке он сжимал хвост металлической цепочки, на конце которой болталась пробка от ванной. Сам Семён, пытаясь сосредоточить разум на этом воспоминании, представлял только безмолвную картинку. Но старшие братья Филарет и Иван, при которых происходило всё действо, рассказывали в красках, как трёхлетний Сёма облачился в папину футболку – стихарь, как крепко сжал цепочку и начал торжественно «кадить» стены, кланяясь то на запад, то на восток.
– А потом ты ектенью возглашал, сам же и отвечал: «Миром Господу помолимся» – «Господи помилуй!» – за каждым семейным праздником вспоминал Филарет.
Священником был не отец трёх сыновей, а дядя. Но, во-первых, дядя, живущий в соседнем подъезде, бывал частым гостем в трёхкомнатной квартире Маховых. А во-вторых, сам Николай Семёнович Махов, институтский преподаватель физики, в девяностые сам стоял перед выбором, остаться ли ему на кафедре или полностью посвятить свою жизнь церковным службам. Своего первого сына он назвал Филаретом по совету верующей мамы, которая в детстве научила его молитвам и, угощая вкусным куличом, рассказывала о том, что Бог живёт на небе. Но сызмальства приученный к поклонам и постам Филарет уже десятилетним начал бунтовать, а на исходе четырнадцати его нельзя было затащить в храм ни кнутом, ни пряником. Вскоре начались девчонки, и с одной из них Филарет загулял так крепко, что Николай Семёнович уже мысленно готовился или к свадьбе, или, что ещё верней, к статусу деда. Но здоровяк сын в ответ на эти подозрения только гоготал, а к девятнадцати годам преспокойно разошёлся с «невестой», не выказывая никаких угрызений совести. Отец чувствовал вину перед этой девочкой, корил себя, что неправильно воспитал старшего, и, не в силах отделаться от какого-то брезгливого ощущения по отношению к нему, больше внимания уделял Ивану и маленькому Семёну.
Своих младших Николай Семёнович не ставил специально на молитву, не заставлял вычитывать правило – они твёрдо знали только «Отче наш» и «Богородицу». Мать сыновей, психолог по образованию, из церковного читала им интересное – акафисты, жития древних святых. В воскресную школу Ваня так и не ходил, а Семён попросился сам, и мама была этому несказанно рада. В семье она заведовала хозяйственной частью: наводила чистоту, проверяла уроки, следила за здоровьем, но, будучи единственной женщиной в большой семье (у деверя тоже росло двое сыновей), редко принимала участие в разговорах и, хотя не давала это понять явно, чувствовала себя одинокой. Семён ещё совсем маленьким тянулся к матери гораздо больше братьев, приохотился помогать ей на кухне, смотрел вместе с ней по телевизору сериалы, новостные репортажи о разных обездоленных людях. А та, счастливая от того, что по крайней мере младший из сыновей видит в ней собеседника и наставницу, а не только помощницу отца, ходила вместе с Сёмушкой освящать вербы и яблоки, брала его на склад, где помогала разбирать вещи для нуждающихся, пару раз участвовала вместе с ним в приходском концерте на Пасху для детского дома. И Семён, несмотря на то, что порой в нём поднималась естественная брезгливость сильного и благополучного человека к слабым и калечным, рано почувствовал ответственность за них. От слов ли мамы, от евангельских ли строк он почерпнул осознание того, что существование обездоленных – беда не исключительно их, но всеобщая. И в то же время это милосердие к павшим было приправлено тонким чувствованием собственного превосходства, почти никогда им не осознаваемого.
Семён блестяще учился и при этом отнюдь не был похож на дохлого очкарика: он выигрывал не только олимпиады по истории с русским, но и школьные соревнования по лёгкой атлетике. Слабо успевающие дети вызывали у него жалость и недоумение: лет до шестнадцати Семён вообще не понимал, как возможно не уяснить для себя признаки глагола или запутаться в правилах раскрытия скобок, когда решаешь алгебраические выражения.
Одно событие из детства Семён запомнил на всю жизнь, и боль от воспоминания о нём была тем сильней, что он не мог об этом рассказать никому, кроме жены Ани несколько лет спустя. Даже матери – матери особенно. Однажды в мае, когда уже было близко лето, и тополя роняли багряные серёжки, тринадцатилетний Семён ждал приятеля в школьном дворе и стокнулся с Рамиром – хилым мальчишкой, приехавшим откуда-то из Тульской области. Он учился в их классе уже два года, но за это время не смог избавиться от клейма слабака и неудачника.
– Рамир! – от скуки позвал его Семён к себе. – Подойди.
Низкорослый мальчик приблизился, и Семён заметил в его глазах испуг. Этот нескрытый страх внезапно раззадорил Семёна, и он схватил одноклассника за тонкое запястье:
– Сможешь вывернуться, а?
Семён легко завёл Рамирову руку ему за спину, сделал рывок плечом; Рамир зашатался, силился вырваться, но Семён чувствовал, как слабо его сопротивление, и нарочно не отпускал похолодевшую липкую руку. После третьей или четвёртой попытки освободиться бьющийся, как мышь в ловушке, Рамир всё-таки упал, и упал так нелепо, что Семён не удержался от усмешки:
– Ты физрой-то хоть немного занимаешься?! Отжимайся, там, или с отцом по утрам бегай… У тебя отец вообще есть? Или тебя, как Иисуса Христа, одна мать родила?! Так, неизвестно от кого, в одну тёмную ночь? От святого духа, типа?
– Что?
Лицо Рамира, по-беличьи заострённое книзу, усеянное жидкими веснушками, показалось Семёну каким-то пугающе близким, родственным, хотя внешне он ничуть не походил на Филарета с Иваном. За несколько долгих секунд Семёна охватило пожаром: он сказал что-то грязное, а, может быть, и страшное. Сердце в нём потяжелело, желание шутить улетучилось, и хотелось только одного – чтобы Рамир забыл о сказанном или вообще слова вернулись в небытие.
– Прости, Рамирка, – сказал тогда Семён. – Прости за отца. Это я так.
– Угу, – Рамир, на удивление, не прятал глаза – слушал.
– А ты спортом занимайся всё же. По-братски говорю.
– Угу, – опять согласился Рамир, уже со слабой улыбкой.
***
Семён тогда не мог выбросить Рамирку из головы несколько дней, и только после исповеди – с шестого класса он выбрал своим духовником не дядю, который мог о чём-нибудь проболтаться отцу, а старенькому настоятелю – почувствовал облегчение.
– Божья матерь замкнула слух тому мальчику. А ты свой грех помни и не хули Её больше.
Настоятель накрыл исповедника епитрахилью, прочёл разрешительную молитву, но на душе у Семёна так и остался рубец, точно как на кисти между пальцами, где однажды зашили сильный порез от ножа-бабочки.




