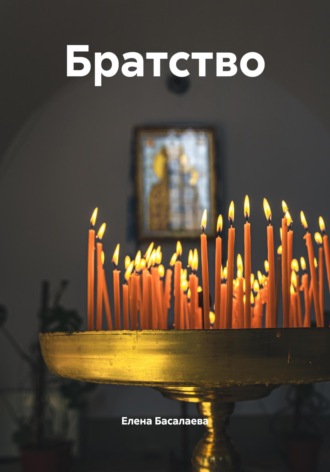
Полная версия
Братство

Братство
-По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою
Ин. 13: 35Как странно подбирать слова к тому, о чем и думать страшно, но копошится червь бумажный, живущий в ящике стола. Как странно все-таки —посметь коснуться словом перегноя. Кто рассказал, что жизнь – иное— не смерть?
Ольга СмелянскаяБРАТСТВО
Часть 1. Много званныхГлава 1. Андрей
У Андрея с ночи болела голова. Первый раз он проснулся от звука чьих-то шагов в коридоре. Казалось, что какой-то полночный прохожий тяжело ступает по лестничной площадке, взбирается по ступеням, и сапоги у этого потустороннего незнакомца подбиты железом – каждый шаг так и впечатывается в мозг. Бах, бах, бах… Боль была вязкая, надоедливая, но всё же не очень сильная, и Андрей ещё на какое-то время впал в тяжёлую дрёму. Золотые лучи солнца разбудили его окончательно: они резали пространство комнаты и надвое раскалывали несчастную голову диакона.
– Опять? – участливо спросила Оля, за семь лет брака научившаяся понимать состояние мужа с полужеста.
Андрей кивнул, слегка повернув голову, и почувствовал, как от боли распирает затылок и шею.
– Салат вчерашний будешь?
Снова кивок.
– Хорошо, что ещё выходная у тебя неделя, – Оля накинула халат, босиком прошла на «кухонную» часть их квартиры-студии. – Никуда идти не надо. А то бы ещё в храм, да до вечера…
Она продолжала говорить что-то подбадривающее, и Андрей вслушивался не в сами слова, а в глубокий грудной голос жены, который нёс ему успокоение.
***
Они с Олей познакомились ещё двадцатилетними – попали в одну компанию столбистов. Олины родители были не местные, переехали в молодости из Кемерова и сразу пленились красотами красноярских Столбов и потусторонностью скрытого под клубами морозного пара Енисея. После однообразных равнинных пейзажей Кузбасса енисейские берега удивили их причудливостью скал, краснобокими сопками, ширью никогда не замерзающей реки. Олю родители приучили к Столбам с ранних лет, а Андрей открыл их для себя уже после школы, когда записался в спортивный клуб.
В воскресной школе, где он занимался с десяти лет, тоже время от времени устраивали какие-то походики, но Андрей воскреску не любил – чем дальше, тем больше. Его в четвёртом классе записала туда мама – одинокая учительница, недавно пришедшая к вере. Она хотела, чтобы мальчик набирался благочестия, не начал пить и курить и всегда имел перед глазами мужской авторитет. Но Андрей уже к тринадцати годам испытывал раздражение от наставника воскрески, малорослого, с жидкой бородкой отца Александра, у которого на любой мало-мальски живой вопрос находились только шаблонные ответы. Гораздо больше уважения Андрей питал к собственной матери, которая учила детей добросовестно и за годы трудной работы сумела не утратить доверия к людям. Даже к отцу Андрея, который давно переехал в другой город и общался с тем в телефонном режиме, присылая деньги два-три раза в год.
Мать, как это часто бывает с одинокими родительницами, всю нерастраченную любовь перенесла на сына. Она хотела видеть его батюшкой – человеком, важнее и авторитетнее которого для неё не существовало. Но по характеру она вовсе не была деспотом и предоставила сыну свободу выбора. Тот предпочёл поступить на факультет маркетинга и рекламы, прошёл на бюджет и очень увлёкся учёбой, но, к большой радости матери, храма не бросил, только что, по неясной для неё причине, выбрал другой приход.
К двадцати одному году Андрей знал, как настроить контекстную рекламу и систему аналитики, умел создать простенький сайт и исследовать его эффективность, разбирался в ценообразовании, научился планированию и до тонкостей изучил, как выбирать целевую аудиторию и воздействовать на неё. Психологии в универе уделяли изрядное внимание, но это была психология потребителя: на человека и преподаватели, и студенты смотрели как на ненасытное, вечно жрущее, жаждущее развлечений существо, глупое и внушаемое. Первые три курса Андрей учился на пятёрки и четвёрки, как и в школе, а после не смог преодолевать своё отвращение к преподаваемой науке и всё больше времени проводил в спортивном клубе и с Олей. Мама-учитель поначалу не слишком одобряла Олину кандидатуру: чересчур смело одевается, ярко красится, и вообще, не лучше ли подыскать девушку в храме, на клиросе. От таких слов Андрей забывал о своей любви к матери и просто закипал:
– Христианство, мама, это тебе не заповедник! Это не секта, где только свои со своими! Главное, что Оля верит в Бога, а правильная она или нет – судить не тебе.
Диплом Андрей дописывал с отвращением и, может быть, вовсе бросил учёбу, если бы не Оля. Сразу после получения корочек он решил подать документы в семинарию. Логика подсказывала, что проще всего учиться в ближайшем Томске, но Оля, восхитившая Андрея своими рассказами о прекрасной архитектуре и росписи трапезного храма, вдохновила его ехать в далёкую Троице-Сергиеву Лавру. Андрей раньше никогда не бывал в старой, исконной России, если не считать единственную школьную поездку в Москву, из которой он запомнил только цветистый храм Василия Блаженного и кремлёвские башни со звёздами.
Поступать в Лавру Андрей поехал в Олином сопровождении. Глядя на старинные церкви, она с удовольствием рассказывала о каких-то парящих точках, закомарных покрытиях, реставрациях. Андрей уважительно кивал, но сам думал о другом: внутренним взором он видел людей, которые посвятили себя строительству этих храмов, вставали и засыпали с мыслью, что они живут не напрасно, и после их недолгой скромной жизни на века останутся белизна стен и золото куполов.
– Андрюша, ты такой умный и добрый, ты будешь хорошим пастырем, – сказала ему Оля после поступления.
О том, чтобы сделаться священником на приходе, Андрей, как ни странно, никогда всерьёз не думал: ему до сих пор претили ограниченность воскресной школы, лубочность крестных ходов, и меньше всего на свете он желал бы стать таким же недалёким завхозом, как отец Александр. Вместе с тем Андрей весь горел желанием работать Богу и людям, и самым лучшим для себя выбрал диаконское служение. Диакону не нужно было принимать подачки от богатеев, замаливающих грехи, кланяться властям, чтобы те отремонтировали дорогу к храму.
С Олей они поженились, когда обоим не исполнилось и двадцати двух, сняли маленькую однушку на Взлётке. Пока Андрей заочно учился в семинарии, он писал рекламные статьи на сайты, подрабатывал SMM-щиком и жил полноценной жизнью, как сам считал, только два дня – субботу и воскресенье, когда читал и пел в храме. Ни в какую компанию он не устраивался принципиально, чтобы не прикипать к маркетинговой деятельности. Когда Оля однажды искренне похвалила его рекламные тексты о косметической клинике, Андрей ответил ей вспышкой ярости:
– Я делаю это просто потому, что надо работать! Дай только закончить учёбу…
***
Аттестат Андрей получил по первому разряду – аналог светского красного диплома. Долгожданное рукоположение отметили праздником в семейном кругу. Были Оля, её родители, мама, пара приятелей из столбистского клуба.
Молодого диакона определили в новый, только что выстроенный храм Рождества Богородицы. Первое время Андрей не служил – летал, чувствуя себя воистину ангелом с перекинутым через плечо ало-золотым орарем. Он вскидывал руку, начинал ектению и, произнося: «Миром господу помолимся!», внутри себя замирал, пытаясь услышать молитвенный отклик других сердец. Поворачиваясь лицом к пастве, он напряжённо искал в их глазах следы от недавней встречи с Богом – и, кажется, иногда находил. Среди усталых, равнодушных или горестных прихожан Андрей иногда встречал то радостно-печальную улыбку, в которой видел не по годам обретённую мудрость, то глубоко задумчивый взгляд, который приписывал долгим размышлениям этого человека о мире и своей судьбе. Старухи, которых в любом храме множество, попадались разные: у иных в лице был отсвет причастия, других приходили на службу с неизменно каменными, угрюмыми выражениями физиономий.
В обязанности диакона входило также наведение порядка в храме, и в этой работе Андрей находил не меньшую радость. Прикасаясь в алтаре к престолу и жертвеннику, он благоговейно крестился; протирая пыль, всю церковную утварь ставил на место так аккуратно, будто она была из хрусталя. Дома Андрей вовсе не был таким фанатом уборки и не раздражался при виде смятого покрывала, хотя бардака не любил нигде. Но в храме он поправлял каждую ленту, на которой была подвешена лампада, и безжалостно выкидывал подвядшие цветы на иконе праздника, оставляя только свежие. Старуха, взявшая на себя послушание выбрасывать догоревшие огарки и мазать маслом подсвечник, очень скоро стала приветливо здороваться с ним, называя батюшкой. Так же поступал и дворник, и мальчишки-алтарники.
Теми, кто служит с ним в алтаре, Андрей в первый месяц практически не интересовался. Как бывает во времена первой влюблённости, когда школьник не замечает никого, кроме себя и любимой, так для Андрея существовал только Бог, воспринимаемый через пёстрое собрание мирян, – и он сам, со всем богатством переживаемых чувств. Но спустя несколько недель чернобородый настоятель обратился к Андрею с вопросом:
– Какое служение себе выберешь?
Андрея от неожиданности не понял ничего:
– Я Богу служу…
Настоятель фыркнул.
– Я тебя серьёзно спрашиваю. Послушание какое? Ну, кто ты у нас будешь? На кого учился?
– На маркетолога учился, – с еле заметным вызовом ответил Андрей, чувствуя комичность ситуации. – Коробейник я. Рекламщик.
– Ну, в церковную лавку же я тебя не поставлю, – без тени улыбки ответил настоятель. – Ризничным тебя можно сделать… Но я смотрю, ты говорить умеешь, так что лучше тебя к народу. Детишек надо учить, пойдёшь?
– Надо взрослых учить прежде всего, а они уже – детишек, – возразил Андрей, ощущая крепнущее сознание своей правоты. – Я готов в воскресной школе помогать, только дайте мне и со взрослыми говорить. У нас вон взрослые тёмные, гороскопы читают. Думают, что если чужой крестик нательный на себя надеть, то чужие грехи возьмёшь. А Марк Подвижник писал, что чужой грех ты берёшь, если лишил чего-то своего ближнего. Оболгал кого-то – значит, его грехи на себя и принял.
– Мудрость глаголешь, отец диакон, – иронически усмехнулся настоятель. – Что ж, будешь Писание тёмному народу толковать, разрешим тебе людишек просвещать на проповеди. И ещё. Раз ты рекламщик, то должен, по идее, работать с сайтами. Будешь наполнять наш сайт. Он уже есть, координаты дам, но пустой совсем. Рубрики там создашь: новости, праздники, клир, расписание богослужений…
Воскреска в храме Рождества Богородицы представилась Андрею не такой показухой, как на том приходе, куда он ходил ребёнком и который до сих пор посещала его мать. Тут всё дышало серьёзностью, ребята возрастом от девяти до двенадцати лет чинно сидели за партами, и когда Андрей, пришедший проводить занятие по курсу «Богослужение и устройство православного храма», стал рассказывать им о ходе службы, внимали послушно. Двое – мальчик и девочка – глядели так, будто никогда раньше не слышали ничего подобного, и оба вдохновляли Андрея рассказывать об устройстве храма больше и больше. Лишь когда он стал подмечать в глазах усталость, остановился и спросил учеников:
– Вы давно сюда ходите? А кто из ваших родных привёл вас сюда?
Оказалось, что три человека были из семьи священников, двух привела бабушка, ещё одну— мама.
Андрею сразу болезненно отозвалось, что ни у кого из детей не было верующего, воцерковлённого отца. Исключением были, конечно, семьи батюшек. Однако именно в этих ребятах Андрей чувствовал холодок отчуждения: они знали, что такое антиминс и проскомидия, никогда не путали кадило с паникадилом, но слушали его с равнодушием, как хорошо выдрессированные, запуганные родителями школьники, которые никогда не нарушают дисциплину, но только и думают о том, чтобы поскорее закончился урок. Андрей вспомнил, что в отроческие годы был у него приятель, сын батюшки, который любил учительствовать и кичиться своими познаниями, да ещё устраивать товарищам по воскреске разнообразные «проверки», и невольно подумал: хорошо, что мать его самого привела к храму только в одиннадцать, а не в пять.
ИЗО и рукоделие в школе преподавала худощавая неулыбчивая женщина, никогда не снимавшая с головы платок. Ветхий и Новый завет читал отец Алексей – человек маленького роста и неопределённого возраста, с приятным грудным голосом и плавными жестами рук. В этом интеллигентном батюшке Андрей сразу угадал любителя музыки – и не ошибся. Отец Алексей играл на гитаре, был почитателем «ДДТ», «Аквариума» и «Наутилуса». Но больше всего он привлёк новоиспечённого дьякона не музицированием, а своим служением в детском доме. Отец Алексей ездил туда пару раз в месяц, и сопровождала его в этих поездках лишь тихая, молчаливо улыбающаяся матушка, да (как однажды видел Андрей) пара доброволиц-старушек. Андрей сразу отметил, что этой своей деятельности отец Алексей как бы стыдился, ничего не рассказывал о ней, словно она была чем-то не вписывающимся в налаженный приходской быт.
Спустя некоторое время Андрей окончательно уверился в том, что так дело и обстояло. При храме было место православным волонтёрам, держащим хоругви на патриотических богослужениях, было место алтарничанью и чаепитиям, печенью просфор и пению акафистов, но всё это существовало только для епархиального начальства и для своих. Поездки по детским домам никаких денег епархии не давали, а потому и воспринимались настоятелем не более как позволительное чудачество.
– Вы давно ездите туда? – решился однажды узнать Андрей.
Отец Алексей рассказывал вроде бы с охотой, но в то же время от его слишком банальных слов оставалось ощущение какой-то недоговорённости.
– Четыре годика… Ребятишек всех знаю. Там они разновозрастные. От трёх до восемнадцати. Всякие разные. Маленькие тянутся к тебе, а старшие уже закрываются. На праздники приезжаем – Пасха, Рождество… Наталья – ну, преподаватель наша в воскреске – православный театр организует, сценки к Рождеству, к Пасхе ставим, песни поём. Дети смотрят, подарки дарим…
Андрей выдержал паузу и спросил:
– А те, кто закончили этот детский дом – они вам пишут, звонят? Вы знаете, что с ними происходит?..
Отец Алексей махнул рукой:
– Нет… Хотя я телефон оставлял.
– Видите, – заметил Андрей, – люди не доверяют церкви. Не хотят обращаться к нам даже с проблемами.
– Да, наверное, – не спорил интеллигентный батюшка. – А кто у нас кому нынче доверяет? Ни в миру, ни в церкви… А дети там – уж конечно, как им верить? Их с малых лет самые родные люди бросили. Жалко ведь их. У нас-то с матушкой детей нет, Бог не дал. Так пусть я хоть этим помогу.
Андрей только хотел возразить, как отец Алексей горячо и не без гордости добавил:
– Пока они там, то спрашивают у меня, как поступить! И исповедуются некоторые, и Богу молятся…
– Это здорово, – искренне согласился Андрей. – Но всё равно плохо: почему люди уходят? Маленькие, большие – приходят, возьмут своё – и уходят от Бога?
Отец Алексей не знал.
Добило Андрея мероприятие под именем «Православный молодёжный бал», устраиваемый на Масленице с подачи настоятелей нескольких храмов, в том числе и того, где служил Андрей – Рождества Пресвятой Богородицы.
– Бал, Оля! – почти кричал он, рассказывая об этой затее жене. – Ты понимаешь, бал?!
– Ну что ты так… У нас походы на природу были, у кого-то бал, – примирительно пожимала плечами Оля,
Гнев Андрея не унимался:
– Так «православный», Оля! Как это смешивать?! Зачем смешивать духовное и светское, рядить обыкновенную молодёжную тусовку в религиозные одежды? А потом у нас растут и множатся «православненькие», которые живут как жили, а вербочки и куличи исправно тащат в храм. «Благословите, батюшка!» – передразнил Андрей елейный голос условной прихожанки. – В храме макулатура всякая продаётся, рассказики сиропные для умственно отсталых… На чаепитиях батюшка-затейник байки травит, а народ слушает и кушает… А потом уходит, и каждый продолжает привычное существование. Я даже не знаю, как это назвать…
– Обмирщение? – сделала догадку Оля, осторожно присаживаясь на диван.
Андрей благодарно выдохнул:
– Оно… Я не знаю, когда это началось. Может, ещё с Ренессанса, если говорить про Запад. Запад, Запад… Он нас, русских, привёл за руку в христианство, он же теперь – да не теперь, а уже минимум целый век! – пытается сбросить его, как ящерица старую шкуру… А мы-то куда идём – за старым учителем, куда бы он сейчас ни направлялся, или всё-таки за Господом? Ты мне показывала Рафаэлей всяких… Красиво по-своему, да, но церковь тут при чём? Тела дебелые, завитки, рюшечки… Чисто мирская живопись, а под видом церковной. «Благовещение» какое-то ты мне показывала… Ну, что там – пришёл мужчина к женщине. Церковная живопись должна быть неотмирна, или не быть…
Андрей увидел, что Олино лицо исказилось слишком явной гримасой боли, и мгновенно встревожился:
– Плохо? Полежишь?
Она кивнула, осторожно легла на бок, подложив под сильно раздавшийся живот валик из простыни. Андрей присел рядом с ней:
– Ты не волнуйся, не думай сейчас о том, что я наговорил… Это же я так. Мысли вслух…
***
Ребёнок родился в срок, благополучно, и по заранее подготовленному решению получил имя Фёдор. Спустя четыре месяца его существования Андрей не мог точно сказать, любит ли он сына: он всё ещё смотрел на этого маленького человека только как на продолжение своей Оли. Андрей пытался осмыслить для себя, какое отношение к дитяти будет правильным, христианским, и пытался найти образец этого отношения в житиях святых. Но большинство их были бездетными либо жили в такие стародавние времена, что прошедший курс психологии Андрей понимал – в качестве примера ответственного родительства они вряд ли годятся. Семья последнего русского царя как образец воспитания тоже не подходила: во-первых, императорский двор, во-вторых, четверо девочек, да и попросту Андрей никогда не питал симпатии к Николаю Второму и только вынужденно принимал факт его признанной церковью святости.
Потрясло его жизнеописание святителя Иннокентия Вениаминова, митрополита Московского, просветителя алеутов и сибирских народов. Смелость этого человека воистину была сверхъестественной: чтобы в избяном, лапотном восемнадцатом веке отправиться на далёкую Аляску – надо было иметь ту самую мудрость, которая безумие перед миром. И отправиться не одному, а с женой, братом и годовалым сыном. «Кеня, Кеня, где твои ноги ходить будут?» – повторял про себя Андрей слова, обращённые будущим митрополитом, а тогда просто батюшкой Иоанном, к малолетнему сыну. И прикидывал Андрей, спрашивал себя: смог бы он сам отправиться в какую угодно глушь, согласилась бы на подобное Оля? И всякий раз ответ на эти вопросы был разным.
Жизнь подсказала ответы сама. Спустя почти год после начала диаконского служения ни с того ни с сего настоятель спросил:
– Поедешь в миссионерскую поездку с отцом Агафангелом?
Слух Андрея уловил только чудное имя, и голова склонилась сама. Поездка предполагалась на шесть месяцев – осенью лететь до Туруханска, весной назад. Перед самым перелётом Андрея сковал страх: стало казаться, что за время его отсутствия заболеет Федя, случится что-нибудь с Олей. В самолёте этот страх отошёл, но напал другой: вдруг там, куда они летят с розовощёким, весёлым, как средневековый аббат, отцом Агафангелом, их никто не ждёт?! В тяжёлой дрёме ему виделись вереницы людей на красноярских улицах: все они были серыми, приземистыми, шагали куда-то внутрь снежной пелены. Андрей пытался окликать их, и долгое время никто не отзывался, а когда наконец несколько человек остановили движение и оглянулись к нему, то оказалось, что у них вовсе нет лиц – одни капюшоны. Эти существа не бросались на него, не пытались сожрать – нет, они вовсе не были злыми, они были просто никакими, вечно меняющими свой облик в зависимости от внешних задач, как японское божество Каонаси.
Пытаясь заснуть в гостинице после перелёта, Андрей не мог избавиться от плывущих в голове строчек, и около часа потратил на то, чтобы оформить их:
Жизнь твоя – она только твоя,
Но это не каждый желает понять.
Проще ведь ценник на лоб – и продать
По сходной цене в три рубля.
Говоришь, не можешь, не успеваешь —
Значит, ещё не ищешь душой.
Встречи с Христом и с самим же собой
Не жаждаешь ты, не желаешь.
Жизнь по шаблонам – подвиг простой,
Всё как у всех – дом, работа и дача,
Вот и ещё один год был потрачен
Для бесполезной борьбы с пустотой.
Опасения Андрея не оправдались: и он сам, и Агафангел, и третий приехавший с ними батюшка были в северных посёлках очень даже нужны. Более того, нужен людям был и Бог, правда, прежде всего затем, чтобы спастись от алкоголизма. Русский народ жил надеждой когда-нибудь перебраться на большую землю – на юг края, или хотя бы в Норильск, где такой же лютый холод и вдобавок отравлен никелем каждый кусочек почвы, однако есть жильё и работа. Местные, коренные не имели и этой надежды. Андрея угнетала полярная ночь, временами одолевало чувство брезгливости к пьяным и неряшливым обитателям северного края, но всё искупали добродушная уверенность отца Агафангела и милосердие местных – люди здесь были добрее друг к другу, чем на большой земле, могли поделиться последним, и на новый храм в Игарке жертвовали всё, что имели.
Отец Агафангел рассказывал про шаманов, с которыми лично встречался в Якутии – туда он тоже приезжал с миссией:
– Знаешь, как становятся шаманом? Человек заболевает. Не просто заболевает, а начинает мучиться. Всё тело у него болит, кости ломит, а главное – душу выворачивает наизнанку. Орать хочется, плакать, на ближнем дереве повеситься. Кто-то сразу понимает, что это духи призывают стать посредником. А другие, бывает, и не догадываются, откуда напасть. До поры до времени. Потом человек начинает видеть онгонов – духов предков. Они во снах ему являются, а потом и наяву. Всё, что хотят, с ним делают. Беседуют с ним, дают ему приказы, бьют и запрещают есть, а потом объявляют, что он должен умереть. И убивают его. Будущий шаман буквально переживает собственное расчленение. Он остаётся, как это ни парадоксально, в сознании. Чувствует, как из него вынимают кости, перебирают их, хоронят в яме… Кстати, у него должна оказаться хотя бы одна лишняя косточка, иначе в шаманы человек не годится, и тогда…
– Отче, – не выдержал Андрей, – может, это просто шизофрения? От недостатка света, еды?
– Нет, – спокойно не согласился отец Агафангел. – Это духи злобы поднебесные. С ангелами Божьими, увы, мы по своей падшести в общение не можем войти. А эти – ищут себе посредника для общения с людьми. Такой посредник им крайне нужен, потому что они лишены тела в нашем понимании, а через человека могут совершить намного больше. Поэтому они избирают жертву и мучают до тех пор, пока несчастный не согласится.
– И тогда болезнь проходит? – недоверчиво спросил Андрей.
– Болезнь проходит. Но человек должен теперь работать на духов. Камлать, входить в транс.
– А отказаться от этого разве нельзя?
Отец Агафангел погладил пёструю, чёрную с проседью, бороду.
– Мне говорили, что если всё-таки человек откажется – шаманская болезнь доконает его, и он умрёт. Если человек решил не покоряться духам, они будут страшно мстить. Насылать беды на близких, болезни, погружать в отчаяние и ужас. И в конце концов убьют, скорее всего.
– Лучше умереть тогда, но спасти душу! – заявил Андрей.
– Говоришь, чего не знаешь… Я со стороны видел – и то страшно. Ломает человека, корчит, выворачивает! Духи злобы поднебесной, думаешь, легко людей уступают?! Если они себе выбрали какой-то человеческий род, то вцепляются в него зубами и руками, или что там у них есть… Если дед был шаманом, колдуном, то и его сын будет, а не сын – так внук. Но и прочим внимание оказывают, если ты к ним хоть раз обратишься… Местные в курсе, что они есть, и побаиваются их. Перед дальней дорогой, при рождении ребёнка все кормят огонь – человеческими волосами, оладьями, водкой. На берёзки ленточки вешают, желания загадывают… Это всё живо. Война идёт за каждую душу, никогда не прекращалась. Одно хорошо – тут атеистов нет. Все знают: духовный мир существует. А иные мне так и говорили: мы ваших, русских духов, уважаем – Христа, Богородицу. Они сильные, сильнее наших. Поэтому в вашу церковь ходить можно. И мы крестили там человек пятнадцать. Как и здесь, немного. Но лучше мало, зато настоящих христиан.
Андрей пока не мог понять, верит наставнику или нет. Спросил первое, о чём подумалось:




