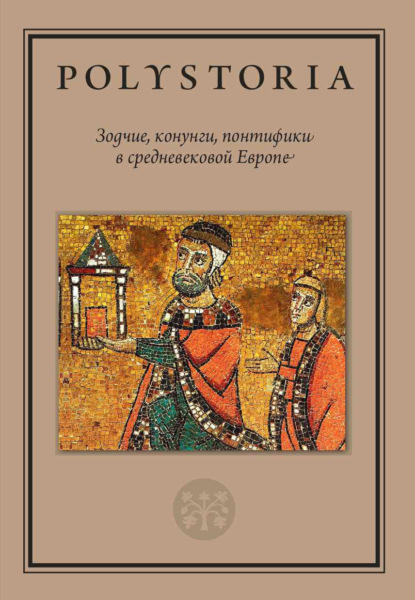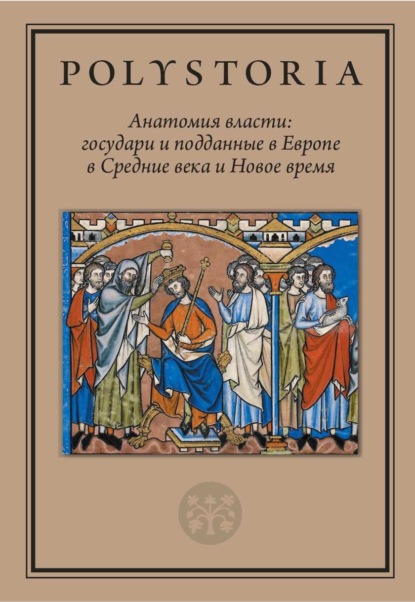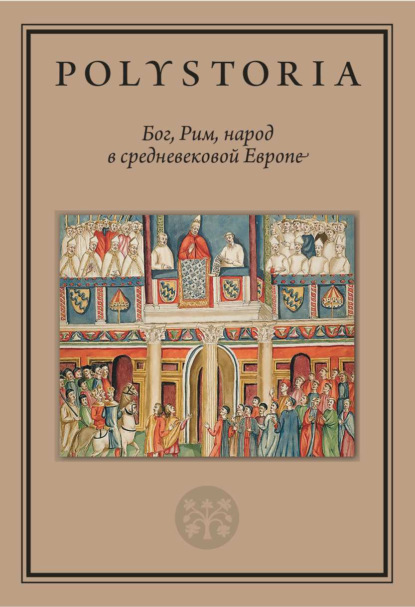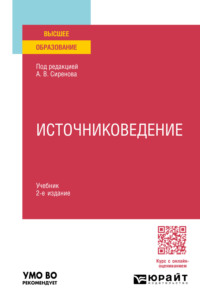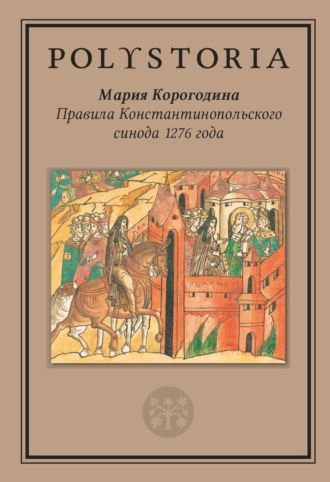
Полная версия
Правила Константинопольского синода 1276 года
Таким образом, согласно правилам собора 1273 г., любое требование денег, помимо оплаты работы клириков по установленной таксе, в том числе во время церковных соборов или за предоставление церковных должностей, сурово осуждалось и приравнивалось к взяточничеству. Запрет взимать вознаграждение за поддержку кандидата на вступление в клир, как и некоторые требования к претендентам на священство, обосновывались ссылками на несколько церковных правил. Большая часть, иногда с неточными номерами, названа в самом тексте: Ап. 29[25], 6 Всел. 22, 4 Всел. 2 и 6, послание патриарха Константинопольского Тарасия к папе Римскому Адриану, а также правило 7 архиепископа Александрийского Феофила. Симония продолжала оставаться распространенным явлением и в более позднее время, судя по сборнику Власфимия, сформированному в XIV в. и включившему многочисленные выдержки из церковных правил и сочинений отцов церкви, в которых осуждалось приобретение должностей за «мзду» как светскими, так и церковными лицами [Клибанов, 1960, с. 30–33; Алексеев, 2012а].
Помимо прямого запрета взимать мзду за поставление в священный сан, статья имеет ряд иных указаний. Два дополнительных запрета отсылают к текстам, появившимся на Руси в XIII в., но не упоминаемым напрямую в данной статье. Первый касается запрета переводить епископов с кафедры на кафедру или священников из епархии в епархию: «ни изъ иного въ инъ градъ поставити, аще от своего прѣдѣла будеть, преже дажь не обѣщаеть» [РИБ, т. 6, стб. 90]. Решение восходит к синодальному постановлению 1220-х годов, ставшему известным на Руси вместе с новым переводом Кормчей книги, – переработке «Томоса единения», цитировавшейся уже в предисловии к постановлениям собора [Корогодина, 2019]. Второй запрет касался поставления в священнический сан рабов: это правило было наиболее ясно сформулировано в синодальном постановлении патриарха Константинопольского Германа II, адресованном митрополиту Кириллу I в 1228 г. [Корогодина, 2022; Korogodina, 2023]. Это постановление, полученное на Руси почти за 50 лет до собора 1273 г., так и не было включено в Кормчую книгу. Как видим, участники собора привлекали материалы, которые к тому времени не входили в устойчивый состав каких-либо книг, резюмируя более ранние постановления и включая их в деяния собора.
Кроме того, первая статья подробно регламентирует процесс испытания кандидата в священство, компенсируя отсутствие подобных текстов в современных собору славянских богослужебных книгах. Можно полагать, что в предшествующее время процесс выборов кандидата определялся устной традицией или греческими рукописями. Собор 1273 г. впервые в древнерусской традиции фиксирует, какими должны быть требования к кандидату; кто должен выступать в качестве поручителей, как происходят испытания. Одним из источников при формировании перечня требований к кандидату в священство стал «Томос единения», который неоднократно привлекался при подготовке постановлений собора. Фрагмент «Томоса единения», перечисляющий требования к претенденту на епископство («быти непорочну, трезву, чисту плотью, постьнику рекше трезвьнику, въздьржаливу, не винопиицѣ, не пакостьнику, не сварливу») был пересказан в правилах собора («дѣвство съблюдъши <…> не кощюньници, не хыщници, ни пьяници, ни ротници, ни сварливи») [Корогодина, 2019, с. 322; РИБ, т. 6, стб. 90]. Кроме того, у кандидатов в священство необходимо выяснить, «аще грамоту добрѣ свѣдять» [РИБ, т. 6, стб. 90]. Прообразом этого требования являлось обобщенное рассуждение в «Томосе единения» о необходимости священнику быть «учителну не словесы точью». Более столетия эти краткие указания оставались единственными в своем роде в Киевской митрополии: новые руководства для испытания будущих клириков, включая проверку грамотности, появились только в XV в. [Неселовский, 1906, с. 191].
Помимо прочего, в деяния собора вставлен вопросник о грехах, обращенный к претенденту на священный сан, с указанием на поручительство духовного отца [РИБ, т. 6, стб. 90–91]. Это самое раннее свидетельство существования исповедных вопросников: в составе чина исповеди подобные перечни вопросов появляются лишь в XIV в. [Корогодина, 2006а, с. 49–54]. В постановлениях собора зафиксировано наиболее раннее описание процедуры испытания будущего клирика, согласно которой поручителями выступают до семи свидетелей и духовник, а испытуемого подробно расспрашивают о плотских грехах, девстве его жены до брака, венчании и целом ряде поступков, несовместимых со священством. К ним относятся лжесвидетельство, убийство, ростовщичество, жестокое обращение с челядью, волшебство и отказ платить дань. Последний пункт («дани бѣгая») характерен исключительно для второй половины XIII в.; в более поздних текстах он не встречается. Иные упоминания о подобных испытаниях появляются только в грамоте митрополита Фотия Тверскому епископу Илие (1422) [РИБ, т. 6, стб. 424; Корогодина, 2021а], а в конце XV в., вероятно, на основе постановлений собора 1273 г. в Новгороде при архиепископе Геннадии был подготовлен особый чин «Свидетельства в дьяконство и поповство». В этот период к грехам, несовместимым со священством, помимо плотских, были отнесены разбой, убийство, воровство, принесение клятвы [РИБ, т. 6, стб. 909–912].
Кроме того, статья регламентировала правила поставления клириков, в том числе возраст претендентов (не менее 30 лет для священника и 25 лет для дьякона). Именно такой возраст для хиротонии и хиротесии был определен в правилах Неокес. 11 и 6 Всел. 14 и 15[26], но разыскать эти постановления в Кормчей книге было непросто. Лишь в XV в. возраст поставляемого и проверка знания им церковных книг были зафиксированы в восточнославянских текстах, подробно описывающих хиротонию [Ваврик, 1963; Корогодина, 2021а]. Постановление собора 1273 г. перечисляло все требования к претенденту на священнический сан и цитировало церковные правила, на которых эти требования были основаны.
Уже первые исследователи древнерусского канонического права обратили внимание на то, что в младшем списке Власфимии, датируемом 1504 г.[27], правила собора 1273 г. осуждаются за назначение платы за рукоположение, тогда как в старшем списке Власфимии рубежа XIV–XV в.[28] они вообще не упоминаются [Православный собеседник…, 1867, с. 242]. Это дало основание А. С. Павлову, а затем и Я. Н. Щапову предположить, что пропуск предисловия и 1-й статьи правил в Мясниковской и Чудовской редакциях Кормчей книги объясняется стремлением исключить двусмысленный текст, одновременно осуждающий и оправдывающий взимание платы за рукоположение [РИБ, т. 6, стб. 83–84; Щапов, 1978, с. 181]. Однако указание Я. Н. Щапова на Чудовскую редакцию Кормчей в этом контексте является недоразумением: здесь текст правил собора 1273 г. сохранил начало в полном объеме. Что касается Мясниковской редакции Кормчей, созданной не позднее начала XV в., то редкая статья в ней не подверглась сокращению. Желанием исключить постановление о плате за хиротонию невозможно объяснить, почему в Мясниковской редакции Кормчей также было опущено предисловие к соборным правилам, посвященное совсем иным вопросам. Таким образом, выводы исследователей о том, что первая статья правил Владимирского собора могла рассматриваться как двусмысленная, не имеют под собой оснований.
2 статья. Помазание маслом и миром во время крещения. Главное внимание в данной статье уделено смешению таинства миропомазания с елеопомазанием: как сообщает собор, священники по незнанию смешивали миро и елей (освященное масло) и помазывали крещаемого по всему телу [РИБ, т. 6, стб. 93–95]. Запрещая соединять два вещества, собор указывал, что миром следует мазать только «чувства» (чело, глаза, уши, ноздри, уста). Древнейший славянский чин крещения, имевший хождение до XIII в. и сохранившийся фрагментарно в единственном списке, не дает ясного разграничения елея и мира: указания изображать крест маслом и миром на всех «юдѣх» крещаемого следуют друг за другом без каких-либо пояснений [Афанасьева, 2019б, с. 125][29]. При этом ни один текст не свидетельствует о соединении мира и масла во время крещения. Это позволяет предположить, что упрек, адресованный участниками собора неразумным священникам: «смѣшающе мюро божествьное съ масломь» означает не соединение веществ, а неразличение их, приравнивание одно другому [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 25, с. 188].
Более четко граница между елеем, вливаемым в воду для крещения, и миром, которым совершается помазание после крещения, проводится в южнославянском переводе чина, появившемся не позднее XIII в. [Афанасьева, 2019б, с. 125–128]. Можно полагать, что постановление собора 1273 г. связано с переходом от древнейшего славянского чина к иному чину крещения, перевод которого стал известен на Руси во второй половине XIII в. и который подчеркивал различия между использованием елея и мира. Постановления собора содержат пространные цитаты из сербского чина крещения[30], дополненные ссылками на правило Лаод. 47 и на «Огласительные слова» Кирилла Иерусалимского. Согласно наблюдениям Т. И. Афанасьевой, в русской традиции вплоть до XVII в. сосуществовали разновременные редакции чина крещения [Там же, c. 134].
Как и в других статьях, в конце постановления выносится несколько решений, связанных с основным вопросом лишь общей тематикой. Дважды подчеркивается необходимость причащения после крещения; очевидно, этот вопрос участникам собора представлялся наиболее важным. Если крещение совершалось в церкви и было приурочено к литургии, то причастить крещаемого было несложно. Однако крещение могло быть совершено и вне церкви: на дому, если крестили больного младенца, или даже «в чисте месте», если речь шла о крещении взрослых миссионерами. В таких случаях причастить можно было только запасными дарами, что требовало предварительной подготовки и продуманности действий. Как мы увидим далее, перенесение запасных даров являлось одним из вопросов, не получивших однозначного ответа в книгах.
Наконец, в этой же статье подчеркивается запрет крестить через обливание, что в XIII в. ассоциировалось с «латинством». Важно, что запрет вводится словами «боле да не обливають никогоже» [РИБ, т. 6, стб. 94]; это означает, что до 1273 г. крещение через обливание продолжало иногда практиковаться в православных церквах. О практике обливания в славянских землях свидетельствует болгарский Зайковский Требник (НБКМ 960) начала XIV в., в котором погружение сознательно заменено на обливание [Hološnjaj, 1995; Цибранска-Костова, Мирчева, 2012, с. 140–142]. Как будет показано далее, этот вопрос снова стал актуальным во времена нашествия Орды и был задан на заседании синода в Константинополе в 1276 г.
3 статья. Праздничные бои. От церковных таинств участники собора перешли к вопросам, связанным с местными обычаями [РИБ, т. 6, стб. 95–96], в том числе с приурочиванием народных празднеств, имевших языческую основу, к датам церковного календаря. В постановлениях собора описаны традиционные представления («позоры»), которые сопровождались свистом и криками, переходили в смертные бои на копьях («дрьколѣемь») и заканчивались ограблением убитых. Текст приписывает «треклятым елинам» обычай устраивать подобные кровавые празднества. В Византии действительно сохранялись многие традиционные торжества и гуляния, берущие начало в античных временах и приуроченные к христианским праздникам. В XII–XIII вв. при дворе византийских императоров проводились рыцарские турниры, сопровождавшиеся торжественным церемониалом и не имевшие ничего общего с площадными боями [Jones, Maguire, 2002]. Кроме того, к концу XIII столетия, времени императора Андроника III, относятся сообщения о боях на копьях и палках во время народных празднеств [Поляковская, 1991, с. 578].
Собор 1273 г. опережает по времени правление Андроника III; можно полагать, что русские архиереи опирались на расхожие рассказы о греческих празднествах. Однако в основе детального описания праздничных боев, без сомнения, лежат русские, а не греческие обычаи. Побоища были одним из способов решения острых политических вопросов, в том числе в Новгороде, где усобицы порой перерастали в битвы между «концами»[31], заканчивавшиеся увечьями и гибелью людей. Увечья, наносимые во время драк, в том числе на палках, являлись уголовным преступлением, наказание за которое оговаривалось в «Правде Русской» – основном древнерусском княжеском своде законов, хорошо известном участникам собора 1273 г., поскольку этот свод был включен в Кормчую книгу [Правда Русская…, 1940, с. 124–125]. Однако внимание участников собора было сосредоточено не на драках и увечьях как уголовном преступлении, а на обрядовых боях, сопровождавших традиционные праздники, например, свадьбы, которые, как известно из «Устава князя Ярослава о церковных судах», сопровождались смертными боями [Щапов, 1976, с. 113, ст. 29]. Соответствующая статья вошла в Кормчую книгу и несомненно была известна участникам собора 1273 г.
Осуждая «бесовские обычаи треклятых елин», собор с особой суровостью отнесся к тому, что ритуальные бои приурочены к церковным праздникам, и пригрозил участникам боев отлучением, в том числе запретом приносить поминальные дары в церковь и отказом в церковном погребении. Осуждению подверглись также священники, совершающие церковные таинства и обряды над участниками боев.
4 статья. Дьяконская проскомидия. Предшествующая статья о языческих празднествах прерывала последовательность вопросов, касавшихся богослужения. Следующая статья относилась к литургическому значению и функциям дьяконов, затрагивая вопрос о совершении ими проскомидии. Древняя практика проскомисания дьяконами, сохранявшаяся в византийской церкви до XII–XIII вв., постепенно была вытеснена постановлениями, предписывающими совершать проскомидию только священникам, ярким свидетельством чего являются вопросоответы митрополита Критского Илии [Бернацкий, Желтов, 2005, с. 27–29]. В Киевской митрополии до XIII в. был принят греческий обычай совершения проскомидии дьяконами, в соответствии со Студийским уставом [Муретов, 1894, с. 499–500], в то время как, согласно Иерусалимскому уставу, проскомидия совершается священником. Правила собора 1273 г. являются наиболее ранним примером постепенного отказа от дьяконской проскомидии в Русской церкви. На важность вопроса и тщательную подготовку участников указывают ссылки на правила церковных соборов: Лаод. 55 и 1 Всел. 18 (в тексте ошибочно номер 23) [РИБ, т. 6, стб. 96–97]. Сопоставление правил показывает, что постановление собора 1273 г. опирается на компилятивную Русскую редакцию Кормчей, которая в тексте I Вселенского собора соединила правила Древнеславянской редакции Кормчей с толкованиями Сербской редакции [Срезневский, 1897, с. 91].
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В Ипатьевской летописи известие находится под 6745 (1237) г.
2
В Симеоновской и Лаврентьевской летописи по Академическому списку: «Епископа же ублюде Бог, отъѣха прочь в тои год, егда рать оступила град» [ПСРЛ, т. 18, с. 55; т. 1, с. 515].
3
Ап. 14; Анк. 18; Антиох. 13 и 22 [Бенешевич, 1906, с. 64, 235, 258–259, 263].
4
Ап. 1 [Там же, с. 62].
5
Ю. А. Артамонов относит разделение Ростовской и Владимирской епархий к 1213 г. [Артамонов, 2021].
6
6773 (1265) г. – венчание Василия Ярославича в Костроме [ПСРЛ, т. 18, с. 72]; 6777 (1269) г. – пострижение в схиму Дмитрия Ярославича [Там же, с. 73]; 6779 (1271) г. – погребение в Спасо-Песоцком княгинином монастыре в Ростове Марии Михайловны, жены Василька Константиновича [Там же, с. 74]; 6781 (1273) г. – пострижение и погребение жены Глеба Васильковича в Ростове [Там же]; 6784 (1276) г. – погребение Василия Ярославича в Костроме [Там же, с. 75]; 6785 (1277) г. – погребение Бориса Васильковича в Ростове [Там же]; 6786 (1278) г. – венчание Михаила Глебовича в Ярославле [Там же, с. 76]; 6786 (1278) г. – погребение Глеба Васильковича в Ростове [Там же].
7
6758 (1250) г. – приезд в суздальскую землю и венчание Андрея Ярославича во Владимире вместе с епископом Ростовским Кириллом [ПСРЛ, т. 1, с. 472]; 6759 (1251) г. – приезд в Новгород и хиротония архиепископа Далмата вместе с епископом Ростовским Кириллом [Там же]; 6760 (1252) г. – встреча Александра Ярославича во Владимире [Там же, с. 473]; 6763 (1255) г. – погребение Константина Ярославича во Владимире [Там же, с. 474]; 6769 (1261) г. – пребывание в Ростове вместе с епископом Кириллом, хиротония епископа Сарайского Митрофана [Там же, с. 476; т. 20, с. 164]; 6770 (1262) г. – хиротония епископа Ростовского Игнатия [Там же, т. 1, с. 477; т. 20, с. 164]; 6771 (1263) г. – погребение во Владимире Александра Ярославича [Там же, с. 165; т. 23, с. 85–86]; 6777 (1269) г. – хиротония епископа Переяславля Русского и Сарая Феогноста [Там же, т. 18, с. 73; т. 20, с. 166]; 6778 (1270) г. – посылка грамоты из Владимира в Новгород [Там ж??.?20,?.?167;?.?23,?.?88]. е, т. 20, с. 167; т. 23, с. 88].
8
После собора 1273 г. митрополит уехал в Киев, где рукоположил епископа Новгородского Климента в 6784 (1276) г. [НIЛ, с. 323; ПСРЛ, т. 18, с. 75; т. 43, с. 100 (6782 г.)]; в том же году приехал во Владимир и хиротонисал епископа Владимирского Феодора в 6784 (1276) г. [ПСРЛ, т. 18, с. 75], после чего вернулся в Киев. В 6788 (1280) г. митрополит снова приехал в Ростов и Владимир и в декабре 6788 (1280) г., после проведения церковного собора, умер в Переяславле Залесском [Там же, с. 77; т. 20, с. 169; т. 43, с. 101 (6789 г.); НIЛ, с. 324 (6789 г.)].
9
Константинопольская патриархия, как и двор византийского императора, пребывала в Никее со взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. до освобождения города в 1261 г.
10
Тверская епархия внесена в перечни епископий Киевской митрополии, составленные в Константинопольской патриархии около 1347 г. [Цукерман, 2014, с. 150–151]; следовательно, к этому времени она уже получила официальный статус в Константинополе [Darrouzès, 1981, р. 403 (Notitia 17: 147)].
11
РГБ, ф. 304.I (Троице-Сергиевой Лавры), № 15, л. 63 об. – 64 об. [Тихомиров, 1961б, с. 128–130].
12
Предположительно, это сочинение являлось постановлением синода, пребывавшего в Никее, было издано в 1220-е гохранилось фрагментарно в болгарском переводе. Отрывки из него включены в «Томос единения» (постановление о четвертом браке императора Льва VI) и в толкование к правилу Карф. 75.
13
Сохранилось послание епископа Иакова пробсту, наместнику и совету г. Риги с упоминанием его поездки к митрополиту [Кузьмин, 2012, с. 231–234]. Изд.: [Хорошкевич, 2015, с. 60–61, № 3].
14
Иконом как монастырская должность упоминается в житии Феодосия Печерского, «Сказании о черноризческом чине» Кирилла Туровского, Ипатьевской летописи (1169 г.), писцовой записи на Юрьевском Евангелии 1119 г. и в житии Авраамия Смоленского. Иметь в монастыре иконома предписано Студийским уставом [СлРЯ XI–XVII в.в., вып. 6, с. 221; Срезневский, Материалы, т. 1, ч. 2, с. 1087–1088; ПСРЛ, т. 2, с. 535; Корогодина, 2021в, с. 377–379].
15
Соответствующие тексты были в Древнеславянской редакции Кормчей, бытовавшей на Руси с XI в.; в Сербской редакции Кормчей книги, присланной митрополиту Кириллу в 1262 г.; и в составленной в последней четверти XIII в. при нем же новой Кормчей книге: ГИМ, Син. 132, л. 131б – г, 239а – в [Бенешевич, 1906, т. 1, с. 124, 217–218; Петровиħ, Штављанин-Ђорђевиħ, 2005, т. 1, с. 301–302, 483].
16
«Правило Кюрила митрополита Руськаго, съшьдъшихся епископъ: Далмата Ноугородьского, Игнатья Ростовьского, Феогноста Переяславьского, Симеона Полотьскаго» [РИБ, т. 6, стб. 83].
17
Каждый из участников собора известен по независимым летописным известиям; это дает основания полагать, что иных архиереев, не приехавших на собор и ни разу не упомянутых в летописях, не существовало. Во Владимиро-Волынской епархии на западе Киевской митрополии к 1273 г. прервалась череда епископов (см. след. сноску). Основание Холмской епископии, упоминаемой в Ипатьевском списке, А. П. Толочко относит ко времени не ранее 1289 г. или даже к 1303 г. [Толочко, 2005; 2017; Jusupović, 2019, S. 59–61].
18
В Ипатьевском списке под 6731 (1223) г. приведен перечень Владимиро-Волынских епископов, указывающий их последовательность, но не позволяющий реконструировать время, когда они занимали престол: Асаф, Василий, Микифор Станко, Кузма [ПСРЛ, т. 2, с. 739–740]. Предлагаемая Н. И. Теодоровичем периодизация правления Владимиро-Волынских епископов условна вплоть до 6795 (1287) г., под которым в Ипатьевском списке упоминается епископ Марк, а в Хлебниковском к тому же времени относится Евсегний. А. Юсупович и Д. Домбровский предположительно отнесли правление этих епископов ко времени до 1269 г., опираясь на время княжения Романовичей. К более раннему периоду – дотносил четверых епископов П. П. Толочко, который полагал, что перечень епископов и иные статьи, связанные с деятельностью архиереев во Владимире Волынском и Холме, были вставлены в Галицкую летопись перед приходом Бурундая на Волынь. Таким образом, между 1260–1287 гг. Владимиро-Волынская кафедра пустовала [Теодорович, 1893, с. 35–37; ПСРЛ, т. 2, с. 899; Толочко, 2005, с. 47–53; Dąbrowski et al., 2017, S. 548, 554; Jusupović, 2019, S. 59–61].
19
В Лаврентьевской летописи листы утрачены.
20
«На поставление епископа Серапиона Володимирскаго» [РИБ, т. 6, стб. 83].
21
Наиболее полный обзор исследований, посвященных митрополичьим наместникам, и с???????????????????? ведений о наместниках в XIV–XVI в.в. см.: [Давиденко, 2012].
22
Неясно, почему в правиле 4 Всел. 17 греческое слово осталось не переведенным. Аналогичное выражение ὁ ἔξαρχος τῆς διοικήσεως передано как «начяльникъ строения» всего парой листов выше в правиле 4 Всел. 9 [Бенешевич, 1906, с. 117]. Текст правила 4 Всел. 17, включая упоминание экзарха, вошел в Кормчую книгу, составлявшуюся при митрополите Кирилле: ѥаръхъстроѥни. См.: ГИМ, Син. 132, л. 127а: 5–6.
23
Дата собора: 1273, а не 1274 г., была обоснована Я. Н. Щаповым; место его проведения – М. В. Печниковым [Щапов, 1978, с. 181–183; Печников, 2009].
24
ГИМ, Син. 132, л. 539–546 об.
25
В тексте названо правило 31, но уже А. С. Павлов выяснил, что номер ошибочен и речь идет об Ап. 29 [РИБ, т. 6, стб. 87].
26
ГИМ, Син. 132, л. 81в – г, 197б – г.
27
Требник, РНБ, Солов. 1085/1194, л. 629.
28
Трифоновский сборник, РНБ, Соф. 1262.
29
РНБ, Q.п. I.24, л. 5–5 об.
30
Выдержками из чина крещения в постановлениях собора 1273 г. является текст: «мажють и масломь древянымь, глаголюще: “мажеться рабъ Божии масломь радости въ имя Отца и Сына и Святаго Духа и нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ, аминь” на всѣхъ съставѣхъ. Ти потомь да крещають и, погружающе въ три погруженья въ имя Отца, таче Сына, таче Святаго Духа, и приглашають “аминь”. Таже мажють и мюромь по чювьствомъ, глаголя: “печать и даръ Святаго Духа”, <…> на челѣ, на очью, на ушью, на ноздрѣю, на устьну» [РИБ, т. 6, стб. 93–94]. Ср. с чином крещения в древнерусском списке XIV в.: РНБ, Соф. 526, л. 106 об., 108–108 об.
31
Новгород делился на пять «концов» – районов, имевших собственное вече: Людин, Загородский, Неревский, Плотницкий и Славенский.