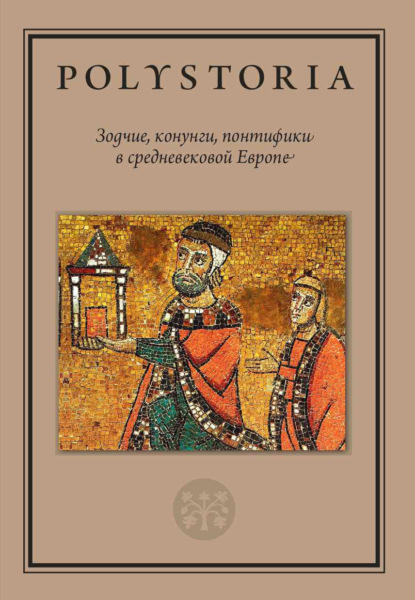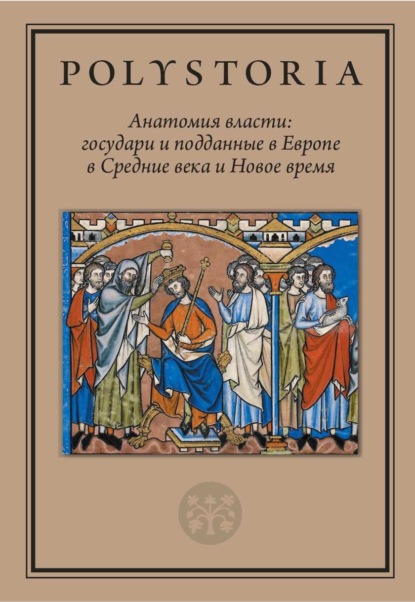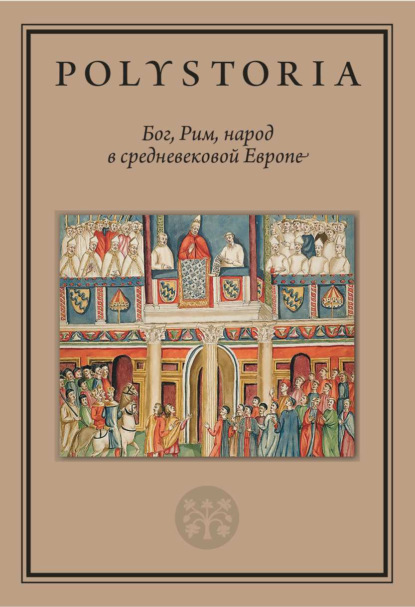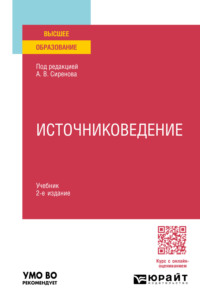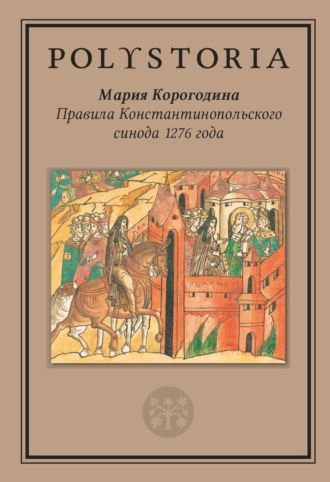
Полная версия
Правила Константинопольского синода 1276 года
Открытие новой кафедры в Сарае, необходимой для взаимодействия с ордынскими ханами, вызывает у исследователей ряд вопросов. Согласно правилам Лаод. 56 и Сард. 7, митрополит мог по своему усмотрению учредить новую епископию, если город, в котором основывалась кафедра, был достаточно крупным [Бенешевич, 1906, с. 277–278, 284–285]. При этом епархия должна была быть утверждена Константинопольским патриархом и императором, после чего она занимала свое место в структуре церкви и впоследствии включалась в нотиции (notitiae episcopatuum) – перечень епископий, подчинявшихся патриархату [Бибиков, 2004, с. 403–405]. Некоторые из сохранившихся нотиций перечисляют епископии, входившие в Киевскую митрополию, однако на XIII и начало XIV в. приходится большая лакуна: после нотиции конца XII в. следующий перечень епископий сохранился только в документе, написанном после смерти Андроника II Палеолога (ум. 1328) [Darrouzès, 1981, р. 367 (Notitia 13: 759–770), р. 403 (Notitia 17: 136–157)]. В добавлениях к последней нотиции, которые К. Цукерман относит к 1347 г. [Цукерман, 2014, с. 149–151], названы две новые епископии, появившиеся благодаря митрополиту Кириллу: Сарайская и Тверская [Darrouzès, 1981, р. 403 (Notitia 17: 147, 148)]. Когда они были утверждены Константинопольским патриархом, неизвестно. Очевидно, могло пройти несколько лет, прежде чем у митрополита появилась возможность отправить патриарху послание с просьбой утвердить новые кафедры. В этот промежуток времени новая епархия могла существовать de facto, но de jure рукополагать на кафедру до утверждения ее Константинопольским патриархом и императором было нельзя.
Каким же образом был поставлен епископ Митрофан? Трудно представить, чтобы митрополит Кирилл смог организовать посольство в Никею с просьбой утвердить Сарайскую кафедру на рубеже 50–60-х годов XIII в.[9], при том что о подобном посольстве не сохранилось никаких упоминаний ни в греческих, ни в русских источниках. Остается допустить, что либо митрополит пошел на прямое нарушение канонов, хиротонисав Митрофана на открытую им самим и не утвержденную епископию, либо при хиротонии была названа иная, вдовствующая кафедра, а в действительности Митрофану было поручено управлять делами в Золотой Орде. Грубое нарушение церковных правил со стороны митрополита кажется маловероятным. Б. А. Успенский предположил, что Митрофан был поставлен одновременно епископом Переяславлю Русскому и Сараю [Успенский, 1998, с. 339], как это позже произошло с епископом Феогностом. Это предположение остается гипотетическим, поскольку все летописные статьи называют Митрофана только епископом Сарайским; хотя поставление на захиревшую кафедру для решения насущных проблем, обусловленных смещением центра политической жизни, является наиболее вероятным.
Возможно, именно с этим промежуточным периодом между основанием кафедры, необходимой для нужд церкви, и ее утверждением патриархом и императором, связана необычная титулатура двух епископов последней трети XIII в.: Феогноста, преемника Сарайского епископа Митрофана, и Тверского епископа Симеона. Время хиротонии Симеона неизвестно; он упоминается впервые под 6779 (1271) г. без указания кафедры. Согласно летописному известию, в этом году, возвращаясь из поездки в Орду, умер великий князь Ярослав Ярославич; Симеон сопровождал его тело в Тверь, где и совершил погребение [ПСРЛ, т. 18, с. 74; Приселков, 2002, с. 331]. Неизвестно, ездил ли Симеон к хану вместе с тверским князем или присоединился к похоронному кортежу по пути. Его дальнейшая жизнь была связана с Тверью, где ранее не было епископии. В 6793 (1285) г. он начал строительство каменного кафедрального Преображенского собора, поставленного на месте предшествующей церкви Козьмы и Дамиана, в которой располагался некрополь тверских князей [ПСРЛ, т. 18, с. 81; т. 20, с. 170; т. 23, с. 93; т. 24, с. 105; т. 25, с. 156]. Епископ Симеон умер в 6796 (1288) г. в Твери и был погребен в построенном им Преображенском соборе [Там же, т. 18, с. 81–82]. Симеон стал первым епископом в Твери [Там же, т. 18, с. 23; т. 24, с. 105]; появился ли он там до смерти великого князя Ярослава Ярославича или прибыл вместе с телом князя, остается неизвестным.
Таким образом, спустя десять лет после Сарайской епархии, около 1271 г., митрополит Кирилл основал еще одну епископию, Тверскую[10]. Однако, как и Сарайская, эта необходимая для Северо-Восточной Руси кафедра должна была быть утверждена патриархом и императором прежде, чем поставлять на нее архиерея. По этой причине местом хиротонии Симеона была не Тверская кафедра. В перечне епископов Симеоновская летопись называет его «епископом из Полотска» [ПСРЛ, т. 18, с. 23]; также Симеон назван Полоцким епископом в правилах собора 1273 г. [РИБ, т. 6, стб. 83–84]. Собор состоялся спустя два года после появления в Твери епископа Симеона с печальной процессией; однако Тверь не упоминается в постановлениях собора – как и Сарай, поскольку Феогност назван Переяславским епископом. Титулатура архиереев в правилах собора имела большое значение: она показывала, на какую кафедру официально возведен епископ, хотя на деле он мог быть уже перемещен и заниматься делами иной епархии. Наконец, именно такое распределение действующих епископий свидетельствовало о том, что собор проведен архиереями всей Киевской митрополии. Несмотря на отсутствие западных епископов, здесь была представлена центральная и северная часть митрополии: Переяславль Русский, Полоцк, Великий Новгород, Ростов. Это выглядело более представительно, чем если бы все перечисленные в intitulatio архиереи относились к северному и восточному региону: Новгород, Тверь, Ростов, Сарай. Возможно, необходимость сохранять архиереев на всей территории Киевской митрополии была одной из причин поддержки митрополитом Кириллом епископий, ставших титулярными.
На связь Симеона с Полоцким княжеством указывает также редкое не летописное сочинение – «Наказание Симеона», старший список которого находится в Мериле праведном[11]. Памятник повествует об устроенном полоцким князем Константином Безруким пире, во время которого епископ Симеон резко возразил князю, осудив его жестокость и равнодушие к судьбам подвластных людей. Как было показано ранее, текст был записан кем-то из современников Симеона, возможно, после его смерти [Корогодина, 2017а, т. 1, с. 91–93]. Отсылка к событиям, описанным в «Наказании», находится в летописной похвале епископу Симеону: «князя не стыдяся пряся, ни велмож» [ПСРЛ, т. 18, с. 82], что подтверждает аутентичность происшествия. Несмотря на то что история разворачивалась в доме полоцкого князя, Симеон в «Наказании» назван епископом Тверским. Исходя из этого, исследователи пытались идентифицировать князя и определить время, к которому относится рассказ [Кучкин, 1969; Кузьмин, 2007]. Однако если «Наказание» было записано уже после смерти Симеона, когда он воспринимался исключительно как тверской архиерей, то нет ничего странного в том, что Симеон именовался по возглавляемой им кафедре в повествовании о событиях, произошедших до его появления в Твери. К сходным выводам пришли Э. Клюг и Б. А. Успенский, анализируя связанные с епископом Симеоном известия [Клюг, 1994, с. 66; Успенский, 1998, с. 338–339].
Сведений о хиротонии Симеона не сохранилось, однако имеющиеся известия заставляют предполагать, что он был поставлен на Полоцкую епископию, а затем перемещен в Тверь, что повлекло за собой открытие новой кафедры. Именно в это время в составе Сербской редакции Кормчей книги митрополит Кирилл получил сочинение, дозволяющее перемещать епископа с одной кафедры на другую в качестве награды за верность и стойкость [Корогодина, 2019][12]. Уже пребывая в Твери, в течение некоторого времени Симеон продолжал восприниматься как епископ Полоцкий. Возможно, митрополит Кирилл предполагал, что Симеон, подобно Феогносту, будет de facto возглавлять две кафедры; но, как и в первом случае, это оказалось невозможно. В отличие от Переяславской, Полоцкая епископия не запустела. Известия о следующем епископе, Иакове, относятся ко времени около 1308 г.[13], однако время его хиротонии неизвестно. Если между епископами Симеоном и Иаковом не было иных архиереев, сведения о которых не сохранились, то после перемещения Симеона в Тверь в 1271 г. Полоцкая епархия, вероятно, длительное время пустовала.
Открытие новых кафедр митрополитом Кириллом и превращение старых епископий в титулярные говорит о его стремлении преобразовать структуру Киевской митрополии. С этим связано появление некоторых терминов, свидетельствующих о попытках уподобить структуру Русской церкви Византийской. Так в летописном известии о погребении Александра Невского во Владимире в 6771 (1263) г. упоминается «иконом Севастиан» [ПСРЛ, т. 20, с. 165; т. 23, с. 85–86]. Псковская летопись, сохранившая первоначальную редакцию жития Александра Невского, созданную в XIII в. [Бегунов, 1965, с. 194], недвусмысленно называет Севастиана митрополичьим икономом [ПСРЛ, т. 5, с. 6]. Должность иконома, управлявшего церковным имением, известна на Руси с XII в., но исключительно как монастырская[14]. Правила 4 Всел. 26 и 7 Всел. 11 указывают на должность иконома при кафедральных соборах и при епископах[15], но древнерусские тексты не содержат упоминаний о ней в русской практике. Летописная статья об отпевании Александра Невского свидетельствует о введении должности епископского иконома при митрополите Кирилле.
Еще одно уподобление византийской структуре церковных должностей мы встречаем в послании митрополиту Кириллу Иакова-Святослава, Видинского деспота, отправленном вместе с переписанной в 1262 г. для митрополита Кормчей книгой. Митрополит Кирилл назван в послании архиепископом «протофроней» (от греч. πρωτόθρονος, первопрестольный). С. В. Троицкий считал это слово обозначением номоканона [Троицки, 1960, с. 22]; однако Я. Н. Щапов и А. Поппэ справедливо показали, что термин относится к главе Киевской митрополии, Кириллу [Щапов, 1978, с. 142–149; Поппэ, 1996, с. 470–471]. Как заметил А. Поппэ, термин может как отражать представления Иакова-Святослава о русском митрополите, так и воспроизводить наименование митрополита из несохранившегося послания от Кирилла к Видинскому деспоту с просьбой прислать новый сборник церковных правил. Судя по разнообразию написаний термина «протофроня» в рукописях, начиная с Рязанской Кормчей (1284) [Щапов, 1978, с. 149–150], он оставался непонятным русским книжникам и поэтому оказался неприменим к церковной иерархии Киевской митрополии после смерти митрополита Кирилла. Однако в Бдине, где контакты с греческим миром были более регулярными, чем на Руси, наименование Киевского митрополита «первопрестольным» было естественным. В 1250-х – начале 1260-х годов, когда в северной и восточной частях Киевской митрополии оставалось всего три архиерея: Новгородский, Ростовский и Сарайский (с 1261 г.), митрополит Кирилл также выступал как епархиальный епископ, совершая погребения и венчания, рукополагая и освящая церкви. В отличие от иных уцелевших архиереев, для него не существовало канонических препятствий в священнодействии на всей территории митрополии. Возможно, такое наименование позволяло митрополиту объяснить свое чрезмерно активное участие в жизни как вдовствующих, так и действующих епископий.
Таким образом, митрополит Кирилл вводил в церковную структуру Киевской митрополии изменения, приближавшие ее к Константинопольской церкви. Однако наиболее решительное нововведение было предпринято им в 1273 г., в его последний приезд во владимирскую землю перед тем, как он надолго удалился в Киев. В это время состоялся не только собор, о котором шла речь выше, но и хиротония епископа Серапиона.
В хиротонии принимали участие четыре епископа[16] – все действующие архиереи центральной и восточной части Киевской митрополии[17]. Хиротония Серапиона состоялась непосредственно в начале соборных заседаний, в присутствии всех четырех епископов, о чем сказано в intitulatio актов собора [РИБ, т. 6, стб. 83]. Летописи сохранили известия о семи хиротониях, совершенных митрополитом Кириллом, хотя на деле их было больше – нет записей о возведении на кафедру епископа Полоцкого Симеона, неясно время возведения на кафедру Владимиро-Волынских епископов[18]. Лишь одна хиротония, епископа Новгородского Далмата в 6759 (1251) г., была совершена митрополитом вместе с епископом Ростовским Кириллом. В остальных случаях, судя по летописям, митрополит рукополагал единолично как до, так и после 1273 г., несмотря на требование правила Ап. 1, чтобы в епископской хиротонии принимало участие не менее трех архиереев [Бенешевич, 1906, с. 62]. Очевидно, это оставалось невозможным на протяжении долгого времени после Батыева нашествия. Если это так и летописи не умалчивают об участии в хиротониях иных епископов, то рукоположение епископа Серапиона выделяется соборностью.
Однако самым необычным было посвящение епископа. Наиболее ранние Троицкая и Симеоновская летописи сообщают, что Серапион был поставлен «епископом Ростову, Володимерю и Новугороду» [ПСРЛ, т. 18, с. 74; Приселков, 2002, с. 332][19]. Такой перечень кафедр (три вместо одной, причем на двух из них сидели здравствующие епископы) изумлял средневековых книжников так же, как и современных исследователей. Пытаясь обойти противоречие, книжники редактировали известие, изменяя список кафедр: «Володимеру и Суздалю» [ПСРЛ, т. 15, с. 404; т. 20, с. 168; т. 23, с. 89], «Ростову и Владимиру» [Там же, т. 30, с. 95], «Володимерю, Суждалю и Новугороду Нижнему» [Там же, т. 25, с. 151]. Н. М. Карамзин, цитируя известие по Троицкой летописи, предлагал под Новгородом понимать Нижний Новгород [Карамзин, 1833, с. 26 (второй нумерации), примеч. 143]. Однако для XIII столетия нет ни одного известия о Нижнем Новгороде как церковном центре. Казалось бы, сходные известия нередко встречаются на листах летописей, например, о поставлении в 6736 г. (1228) Митрофана епископом «Суздалю и Володимерю и Переяславлю» [ПСРЛ, т. 18, с. 53]. Однако это обманчивое сходство: во всех подобных известиях называются крупные центры той же епархии, в которых находились кафедральные соборы и митрополичьи подворья, а не центры разных епископий.
Учитывая, что позднейшие летописи варьируют сочетание тех кафедр, которые одинаково названы в двух старших летописях, нет оснований для использования каких-либо интерполяций. Можно полагать, что митрополит Кирилл хиротонисал Серапиона, поручив ему три кафедры: Владимир, Ростов и Великий Новгород в присутствии Ростовского и Новгородского архиереев. При этом в постановлениях собора 1273 г. для епископа Серапиона указана единственная кафедра – Владимир[20]. Очевидно, именно она являлась главной в этом списке – той, которая именовалась в чине хиротонии; подобно тому, как для епископа Феогноста назван лишь Переяславль, а Симеон указан как епископ Полоцкий.
Этому можно найти единственное объяснение: митрополит Кирилл выбрал Серапиона митрополичьим экзархом. На Руси с ранних времен были известны «владычные наместники», многократно упоминаемые в текстах XIII в., однако их деятельность ограничивалась административными и судебными задачами[21]. Наместники ни разу не упоминаются в качестве священнослужителей, выполняющих функции архиерея.
Экзарх как особое должностное лицо не упоминается в древнерусских текстах; даже в переводной литературе до XVI в. этот грецизм появляется лишь однажды, в Древнеславянской редакции Кормчей книги [Срезневский, Материалы, т. 1, ч. 2, с. 822; Бенешевич, 1906, с. 120][22]. Однако в тексте греческого номоканона слово ἔξαρχος встречалось чаще, и во всех остальных случаях оно переводилось как «начальник» [Максимович, 2010, ч. 1, с. 151; ч. 2, с. 405]. Выражение ὁ ἔξαρχος τῆς διοικήσεως и ὁ ἔξαρχος τῆς ἐπαρχίας встречается в греческом тексте в правилах 4 Всел. 9 и 17, а также Сард. 6, причем при переводе последнего правила понятие «экзарх» было раскрыто: «глаголю епископа митрополиискаго» [Бенешевич, 1906, с. 284, 13–14]. В правилах 4 Всел. 9 и Сард. 6 часть текста, упоминающая об экзархах, исключена редакторами. Это позволяет предполагать, что, ставя епископа Серапиона надо всеми действующими епископиями северной части Киевской митрополии, Кирилл действительно намеревался дать ему статус «начальника (экзарха) диоцеза, епископа митрополитского». Необходимость возвести будущего экзарха в сан архиерея, чтобы он мог совершать всю полноту священнодействий, а не ограничивался функциями наместника, вершившего митрополичий суд, понудила Кирилла возобновить еще одну вдовствовавшую со времен Батыя епископию – Владимирскую. В этом не было необходимости, пока сам митрополит находился во Владимире почти постоянно.
Очевидно, долгое пребывание Кирилла во Владимире сделало Киевский престол титулярной митрополией. В этом не было ничего необычного в XIII в., когда постепенный захват османами одного восточного города за другим превратил в титулярные целый ряд восточных патриархатов и епископатов; после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. вплоть до 1261 г. Константинопольские патриархи, жившие в Никее, также были титулярными. Однако в конце жизни Кирилл решил вернуться в город, где находился престол митрополии; именно с этим решением, надо полагать, связано его намерение поставить Серапиона над епархиями в Северо-Восточной Руси и Новгороде, поскольку в эти земли сместился центр политической жизни.
Плану митрополита не суждено было сбыться. Серапион умер через год, и нового епископа Феодора Кирилл поставил в 6784 (1276) г. только во Владимир, не делая больше попыток установить общее управление северными епархиями. В 1274 г. в Новгороде появился новый епископ Климент; Сарайский епископ Феогност находился в Константинополе на соборе; с Ростовским епископом Игнатием митрополит Кирилл, возможно, был в натянутых отношениях, если учесть острый конфликт между ними в 1280 г., чуть не закончившийся для Игнатия лишением сана. Можно предположить, что даже если митрополит хотел сделать еще одну попытку поставить экзарха, в 1276 г. он уже не мог рассчитывать на столь твердую поддержку епископов, как в 1273 г.
Собор 1273 г. и нерешенные вопросы
Церковный собор во Владимире, состоявшийся в 1273 г.[23], был единственным в Киевской митрополии, постановления которого были записаны в виде актов, с формуляром, близким к актам Константинопольских синодов. Подобные соборы, деяния которых были бы зафиксированы, неизвестны вплоть до XVI в., когда в Москве был созван собор в 1503 г., а затем Стоглавый собор в 1551 г., а в Великом княжестве Литовском – собор в Вильно в 1506 г. В XVI столетии, после многочисленных дипломатических контактов с Римской и Османской империями, после подробнейших описаний деяний Флорентийского собора представления о документации, необходимой для сохранения принятых решений, были совсем иными, чем в более раннее время. Для XIII в. запись деяний собора была необычным явлением и не повторялась в последующие годы, например, во время собора в Переяславле Залесском в 1280 г. Стремление митрополита Кирилла подготовить акты так, чтобы они ни у кого не вызывали сомнений, проявилось как в обосновании каждого синодального решения правилами вселенских и поместных соборов, так и в intitulatio – перечне архиереев, принимавших участие в соборе. Как было показано выше, титулатура в этом перечне носит официальный характер и представляет архиерея с тем титулом, с которым он был рукоположен.
Архиерейская хиротония Серапиона, состоявшаяся перед обсуждением насущных вопросов, позволила митрополиту Кириллу увеличить до пяти число епископов на все русские княжества от Сарая до Новгорода, от Переяславля Русского до Твери: Далмат, архиепископ Новгородский, Игнатий, епископ Ростовский, Феогност, епископ Переяславский и Сарайский, Симеон, епископ Полоцкий и Тверской, и Серапион, епископ Владимирский [Поппэ, 1996, с. 443–445; Preiser-Kapeller, 2008, S. 489–535]. Вслед за хиротонией иерархи совместно вынесли решения по ряду вопросов, большинство из которых было связано с различиями в представлениях об обязанностях разных степеней клириков. Постановления собора 1273 г. сохранились в рукописи, практически современной событию: в списке Новгородской Синодальной Кормчей 1280–1282 гг.[24] При его издании А. С. Павлов условно выделил в деяниях собора литературное предисловие и шесть статей [РИБ, т. 6, стб. 84–99]; ниже для удобства мы будем придерживаться этого деления, несмотря на то что многие выделенные исследователем статьи достаточно разнообразны по содержанию.
Предисловие. Вступление к постановлениям собора написано от первого лица и представляет собой обращение митрополита к участникам собора. С первых строк митрополит сосредоточивается на основной теме – появлении в русских землях церковных правил, которые способны и защитить, и просветить страждущих. Предисловие к соборным постановлениям включает цитаты из текстов Кормчей книги, обсуждение которой было одной из задач собора. И. И. Срезневский и вслед за ним Я. Н. Щапов обратили внимание на пространную цитату в предисловии из записи создателей Сербской редакции Кормчей, сохранившейся в копии в Рашском списке 1305 г.: «Помрачени бо бѣху прѣжде сего облакомь мудрости елиньскаго езыка, ныня же облисташе, рекше истлькованы быше, и благодѣтию Божиею ясно сияють, невѣдѣния тму отгонеще, и все просвѣщающе свѣтомь разумнымь, и от грѣхь избавляюще» [Срезневский, 1897, с. 81–84; Щапов, 1978, с. 182]. Именно эти слова наиболее наглядно показывают отношение митрополита Кирилла к новому своду церковных правил с толкованиями, пролившему свет на трудные для понимания постановления.
Еще одно яркое сопоставление церковных законов с крепкими стенами, защищающими Церковь, также является заимствованием из нового сербского перевода Кормчей книги: «пречистыми законоположении, акы нѣкыми стѣнами чюдными оградивше Божию церковь» [Корогодина, 2019, с. 307]. Эти слова взяты из «Томоса единения» – постановления Константинопольского синода, осуждающего четвертый брак византийского императора Льва VI. В славянской традиции «Томос единения» получил значение сочинения, посвященного деятельности епископата в церкви [Корогодина, 2019, с. 300–305].
Стилистически и тематически предисловие делится на две части: первая полностью посвящена прославлению «истолкованных» апостольских и соборных правил, которыми Господь просвещает неразумных. Вторая часть, существенно меньшая по размеру и открывающаяся словами: «Кыи убо прибыток наслѣдовахомъ, оставльше Божия правила?..», построена на череде риторических вопросов, живо рисующих картину разорения земель монголами как наказание за несохранение правил святых отцов. Именно вторая, риторическая часть находит параллели в более раннем поучении епископа Серапиона, бывшего одной из центральных фигур на соборе во Владимире. Близость текстов позволила В. В. Колесову предположить, что автором Слова являлся сам Серапион [Колесов, 1981].
Как мы увидим далее, в подготовке постановлений собора 1273 г. принимали участие архиереи разных кафедр, так что текст правил является соборным по сути. Можно полагать, что не только формулировка вопросов для собора, но и подготовка предисловия была результатом соборного творчества, так что предисловие не следует воспринимать в качестве непосредственной записи обращения митрополита к присутствующим. Разные риторические приемы, стиль и тематика, бросающиеся в глаза при чтении, могут свидетельствовать о том, что в окончательный текст вошли фрагменты речей как митрополита Кирилла, так и епископа Серапиона, составившие первую и вторую части предисловия. Это неудивительно, поскольку Серапион – книжник, привезенный митрополитом из далекого Киева и поставленный над тремя епархиями, – должен был привлекать внимание и, вероятно, обратился с собственной речью к участникам собора.
Стилистически выдержанное, эмоционально окрашенное предисловие пользовалось немалой популярностью на протяжении следующего столетия и неоднократно цитировалось в сочинениях XIV в. Выдержки из него вошли в Мерило праведное [Вершинин, 2019, с. 162–163, 230] – ключевой древнерусский свод церковных и гражданских законов, помимо Кормчей книги. В этом пространном юридическом сборнике, опиравшемся на сформированную при митрополите Кирилле Кормчую книгу, использование правил собора 1273 г. выглядит естественным. Более неожиданным является цитирование предисловия к постановлениям собора в Слове о житии Дмитрия Донского, в котором образное сравнение церковных постановлений со «стенами чюдными», ограждающими Божию церковь, использовано буквально для рассказа о возведении каменных стен вокруг Москвы [РИБ, т. 6, стб. 85; ПСРЛ, т. 6, с. 492].
1 статья. Поставление клириков. Основная тема статьи – запрет епископам взимать мзду за поставление в священный сан и установление «уроков» – фиксированной платы клирошанам за «пение» молитв во время хиротонии. Таким образом, проводилась четкая грань между оплатой клиросу за совершение требы и «мздой» за получение сана. Говоря об установлении платы клирикам, митрополит Кирилл пишет от первого лица: «Не взимати же у нихъ ничтоже, развѣ якоже азъ уставихъ въ митрополии, да будеть се въ всѣхъ епископьяхъ: да възмуть клирошане 7 гривенъ от поповьства и от дьяконьства от обоего» [РИБ, т. 6, стб. 92]. Таким образом, дополнительная плата за «сверхурочную» работу являлась нововведением митрополита, которое он распространил на все епископии. Иные формулировки использованы при осуждении взимания денег за получение сана: «емля от него что, свящая на мьздѣ, рекомое “посошное”» [Там же, стб. 89]. Отсылка к общеизвестному термину «посошное», очевидно, хорошо знакомому современникам митрополита Кирилла, указывает на то, что речь идет о давно устоявшемся обычае.