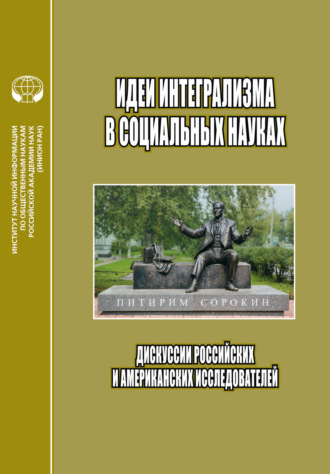
Полная версия
Идеи интегрализма в социальных науках. Дискуссии российских и американских исследователей
Истина чувств, согласно Сорокину, является доминирующей ментальностью современной культуры, и именно она несет ответственность за то, что ценности более не содержат в себе ничего абсолютного, божественного и священного. Ученый видел, что в западных культуре и обществе начинается распад чувственной ментальности и им предстоит переход к новой культуре, у истоков которой будут стоять великие религиозные и этические лидеры.
Сорокин сформулировал интегральную теорию истины, объединившую все три способа познания, с целью создания новой доминирующей социокультурной суперсистемы, которая будет ближе к абсолютной истине. Проводником такого преобразования должен явиться альтруизм, который станет основной ценностью, определяющей человеческие взаимоотношения.
Сорокин подчеркивал, что в основу должны быть положены сверхсознательные интуиции, опирающиеся на разум и эмпиризм – этот метод позволит социальным наукам прийти к универсальным моральным истинам, которые будут направлять человеческое поведение.
Сорокин утверждал, что неспособность людей достичь мира на национальном и международном уровнях обусловлена недостатком у нас знаний о свойствах и распространении любви среди человечества. Он призывал социальных ученых исследовать свойства сверхсознания и методы альтруистического воспитания. Как замечает Родс, усилия Сорокина по моральной трансформации общества способствовали ослаблению жесткого сциентистского контроля над социальными науками. Сорокин показал, насколько ошибочен взгляд, согласно которому как теоретические, так и эмпирические исследования могут осуществляться лишь с позиций ценностной нейтральности.
В третьей главе Барри В. Джонстон описывает, какой, в соответствии с интегрализмом Питирима Сорокина, могла бы быть истинная социальная наука. Ответом Сорокина на постоянные исторические изменения стала интегральная культура, основанная на чувствах, разуме и вере, которые вместе создадут сбалансированную культуру и гармоничную личность, благодаря чему моральный релятивизм уступит место универсальным ценностям. Согласно Сорокину, отмечает Джонстон, основой просоциального поведения служит любовь, которая должна научить людей действовать альтруистически, помогая друг другу и сотрудничая в личных и социальных взаимоотношениях. Религия, со своей стороны, привнесет нормы, которые будут направлять альтруистический потенциал, способствуя преодолению эгоистического самолюбия. Сорокин предложил создать правительство из обладающих альтруистическим талантом интеллектуалов и мировых религиозных лидеров, которые установили бы ряд моральных принципов, необходимых для социальной реконструкции и прогресса. По словам Джонстона, Сорокин верил, что продвижение альтруизма в человеческих группах будет способствовать тому, что значение, придаваемое современностью эгоистическому индивидуализму, снизится – в результате ослабнут связывающие людей обязательства, приводящие к распаду гражданского общества.
В четвертой главе Лоуренс Т. Николс очерчивает основные темы интегрализма и позитивной психологии, а также сходства и различия между данными теориями. Сорокин в своей интегральной теории описывает чередование двух типов ментальности – идеационального (духовного) и чувственного (материалистического), а также промежуточного типа, носящего имя идеалистического (основывающегося на разуме), – процесс, наблюдавшийся на протяжении двух с половиной тысяч лет греко-римской и западной истории. Ученый видел, что доминирование чувственной культуры на Западе подходит к концу, и на смену ей должна прийти идеациональная или идеалистическая культура.
В своем анализе изменений Сорокин применял принцип, который он именовал пределом и при котором культурные ментальности многократно трансформируются в собственные противоположности в силу неадекватности их базовой посылки относительно того, является ли реальность духовной или материальной. По его предсказанию, западная культура вступит в фазу трехмерной интегральной культуры, характеризующейся тремя каналами познания: физический аспект реальности понимается с помощью чувств, сфера идей – с помощью разума, а канал, недоступный для чувств и разума, познается с помощью интуиции. Сорокин отдает первенство интуиции, которую он часто называл истиной веры, что отражает его представление о важности трансцендентного и духовного – представление, приводящее его к выступлениям в поддержку альтруизма и благожелательной любви, которые должны способствовать преодолению социокультурного кризиса Запада.
Селигман критикует психологию за ее пренебрежение позитивной стороной жизни и, соответственно, излишнее внимание к страданию (модель, ориентированная на болезнь) вместо счастья. Чтобы исправить ситуацию, Селигман изучает приобретенный оптимизм, а также сильные черты характера и добродетели. Он связывает персональный пессимизм с преходящим чувством отчаяния, которое человек ощущает в данный момент жизни. Он утверждает, что крайний пессимизм, как правило, заставляет индивидов объяснять неудачи собственными недостатками. Для преодоления индивидуализма, провоцирующего пессимизм, согласно Селигману, необходимы самопожертвование и деятельность, которая способствует благосостоянию сообщества.
Важным измерением позитивной психологии являются сильные черты характера и добродетели. В рамках своего исследования Селигман заключает, что существует шесть универсальных добродетелей: мудрость и знание, мужество, гуманность, справедливость, умеренность и трансцендентность. Он предполагает, что данные добродетели, вероятно, возникли в ходе эволюционного процесса, отбирающего качества, которые позволяют людям решать задачи, необходимые для выживания, и создавать хорошее общество и гармоничных индивидов.
Селигман описывает Бога, который не является сверхъестественным существом, а эволюционирует как результат человеческой креативности и добра. В ходе естественного процесса, приводящего индивидов ко все более осмысленной жизни, божественная сущность разрастается и усложняется, становясь, наконец, всемогущей, вездесущей и полной великой доброты. Подобную жизнь, отрицающую эгоизм и стремящуюся к высшему благу для всех людей, Селигман именует священной.
Николс анализирует сходства интегрализма и позитивной психологии. И Сорокин, и Селигман отвергают доминирующий негативистский подход к своим дисциплинам и стремятся найти позитивные альтернативы. Сорокин усматривает кризис во всех основных компонентах культуры, в то время как Селигман видит его, прежде всего, в индивидуальной эгоистической установке. Они разделяют антирелятивистскую позицию, подчеркивая справедливость универсальных стандартов добра. В противовес детерминистской социальной науке ученые признают существование трансцендентного эго, охватывающего духовное измерение реальности и придающего особое значение альтруизму и любви в жизни группы, развивающейся в атмосфере свободы и самоопределения. Оба делают акцент на священной ценности человеческой личности.
Николс указывает и на различия между двумя теоретическими позициями. Сорокин сомневается в достоверности количественного измерения базовых социальных и культурных феноменов, тогда как Селигман является приверженцем количественного измерения сильных черт характера и добродетелей. В сравнении со взглядами Сорокина взгляды Селигмана носят более прагматичный и в меньшей мере пророческий характер. Сорокин практикует диалектический метод, основанный на взаимодействии противоположностей и их переходе друг в друга в рамках тех или иных систем на протяжении длительного периода – Селигман данной стратегии не следует. Интегрализм Сорокина носит теистический характер; в свою очередь, Селигман развивает нетеистическую теологию, в которой Бог возникает в самом конце. Сорокин утверждает первенство истины интуиции, тогда как для позитивной психологии данная позиция не характерна. Сорокин верит в Бога любви, по чьему образу и подобию создан человек, – в этом на него повлияло христианство; на Селигмана же христианские ценности оказали лишь незначительное влияние.
В пятой главе Винсент Джеффрис описывает идеи, разделяемые Сорокиным и Фомой Аквинским, а также то, как философия последнего может обогатить сорокинский интегрализм. Реальность обоим видится состоящей из трех форм познания (а именно чувств, разума и метафизического, или сверхъестественного), необходимых для целостного понимания социальных явлений. Джеффрис демонстрирует, как могут быть использованы идеи Фомы Аквинского о добродетелях и пороках, с тем чтобы переориентировать исследования в области социальных наук в направлении воплощения в жизнь благой, альтруистической любви и достижения счастья. Джеффрис отмечает, что значение, которое св. Фома придает свободной воле, когда человек выбирает между добром и злом, можно анализировать с использованием психологических, социальных и культурных источников в тех или иных ситуационных контекстах. Сорокин также делает акцент на том, что индивидуальные решения в пользу альтруистической любви могут аккумулироваться и в итоге создадут более мирный и справедливый порядок. Сорокин, замечает Джеффрис, помещает смысл интегрализма в контекст взглядов на реальность и ценностей, сконцентрированных в культуре той или иной исторической эпохи. Он полагал, что в сердце современной ему исторической эпохи находится эмпирическая, материальная реальность. Если на смену данной системе истины и знания придет культурная перспектива, основанная на альтруистической любви, люди переродятся и сформируются новые социокультурные структуры. В заключение Джеффрис показывает, что оба мыслителя видели необходимость в культуре, во главе угла которой был бы духовный опыт, проявляющий себя в альтруистической любви.
В шестой главе Барийо критикует современных политологов, делающих ставку на бихевиоралистскую модель. Целью данной модели является создание объяснительной и предсказательной науки. С точки зрения бихевиорализма знание о ценностях не может быть получено научным путем, а значит, они не относятся к сфере политической науки. Однако ценности важны, поскольку ставят вопросы о конечных целях политики, а именно легитимности тех или иных целей и средств, хорошей и плохой политике, правильном и неправильном действии. Барийо отмечает, что бихевиоралистский анализ президентства может сообщить нам об организации Белого дома и инструментах президентской власти, но вопросом о назначении политической власти он не задается.
Придавая своим идеологическим пристрастиям наукообразный вид, бихевиоралист нередко помещает их в центр собственной работы. Результатом этого является радикальный индивидуализм в области морали, соответствующий современной американской культуре; в итоге каждый исследователь выступает с собственным определением хорошей и плохой политики, правильного и неправильного действия.
Сегодня политология игнорирует вопросы этики. Бихевиоралисты обращают внимание лишь на успех / неуспех, законность либо конституционное право и мало говорят о правильном поведении. Согласно Барийо, политической науке следует вернуться к своим корням, коими являются философия, этика и искусство управлять государством. Он желает видеть политику добродетели, отринутую за ненадобностью идеологическими революциями XIX в. Ученый напоминает о четырех главных добродетелях, описанных Платоном, – мудрости, справедливости, умеренности и мужестве, – и политических воззрениях Аристотеля, Фомы Аквинского, Мэдисона и Линкольна, опиравшихся на эти добродетели.
Барийо выступает за религиозный компонент в социальных науках, который поможет ученым в поиске истины, поскольку содержит в себе моральное измерение и понимание справедливости, основанное на естественном праве. Он советует политологам изучать интегральный подход Сорокина к социальной науке, апеллирующий к добродетелям и естественному праву в постижении абсолютной истины о человечестве.
В седьмой главе Барри В. Джонстон исследует условия, необходимые для построения новой теоретической школы в социологии и социальных науках, ориентированной на продвижение католической социальной науки. По мнению Джонстона, создание католической социальной науки потребует объединения естественно-научной модели и интегральной модели Сорокина, которая помимо науки и разума содержит в себе сверхрациональную истину веры. Целью этого является формирование социологии и социальных наук, которые бы акцентировали моральное и духовное развитие как на индивидуальном, так и на институциональном уровне. Для построения теоретической школы католической социологии и социальной науки нужен отец-основатель, харизматический лидер, способный собрать группу ученых из ведущих институтов, которые смогут работать в рамках интегральной модели. Подобная теоретическая школа достигнет успеха, если создаст сети коммуникации, которые смогут оказывать влияние на профессиональные организации, издателей и журналы. Важным шагом в данном процессе, утверждает Джонстон, станет разработка успешных программ постдипломного образования, в рамках которых студенты будут предлагать идеи для исследований и нести послание католической социальной науки новому поколению ученых.
В восьмой главе Барри В. Джонстон отмечает, что грех традиционно рассматривается как отделение от Бога, состояние, для которого характерны эгоцентризм и умышленное пренебрежение благом других людей. В обществе, ставшем более секулярным, грех трансформировался в психологическую проблему. В социологии в грехе предпочитают видеть социокультурную проблему, при этом не разрабатывают алгоритмы, позволяющие обнаружить, как зло укоренилось в общественных институтах.
Джонстон показывает, что интегрализм Сорокина направлен на изучение зла и добродетели, в связи с чем грех может стать объектом социологического исследования. В современной материалистической культуре реальность ограничена чувствами, а духовное считается недоказуемым вкупе с отрицанием Бога или безразличным к нему отношением. Джонстон подчеркивает, что эти взгляды приводят к появлению общества без совести, в котором люди способны использовать любые средства для достижения желаемого.
Социальные науки склонны придерживаться научных норм, которые изображают человека состоящим лишь из разума и тела. Напротив, интегрализм Сорокина основывается на синтезе разума, тела и души, что позволит добродетели стать центром социологического анализа. Интегральная социология, указывает Джонстон, воссоединяет людей с моральным измерением человеческого существования. В этом случае добро и зло, добродетель и грех станут значимыми формами социального действия, смогут занять свое место в социологических теориях и будут для людей руководством к действию.
В девятой главе Лоуренс Т. Николс показывает, как все большее принятие учеными нонконформизма привело к упадку исследований девиантности. Для возрождения данных исследований Николс рекомендует обратиться к интегрализму Сорокина. Сорокин обозначает три формы истины – интуицию, разум и чувства, – причем каждый тип знания корректирует и уравновешивает два других. Эти формы истины должны воплотиться в синтезе религии, философии и науки, который станет ключом к интегральной жизни; такая жизнь будет вдохновлена любовью и наполнена творческим опытом, а опорой для нее станет взаимопомощь, исходящая из требований духовности.
Николс намечает контуры исследования девиантности, опирающегося на интегрализм, с учетом того факта, что для последнего характерен баланс негативной и позитивной девиантности. Сорокин делал акцент именно на позитивной девиантности, примером которой служат выдающиеся творческие личности и моральные эталоны – прежде всего, альтруисты. Он видел в творчестве и альтруизме духовные явления, основанные на внутреннем свободном выборе, который осуществляется в ситуации, когда людям необходимо преодолевать некие преграды, чтобы реализовать свой глубинный потенциал. Интегральная парадигма подчеркивает универсальный характер моральных стандартов поведения, разделяемых основными и мировыми религиями. Сорокин рассматривал те или иные действия как конформистские или девиантные с точки зрения множественных исторических и культурных контекстов, в которых они осуществляются. Николс утверждает, что новая парадигма в исследованиях девиантности, базирующаяся на интегрализме, объединит науку и религию, при этом ключевая роль в ней будет принадлежать человеческой духовности.
В десятой главе Винсент Джеффрис применяет интегральную перспективу к исследованиям брака и семьи. Он описывает, как, утверждая добродетельность благожелательной, или альтруистической, любви, интегрализм может послужить основой возрождения брака и семьи. Важно обучать пары и членов семьи добродетелям, поскольку именно в семье человек постигает религиозные ценности, говорящие нам о том, как служить благу других людей. Интегральная перспектива подчеркивает важность семьи в приобщении ее членов к благожелательной любви. Когда институт семьи разрушается, она теряет способность прививать базовую мораль, необходимую для социальной гармонии и интеграции в общество в целом.
Общество в целом и культура играют значительную роль в том, насколько успешно семья вовлекает своих членов в практику благожелательной любви. Для культур, сконцентрированных на конкуренции и ценности эгоизма и самолюбия, будут характерны более частые и интенсивные межличностные и межгрупповые конфликты, что несет в себе угрозу для семьи. Джеффрис утверждает, что объединение благожелательной любви со знаниями в области социальных наук представляет собой средство восстановления человечества, обществ и культур, средство, которое может быть применено к взаимоотношениям как между членами семьи, так и между всеми людьми в мире.
В одиннадцатой главе Винсент Джеффрис предлагает, с тем чтобы сформировать интегральную школу мысли в социальных науках, воспользоваться идеями из концепции парадигмы Томаса Куна. Согласно Куну, когда обнаруживаются новые данные, которые не вписываются в общепризнанную реальность той или иной научной дисциплины, появляется новая парадигма. Джеффрис утверждает, что поскольку интегрализм как источник религиозных знаний не вписывается в рамки существующих социальных наук, должна быть создана новая парадигма. Сорокин описывает религию как интуитивное знание, выражающееся в истине веры, которая должна служить основой культуры. По словам Джеффриса, чтобы стать новой парадигмой социальных наук, интегрализм должен обладать такими качествами, как оригинальность и универсальность. Интегрализм оригинален, ведь он не является общепринятой перспективой в социальных науках. Он универсален, поскольку продвигает основанные на вере идеи, в которых добродетель может быть интегрирована в существующую теорию. Кроме того, интегрализм делает акцент на общем предмете культуры, общества и личности, а также понятиях, разделяемых всеми социальными науками, и основывается на религиозных идеях, применимых к любому предмету. Практическое измерение интегрализма находит отражение во внимании Сорокина к средствам, способствующим культурной, социальной и личностной реконструкции и увеличению альтруистической любви.
Джеффрис обозначает три программы, необходимые для развития интегрализма в социальных науках. Эпистемология и онтология должны исходить из истины веры, которая может быть применена к социальным наукам; основанные на вере понятия должны быть применимы к каждой дисциплине; наконец, необходимо показать, как обновление социальных дисциплин может содействовать утверждению интегральной перспективы.
В двенадцатой главе Стивен Р. Шарки подчеркивает необходимость разработки стратегий обучения, которые бы принимали во внимание сильные и слабые стороны современной социологии, о чем в свое время писал Чарльз Райт Миллс. Шарки одобряет подход Миллса, который, желая изменить жизнь к лучшему, стремился понять, что вызывает общественные проблемы, и пытался их разрешить, обнаружив их источник в социальных институтах. Миллс направил свое возмущение социальной несправедливостью в русло политического утопизма, однако такая позиция отчуждает студентов от их собственного мира и заставляет скептически относиться к любой власти. Шарки полагает, что здесь Миллс был не прав, ведь социологические идеологии и личный опыт студентов – разные вещи. Студенты стремятся к восходящей мобильности и личным достижениям, а не к борьбе с системой.
Для преодоления релятивистско-эмпирических тенденций в социологии Шарки рекомендует обратиться к идее Сорокина об интеграции знаний, полученных посредством чувств, разума и веры. Сорокин критикует социологию за отказ от духовных истин и сосредоточение на материалистических воззрениях, принимаемых за стандарт, на основе которого выносится суждение о нормах и ценностях. Шарки подчеркивает: студентам необходимо показать разницу между культурным релятивизмом социологии и сопутствующим моральным релятивизмом. Он полагает, что студенты должны понять роль собственных ценностей исследователя в рамках исследования других культурных систем. Затем они должны увидеть, что некоторые пристрастия предпочтительнее других. Далее студенты должны научиться анализировать культуру с неэтноцентрической точки зрения и понять значение суждений людей. Цель состоит в том, чтобы дать студентам объемное представление о культуре, включающее в себя как разум, так и религиозные принципы.
Шарки рекомендует использовать исследования Сорокина о любви и альтруистическом поведении в качестве руководящего принципа, применимого ко всем людям и обществам. Шарки уверен: интегрализм может сыграть свою роль в обучении нового поколения социологов, которые пойдут дальше антагонизма, гнева и релятивизма на манер Миллса.
В тринадцатой главе Винсент Джеффрис утверждает, что научное исследование морали требует инкорпорации религиозных идей, прежде всего этики, на всех уровнях научного континуума. Джеффрис отстаивает синтез социальных научных исследований и религиозных идей, как рекомендовал Питирим Сорокин в своей интегральной теории. Интегрализм Сорокина предполагает добавление религиозных концепций истины к эмпирико-рациональному анализу в социальных науках. Действенность интегральной системы, по мнению Сорокина, подтверждается тем, что истинная реальность обширнее и глубже, нежели односторонняя истина веры, разума или чувств в отдельности. Он описывает, как религиозные концепции морали, в центре которых – значимые и устойчивые вариации в поведении человека, могут лечь в основу концепции морали в социальных науках.
Согласно Джеффрису, религиозные концепции должны стать основой научного изучения морали, потому что они превосходят и индивидуальные субъективные интерпретации блага, и представления тех или иных исторических эпох о том, что лежит в его основании. Религиозные идеи будут определять содержание морали с точки зрения как положительных, так и отрицательных предписаний. Религиозные этические идеи могут послужить ценностными посылками, которые будут направлять теоретические и эмпирические исследования. Они также содержат в себе критерии желательного и нежелательного для индивидов и социокультурных феноменов. Инкорпорация религиозной этики и идей, близких к универсальным, обеспечит появление социальных концепций, которые смогут преодолеть релятивизм и повысят качество моральной мысли и поведения. «Золотое правило» станет фундаментальным основанием синтеза религиозных идей и социальных наук. В этом синтезе можно вычленить две составляющие: как делать добро и как избегать зла. Существуют три религиозные идеи, связанные с «золотым правилом» и, по всей видимости, имеющие универсальный характер. Это добродетель, грех и десять заповедей.
Понятие добродетели имеет большое значение для науки о морали, поскольку существует консенсус по поводу того, что добродетели приближаются к универсальному стандарту добра и морали и представляют собой положительные предписания «золотого правила». Подобной личностной трансформации, состоящей в стяжании добра, придается особое значение в Ветхом и Новом Завете. Кроме того, добродетели – это неотъемлемая часть проявлений благожелательной любви. Грехи, или пороки, являющие собой отсутствие или противоположность добродетели, суть отрицательные предписания «золотого правила». Фома Аквинский перечисляет грехи, или пороки, и противостоящие им добродетели. С опорой на десять заповедей социальные ученые смогут разработать исследовательские стратегии, с тем чтобы изучить социокультурные условия, под воздействием которых люди соблюдают либо нарушают каждую из заповедей. Здесь заповеди – это зависимые переменные. Заповеди могут использоваться и в качестве независимых переменных – в таком случае задачей исследования будет изучение того влияния, которое на общество и культуру оказывают индивидуальные действия человека, соблюдающего или нарушающего заповеди. Наука о морали, сопряженная с религиозной этикой и научными натуралистическими методами, подчеркивает Джеффрис, позволит социальным ученым сформулировать общие законы, описывающие структуру и динамику культуры, общества и личности.
Список литературыSorokin P.A. Reply to my critics // Pitirim Sorokin in review / ed. by Ph. J. Allen. – Durham (NC): Duke univ. press, 1963. – P. 371–496.


